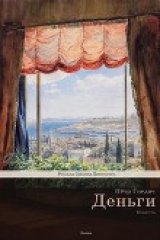
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
VIII
Пароход остановился. До берега ещё было далеко, и надо было пересаживаться в каик. Иван Михайлович подошёл к Тотти.
– До свидания, – сказал он. – И если вам, когда-нибудь что-нибудь будет нужно, – довольно вам будет сказать одного слова.
Она подняла свои густые выгнутые ресницы и встретилась глазами с его взглядом.
– Хорошо, я обращусь к вам, – сказала она.
– Вы даёте слово?
– Да.
– Вы напишите в Александрию и сообщите ваш адрес.
– Госпожа Ламбине! – раздался зычный голос на палубе. – Кто здесь госпожа Ламбине?
– Я! – откликнулась Тотти, и несмело двинулась навстречу выкрикивающему её имя господину. Он только что поднялся на палубу и стоял, расставя ноги и весело поглядывая по сторонам. Лицо его было типичное, греческое. Нос спускался вниз, глаза были карие, острые, – весь он был «хитроумный», как ещё во времена оно, блаженной памяти, Гомер назвал своих соотечественников.
– А-а! – сказал он, окидывая её взглядом с головы до ног. Взгляд этот не был ни плотояден, ни нагл: он был добродушен до цинизма. – Вы гувернантка? К кому вы приехали?
– В семейство Петропопуло.
Он снял соломенную широкополую шляпу.
– Позвольте представиться, – сказал он, – представитель этой фамилии. Где ваши вещи? Я сам вас встретил, чтоб не было затруднения. О вас хорошие рекомендации. Прощайтесь с вашими знакомыми: на пароходе всегда есть знакомые, – и поедем.
Он молодцевато повернулся на каблуках и заговорил с носильщиком по-турецки.
Анатолий в это время уже спускался по лесенке вниз, а за ним, осторожно ступая, шёл бухгалтер. Загорелая рука лодочника протянулась им навстречу и втащила их в колыхавшийся каик. Сильные удары вёслами быстро отнесли их от парохода. Раза два нос их каика зарылся в воду от волны пробегавшего мимо пакетбота, – но потом выровнялся и плавно начал скользить по спокойной ряби залива. Бухгалтер оглянулся назад и махнул шляпою. У борта стоял Иван Михайлович, но он не видел приветствия своего трёхдневного спутника: он смотрел вниз, как Тотти спускалась к каику.
– Оставьте его, – сказал Анатолий. – Ему теперь не до вас.
Над ухом их свистнул пароход, и чёрная масса, вспенивая воду, пронеслась у самого носа, – и опять они вместе с судёнышком провалились куда-то вниз; потом опять их выкинуло на вершину волны, и видно было как мускулистые медно-красные руки лодочника напрягаются, чтобы выгрести и заставить лодку не изменять курса.
– Терпеть не могу воды! – с отвращением заметил товарищ прокурора. – Точно всего охватывает что-то лживое, изменчивое, двуличное. Вообще я не люблю движения. Я привык к комфорту покоя. Меня воспитали две тётки, которые до того заботились обо мне с малых лет, что остаётся удивляться, как я всё-таки остался жив и сохранил человеческий облик.
Бухгалтер не знал, было ли то самобичевание и самоунижение, или он гордился полной изолированностью от всех жизненных тревог.
– Я испытываю какой-то священный ужас при мысли о передвижении, – продолжал он. – Когда во дни юности тётка уговорила меня для расширения кругозора, – они так и говорили: для расширения кругозора – поехать за границу, я в течение полугода был несчастнейшим человеком. Меня бесило грубое постельное белье в Париже, меня бесила итальянская грязь, меня бесила немецкая чистоплотность. Я так обрадовался возвращению домой, что ощутил нечто вроде любви к родине. И если бы не настоятельная необходимость, я никогда бы не уехал из России. Скорей бы готов был прослыть славянофилом.
– Фу, чёрт, как хорошо! – воскликнул бухгалтер, смотря на высокий берег Стамбула.
Товарищ прокурора посмотрел по тому направлению, куда была протянута бухгалтерская рука. Но никакого восторга взор его не выразил, и лицо его было так же огнеупорно, как всегда.
В грязной таможне долго расстёгивали их чемоданы, отпирали замки и рылись со рвением голодной собаки, которая ищет в груде помоев съедобного куска. С ловкостью таксы, разбрасывающей вокруг землю и добирающейся до крота, тощие турки разрывали белье и запускали под него свои грязные пальцы, оставляя жирные жёлтые следы на платках и рубашках.
– Им надо дать бакшиш, – заметил тихо бухгалтер.
– С какой стати! – возмутился криминалист. – Коли хотите – давайте, а я не дам ни гроша.
Бухгалтеру стало смешно: он вспомнил Ивана, – должно быть, тот хорошо знал своего двоюродного брата.
Наконец, после того, как несколько пиастров зазвенело в кармане таможенного, путешественники вырвались на свободу. По чуждым улицам, залитым южным солнцем, пестревшим яркою шумною толпою, они покатили в гору. Бухгалтер зорко присматривался ко всему, точно хотел запечатлеть в своём мозгу то, что проносилось мимолётно перед ним. Его взгляд точно хотел проникнуть через стены, туда, – где за ревниво спущенными драпировками сидят сказочные красавицы, дымится кальян, и одуряющий его аромат усыпляет жительниц гарема. Товарищ прокурора, недовольный ранним вставаньем, кисло и сонно глядел вокруг и только раз обмолвился замечанием.
– Такая же грязь и вонь, как в нашей первопрестольной. Теперь я вполне понимаю, почему Москва – азиатский город.
Ехали они недолго. Их подвёз возница к огромному отелю, из подъезда выскочил негр и стал помогать им высаживаться из экипажа. Зазвенел колокол, – и несмотря на ранний час выбежал сверху молодой человек, имевший вид состоятельного куафёра. Лицо его выражаю почтительность, фрак был безукоризненный, галстук спорил по свежести с ясным утром. Он назвал себя одним из директоров отеля и, узнав желание вновь прибывших, объяснил им, не теряя своего достоинства, что едва ли где-нибудь в Европе они найдут тот покой и комфорт, какой им может доставить эта первоклассная гостиница.
Они пошли по золочёной лестнице, обрамлённой бархатными канатами. Директор так нежно ступал по ступеням, с такой предупредительной почтительностью говорил о превосходстве их заведения, что со стороны его можно было принять за директора департамента, объясняющего новому министру все преимущества их министерства. Товарищ прокурора настаивал на одной комнате с двумя кроватями, – но комнате хорошей.
– Не желаете ли в стиле Людовика XVI? – спросил директор и распахнул перед ними дверь роскошного салона с мраморными каминами, часами, ширмами и козетками.
У Анатолия вспыхнули глаза. Он оглядел комнату и, улыбаясь, сказал спутнику:
– Я бы не прочь взять это помещение.
– Я думаю, что это излишняя трата, – возразил бухгалтер, – меня целый день не будет дома.
– Нет, – отчего же излишняя? – напуская на себя расточительность, заговорил, Анатолий. – Напротив, – я думаю, что это как раз будет то, что надо. Нет, я возьму эту комнату… Вы можете заплатить мне столько, сколько найдёте возможным, – прибавил он.
На пороге открытой двери показалась фигура молодой девушки – голубоглазой, с светлым, ясным лицом, детскими губками и густыми золотистыми волосами. Товарищ прокурора вздрогнул и подался назад.
– Это вы, Наталья Александровна? – сказал он и, сбросив пальто, подошёл к ней.
– Как ваше здоровье? – спросил он уже в коридоре, целуя её руку. – «Чем свет уж на ногах?» Неужели ждали?
Она молча отворила дверь в комнату напротив их номера. Грудь её порывисто дышала, она не могла от волнения говорить.
IX
Когда дверь за ними затворилась, она лёгким, порывистым движением спрятала свою голову на его груди. В этом движении было столько чистоты, любви, радости, что даже товарищ прокурора казался тронутым.
– Ты ждала меня? Ждала? Да? – спрашивал он, поднимая руками её мокрое от слез лицо и целуя её и в лоб, и в щеки. – Ты, по-прежнему любишь меня, да?
Он почувствовал какую-то фальшь в самом звуке своего голоса, но ничего другого сказать ему не приходило на ум.
– Наконец-то, наконец, – шептала она. – Я исстрадалась, измучилась без тебя.
– Ну, зачем же было страдать и мучиться? – полушутливо заговорил он. – Ты знаешь, как я строго держу свои слова и обещания? Если я опоздал на один день, то виной этому карантины: нас задержали в Каваке. Я не мог тебе даже дать телеграммы.
– Я так беспокоилась, Толя, о тебе, – заговорила девушка. – Я так ждала тебя все эти дни: ты знаешь, меня папа беспокоит, очень беспокоит.
Анатолий чутко прислушался.
– Ему хуже? – дрогнувшим голосом спросил он.
– Боюсь, что так. Мне трудно судить, я не расстаюсь с ним. Тебе будет виднее. Мне кажется, – он стал так слаб. Язык его что-то плохо слушается… Мы здесь второй день. Ведь мы живём на море. Папа знал, что ты остановишься здесь и решил выехать тебе навстречу.
– Он спит?
– Спит.
Толя испустил лёгкий вздох.
– Конечно, надо быть ко всему готовым, – сказал он. – Мне в Москве прямо сказали, что болезнь его леченью не поддастся.
Ей больно было это слышать. Она и без него знала, что отец плох, что едва ли есть на земле такая сила, которая могла бы остановить его беспрерывное движение вниз, под гору, к вековечной бездне. Она знала это, и мысль о неизбежном, близком не давала ей покоя ни днём, ни ночью. Зачем же ей снова подчёркивать это, напоминать? Это жестоко со стороны Анатолия. Она чувствовала то, что всегда испытывает близкий человек, на руках которого постепенно тает любимое существо. Больше каким-то инстинктом, чем по осязательным признакам чуется, что в организме совершается страшная, таинственная работа, разрушающая всё и шаг за шагом подчиняющая себе ещё живые, незатронутые органы тела. Задерживать эту работу ещё можно, но остановить нельзя. Точно по чьему-то приказу подымаются и идут полчища таинственных мертвящих всё живое существ, – тех странных микроскопических существ, которых назвали учёные белыми шариками крови. День и ночь в обессиленном теле ведётся борьба этих алых и белых шариков, помимо воли и желания человека. Он спит, а в нем кипит ожесточённая битва. Он просыпается утром и по первому движению чувствует, кто был победителем ночью. И его страшит мысль об ужасающих крохотных существах, что живут в нем и истребляют его.
Но по мере того, как живые силы уходят, и на смену им идут вялые, сухие болезненные временные вспышки прежней бодрости, изменяется и самый дух, что живёт в обессиленном теле. Он привыкает к мысли о том, что эта оболочка непрочна и что вообще всё, что вокруг – также непрочно, скучно, ненужно. Солнце светит неприветно, близкие кажутся чужими, – нет ничего, чтоб влекло и манило к себе. Мысль обращается не назад, а куда-то вперёд. Как будто она что-то видит, прозревает впереди, что-то новое открывается перед нею, – но она ни с кем не хочет поделиться своим просветлением.
У отца Наташи начался уже этот странный период болезни. Он был на ногах, ходил, говорил, хотя язык как-то неохотно слушался его. Иногда вспыхивали прежние порывы его подвижной, сангвинической натуры. Но это были последние всплески утихавшей волны. Он скоро утомлялся, всё ему казалось противным, на всё он смотрел, как на тяжёлую повинность. Ещё недавно – известный адвокат, гремевший на всю Россию, тонкий вивисектор человеческой души, психолог, удивлявший блестящим анализом специалистов-экспертов, теперь он был беспомощным, жалким преждевременно поседевшим, осунувшимся стариком. Ещё год назад, во время громкого дела – отравления из мести целой семьи, – он произнёс ряд речей, с такими цитатами, ссылками, указаниями, неожиданными выводами, он так блеснул тем, что газеты называют «энциклопедической эрудицией», он так смело добивался и добился оправдания подсудимых. Теперь ему запретили думать и вспоминать о судебных делах. Да он и не думал о них. Он понимал, что его партия проиграна и что надежды на выздоровление нет.
Он бодрился при дочери. Ему не хотелось её огорчать. Он собирал остатки своих падающих сил, чтобы казаться порою оживлённым, заинтересованным. Он просил её читать газеты и, когда она принималась за чтение, уходил мыслями куда-то далеко-далеко, и она видела по его лицу, что он ничего не слышит и не видит. Его послали доктора сюда – именно на острова Мраморного моря. Они полагали, что мягкая прелесть этих островков, их праздничная жизнерадостность, умиротворяющая ласковость красок помогут больному телу. И ему самому казалось, что он здесь легче дышит, что страдания стали как будто тупее. Но его не тянуло ни разу проехаться по Босфору, посмотреть кипучую жизнь Стамбула, войти в древние мечети, побродить под тёмными кипарисами мечтательного Скутарийского кладбища. Ему было приятно одно: сидеть в широких, покойных креслах и смотреть на багровый диск солнца, опускающийся в пушистый полог вечерних золотых облаков, слушать щебетание хлопотливых птиц, смотреть, как тени ползут и сгущаются на далёких горах. Он часами сидел неподвижно и следил, как пушистое облачко тихо подплывало к горной вершине, зацеплялось за него, скатывалось клубом и медленно ползло по расщелинам, окутывая своим туманом отроги и изломы скал. Он слушал, как плескало море, как звенел далёкий пароходный колокол, как гулко нёсся по воде шум от винта и колёс. Он сидел и думал.
А думы были нового, совсем нового рода. Его блестящее прошлое казалось таким далёким-далёким, точно он пережил его не здесь на земле, а где-то на другой планете, сюда же перенесён только для того, чтобы оглянуться на прошлое.
И он, иногда, особенно в бессонные ночи, вглядывался в длинную ленту разных событий, столкновений, встреч, которые составляли сущность его жизни. То он видел себя гимназистом, с бутербродами в кармане, бегущим по дождю в классы, волнующимся по поводу тех отметок, что ставили ему педагоги. И ему смешно стало, что это волновало и трогало его. То он вспоминал лихие студенческие кутежи, – такие, что небу становилось жарко, вспоминал бесшабашную удаль, силу, здоровье, – и веру, главное веру в будущее, в прекрасное будущее. Навстречу ему волшебным замком выплыла реформа судебных учреждений, и он рыцарем новых судов выступил на арену жизни. Гибкий ум, отзывчивость, врождённое красноречие, юмор, – все это сплелось в один сверкающий венок, и не только толпе, но и ему самому казалось, что он триумфатор, и нет ему равных. Был период, когда он не знал неудачи, когда стоило ему появиться на трибуне, чтобы все, – и заседатели, и судьи, и защитники, зачарованные им – склонялись на его сторону, и всем им казалось, что он представляет из себя единственный источник правды. Он всегда был убеждён в правоте своего клиента и в жертву этой правоты приносил всё остальное.
И на фоне этой живой деятельности, водоворотом тридцать пять лет крутившей его, неслась его частная жизнь, с лёгкими победами над «уголовными» дамами, толпами сбегавшимися в залы суда, над благодарными клиентками, просто над дамами из общества. Ни женитьба на хорошенькой девушке, ни скорая её смерть после родов не изменили его характера, – он увлекался всякой красивой женщиной, как увлекался всяким процессом, и ему казалось – иногда в течение нескольких месяцев – что он искренно любит Марию Ивановну или Анну Борисовну. Только когда дочери минуло шестнадцать лет, и он однажды заметил, как она разговаривала с художником, дававшим ей уроки, и как на неё смотрит этот художник, – только тогда он догадался подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на себя.
Лицо было хорошо ему знакомо: тот же четырехугольный лоб, серые весёлые глаза, слегка толстый, приподнятый нос, те же белые, наполовину фальшивые зубы. Но сколько седины было на висках и как мало волос на темени! Какие глубокие борозды легли под глазами, как сморщились веки. Он посмотрел на свои руки. И руки, его красивые холёные руки, стали не те. Они как-то блестели, местами кожа морщилась, на суставах отвисали мешочки. Он сел в раздумье, хотел быстро встать и заметил, что сделал усилие, которого прежде не приходилось делать. И он понял, что пора остановиться.
И он неторопливо, осторожно, разорвал все свои связи и весь отдался воспитанию дочери. Он начал ей читать всемирную литературу, начал возить её по европейским музеям, и с тонкой, острой эстетической прозорливостью внушал ей любовь к меланхолично-исступлённым итальянцам дорафаэлевской эпохи, к портретам Гейнсборо, к миниатюрам Фортуни. Он сам прочёл ей «Мадам Бовари», когда они жили лето в Динане, он сам возил её в Париже смотреть фарсы Пале-руаяльского театра и надрывался от смеха, когда неизбежный нотариус, потеряв, в силу разных случайностей, нижнюю часть своего туалета, принуждён был идти домой в таком виде…
И вдруг подкралась болезнь. Сперва исподволь она давала себя знать; потом всё сильнее и сильнее завладевала им и вдруг охватила так крепко и властно, что он понял, что возврата нет.
Да он и не хотел возврата. Прошлое утратило всю свою прелесть. Одна дочь привязывала его к жизни. А больше ничего не осталось. И он, как древле Соломон, вдруг сознал, что всё – только одно томление духа.
X
И эту ночь, перед приездом будущего зятя, он не спал. Ему тяжело дышалось в Константинополе. Душной ночью он вставал, стараясь тихо ступать по полу, чтоб не разбудить дочь, подходил к окну и подолгу сидел, прислушиваясь к ночным звукам огромного города. В окно глядели задумчивые звезды. Он смотрел на них, и ничего не думал, но не мог оторвать от них взгляда. Они глядели на него ласково, умиротворяюще, точно тихий ток лился на него. Он брался за голову. Виски были тяжелы и вздуты.
– Ах, скорей бы! – шептал он.
Трудно было понять, он и сам не понимал, к чему относится это «скорей бы». Хотел ли он смерти, хотел ли он скорее увидеть Анатолия. Только перед рассветом он заснул. Но теперь, услышав полутихие голоса за дверью, он поднял голову, прислушался и стал одеваться.
Когда он вошёл в комнату, Анатолий почтительно поднялся ему навстречу. Они поцеловались. Старику показалось, что Анатолия смутила перемена его лица и что в самом поцелуе была какая-то брезгливость.
– А что, очень я того? – пытливо спросил он.
Анатолий как-то поперхнулся.
– Нет, что же! – быстро заговорил он. – Нет, ничего, – вы похудели. Вот и всё.
Старик посмотрел на него подозрительно.
– Нет, не всё, – сказал он. – Далеко не всё.
– Ну, полноте, Александр Дмитриевич, – возразил товарищ прокурора и взял его под руку. – Вы – ипохондрик.
– Да… а! – как-то болезненно протянул он и показал ему руку. – Видите, пальцы какие. Каждая фаланга видна. Всю кость видно. А разве было это прежде. А?..
Дочь повернулась и пошла из комнаты. Александр Дмитриевич проводил её тревожным взглядом.
– Она меня смущает, – торопливым шёпотом договорил он.
Анатолий встрепенулся.
– А что?
– Беспокоится обо мне. Я слышу, как ночью она подходит к моей двери и прислушивается. Я вижу на её лице чувство сожаления ко мне. А это тяжело. Это тяжелее, чем вы думаете.
Он сел в кресло, к окну, и тусклыми глазами посмотрел на панораму Золотого Рога.
– Она вас любит, – подтвердил будущий зять и посмотрел на драпировки, из чего они сделаны, даже рукой, как будто случайно, потрогал.
– Лю-юбит, знаю, что любит! – всхлипнул он. – А вот вы… вы-то…
– Я люблю вас, – сказал он, наклоняя слегка голову с прекрасным пробором.
– Не то, не то! – почти крикнул Александр Дмитриевич и махнул рукою. – Я не про себя. Её-то вы… её ты любишь ли?
Анатолий строго глянул на старика.
– Без чувства брак немыслим, – сказал он.
– Будешь ли ты беречь её? – продолжал старик, привлекая его к себе. – Она такая чудесная, светлая, чистая. Побереги её. Не будь тем, что все, не смотри на жену, как на что-то неизбежное в хозяйстве. Ты об этом хозяйстве подумай…
Он похлопал его по груди.
– Ты берёшь не светскую балалайку. У неё душа есть. Да душа-то какая, – вся насквозь видна.
– Поверьте, – с достоинством ответил Анатолий, – я постараюсь, чтоб жизнь её…
– Нет, ты не старайся, – перебил он. – Хуже всего стараться. Ты, не стараясь, так, от всей души полюби, побереги её…
Анатолий как будто даже обиделся.
– Я не знаю, – заговорил он, – подал ли я повод…
– Ну, не подавал, не подавал повода, – залепетал Александр Дмитриевич, сжимая его руку, и две слезы покатились по его щекам.
Анатолий давно уже не видел слез на таком близком расстоянии и не без любопытства посмотрел на крупные их шарики. Он невольно поморщился при мысли, что старик, чего доброго, опять прижмёт его к себе и вымажет ему лицо слезами.
– Я, ну конечно, не прав. Ты, конечно, такой корректный… Но ты не сердись на меня, – ты уж очень мало даёшь порывов. Я не понимаю человека без порывов, – он сух.
– Во мне порывы есть, – возразил Анатолий Павлович, – но я их сдерживаю.
Александр Дмитриевич выпустил его руку.
– Ну, видите, вы какой умный, – сказал он, – даже порывы можете сдерживать… Ну, да не будем об этом. Я рад, что приехали… Я всё боялся.
– Вам нечего было бояться, если я обещал…
– Да опять не то… Я боялся умереть внезапно, тут. Что бы она одна, девочка, с глупым старым покойником. Ну, а теперь ты… Я хотел вас просить… Нельзя ли скорей свадьбу? Мы здесь найдём много православных попов, – и вам никакого затруднения не будет.
Анатолий наморщил кожу на лбу.
– Я об этом не думал, – сказал он, – но если вы находите нужным, то я не прочь… Для вас я могу поступиться… Хотя, мой фрак, кажется, не со мной…
– К чёрту фрак, к чёрту! – крикнул Александр Дмитриевич и схватился за грудь.
В дверях показалась дочь, испуганная криком.
– Что с вами? – спросила она, подходя к отцу и обнимая его голову.
Она всегда называла его «вы», и отец говорил, что это более «в стиле».
– Да вот он, говорит, что без фрака не хочет под венец… А, чёрт, какая боль…
Девушка подала ему воды. Он сделал несколько глотков и откинулся на спинку кресла.
– Фу! – сказал он. – Ну, да это потом, потом. Теперь не станем думать о будущем, а пока живы – жить и дышать. Корми его завтраком, да поедем куда-нибудь к морю. Вы, кажется, не одни приехали, с вами есть кто-то?
– Так, бухгалтер, – небрежно сказал Анатолий.
– А то бы мы его взяли?
– Зачем? Да мы куда едем?
– Поедем по городу. Я ещё не видел ничего. Я в Софии до сих пор не был. Ну, давайте мне мой кофе…
– Я только переоденусь с дороги, я сейчас вернусь, – проговорил Анатолий и пошёл к себе.
Бухгалтер уже выпотрошил свой чемодан и разложил по всем стульям всевозможное платье и белье. Анатолий поморщился, но не сказал ни слова. Он щелкнул французским замком и, отворив свою парижскую корзинку, вынул коробку конфет. Это был подарок невесте. Он взял их было, но потом сообразил, как глупо будет такое подношение.
– Вы сладкое любите? – спросил он у бухгалтера.
– Натощак?
– Нет, вообще.
– Вообще – да.
– Так вот не хотите ли?
Он открыл коробку и поставил перед ним.
– Ваша невеста – красавица, – заметил бухгалтер, поворачивая к нему красное от натуги лицо.
– Разве? – удивился Анатолий.
– Да. Я видел её мельком, но этого довольно. Красавица.
Товарищ прокурора был доволен. Но, желая скрыть это довольство, он равнодушным тоном заметил:
– Вы один завтракайте, – я не буду.
– Ну? А я на двоих заказал, – сокрушённо проговорил Перепелицын.
– Ну, и скушайте во славу Магомета, – а я буду завтракать у своих.
– Да мне всё равно, – пробурчал бухгалтер, склоняясь над чемоданом.
Анатолий подошёл к умывальнику, снял свой лёгкий пиджачок и стал систематически засучивать рукава.
– А здесь напротив пресимпатичная армяночка, – заговорил Алексей Иванович. – Два раза высовывалась из-за занавесок. По глазам видно, что интересуется чужеземцами.
– Вы это к чему мне говорите? – спросил Анатолий, намыливая руки.
– Просто сообщаю вам топографические подробности местности. А никакого злого умысла нет.
Наступило молчание. Один мылся, а другой в порядке раскладывал на столе вещи дорожного несессера.
– Вы едете куда? – спросил бухгалтер.
– Да меня куда-то везут, что-то смотреть.
– А я гида нанял. Черномазенький, на ножках журавлиных. Шляпочка соломенная плоская, как блин. Не то из жидов, не то из греков. Говорит по-французски так же скверно, как я.
– Что же вы поедете смотреть?
– Всё. Первым делом Софию.
– Что вам София, что вы Софии? Я видел, вы ещё на пароходе умилялись. Я не верю, что можно чувствовать искреннее восхищение перед этой рухлядью.
Брови бухгалтера сдвинулись.
– У вас ваше прокурорское сердце обросло медвежьей шерстью, – сказал он. – У всякого свои интересы. Вас интересует ваша судейская махинация, и за этим кругом вы ничего не видите, не понимаете, не слышите. А меня моя бухгалтерия не интересует ни на волос, и я гораздо более отзываюсь на вопросы искусства.
Анатолий вынул чистый платок, слегка надушил его, помахал им в воздухе, осторожно понюхал и спрятал в карман.
– Вот вы духи употребляете, а я духов терпеть не могу, – продолжал Алексей Иванович. – Отдайте мне Софию, а сами оставайтесь с судейской палатой и опопонаксом. В опопонаксе есть какая-то сухость, что-то именно судейское.
Анатолий опять вынул платок, протёр своё пенсне, и засмеялся.
– Мы бы, пожалуй, три дня не выжили с вами, – сказал он, – и дело дошло бы до бокса.
– О, вы никогда не дойдёте до бокса, – возразил Алексей Иванович и опять присел на корточки, что-то разбирая в боковой пазухе чемодана.








