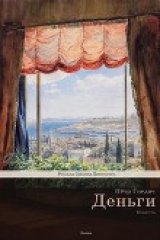
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Пётр Петрович Гнедич
Деньги
Повесть
Часть первая
I
– А ведь это выстрел! – проговорил белокурый, с небольшой проседью человек, высовывая из-под простыни голову на длинной и тонкой шее, и прислушиваясь. – Иван Михайлович, вы спите?
– Да, что-то… как будто выстрел, – ответил полусонно Иван Михайлович, – молодой человек с небольшой бородкой клином, и с вьющимися золотистыми волосами, лежавший у противоположной стены каюты на узкой пароходной койке.
– Ведь мы стоим, – продолжал длинношеий. – Неужели приехали?
Он поднялся на постели, и заглянул в каютное окно, приютившееся под самым потолком. Сквозь круглое отверстие синело звёздное небо, и на нем резкими чёрными контурами темнели пологие горы.
– Земля! – воскликнул он. – Ей-Богу, земля! Да мы, батенька, никак в Турции. Погодите-ка, я всё разузнаю.
Он наскоро стал одеваться, прислушиваясь к возне и стуку на палубе. Там топали чьи-то мягкие пятки, слышался лязг цепей и визг лебёдки. Якорные цепи разматывались с грохотом и скрипеньем. Шум и тарахтение паровиков, – к чему ухо так привыкло в течение минувших двух дней, и что казалось таким же естественным, как биение пульса, – сменились непривычной тишиной. Слышно только было, как плескалась тихо и томно вода, где-то близко, тут, за самой стенкой, да глухо доносилась сверху команда и шипение пара, вылетавшего откуда-то из трубы.
– Это вместо утра мы к часу ночи прикатили, – говорил белокурый, спешно натягивая на себя необходимые принадлежности туалета. – Молодцы ребята! И дули же мы сегодня: и пары, и ветер попутный. Только если это Босфор, – уж там как хотите, я вас подыму. Таких картин пропускать нельзя: смотрите-ка, луна вовсю светит. Иван Михайлович? Вы не спите, Иван Михайлович? Это никак нельзя, Иван Михайлович! Это, знаете, даже неприлично.
Он шагнул к товарищу по путешествию, и потряс его за плечо.
– Да я не сплю, – не открывая глаз отозвался Иван Михайлович. – А только ещё неизвестно – Турция ли это. Может просто на мели сидим, – тогда чего же вставать? Вы Алексей Иванович посмотрите всё подробно, а потом и скажите мне.
И он повернулся набок, очевидно предполагая, что осмотр местности и взвешиванье всех обстоятельств займёт у Алексея Ивановича немало времени, и можно будет ещё с четверть часа вздремнуть. Но ожидания эти не оправдались. Не прошло и минуты, как опять каютная дверь отворилась, и белокурая голова выставилась в щель.
– Одевайтесь, Иван Михайлович, – скорей одевайтесь, – каким-то сдавленно-испуганным шёпотом проговорил он. – Я на палубе жду вас.
Иван Михайлович быстро спустил ноги с кровати. Ему представилось, что пароход получил пробоину и идёт ко дну. Иван Михайлович был почти одет, – сон прошёл. Он, нахлобучив шляпу, набросив лёгкий пиджак, захватив часы и бумажник, поднялся по окованной медью лестнице наверх.
Огромный морской пароход стоял неподвижно на якоре. Звёздное небо живым куполом горело над головами, и на его стеклянном синем фоне стройно сквозили паутинами снасти гигантских мачт. С берега доносился душистый ветерок, полный аромата от цветов и скошенной травы. С обеих сторон поднимались чёрные горы – и открывали между собою узкий пролив. Над ними сиял молодой месяц – как будто осеняя своим серпом страну, избравшую его своей эмблемой. В воде дробилась серебристая сетка лунного отражения и алмазами сверкала то там, то тут по тихому разливу спокойных, сонных, убаюканных ночью вод.
Иван Михайлович не сразу нашёл своего спутника. В сутолоке бегавших матросов, он останавливался, оглядывался, присматривался, пробираясь сторонкой, прошёл весь борт с одной стороны, потом с другой и, наконец, догадался взобраться на крышу рубки. Там он нашёл его, – без шапки, с длинными спутанными волосами, смотревшего влюблёнными глазами, на небо, на воду, и на горы.
– Роскошь какая, а? – говорил он. – Сколько прозрачности, хрустальности, чистоты? Хорошее место! Правда, Иван Михайлович, а? Правда?
Но Иван Михайлович был довольно спокоен.
– Ночью все кошки серы, – сказал он. – При луне всё хорошо. При луне и наша петербургская Мойка поэтична. А вот днём здесь каково, посмотрим.
– И днём хорошо! Отчего же вы думаете, что это не должно быть красиво? Ведь у вас чувство красоты должно быть развито очень сильно. Если вы архитектор, то вы форму должны ценить больше чем кто-нибудь.
– Да я ценю, – слабо отозвался Иван Михайлович.
– Что в вас чувство к прекрасному развито, – продолжал его собеседник, – я это понял потому, как вы разговаривали с этой гувернанткой, с этой барышней, что едет здесь в третьем классе. Я не поклонник брюнеток, но отдаю справедливость характерности её лица. Я видел, как вы смотрели на неё, как говорили, как следили за ней глазами.
– Постойте, Алексей Иванович, – остановил его архитектор. – Почему же, если мне нравится наружность Татьяны Юрьевны, то должны нравиться и горы Босфора?
– Потому что, – опять захлебнувшись, и как-то пригибаясь к земле, заговорил Алексей Иванович, – потому что красота равномерно разлита в природе, – и одинаково чувствуется и в женщине, и в небе, и в дереве, и в воде, – и во всём, что носит на себе хоть след поэзии.
– Ну, вы смотрите на всё под углом, – засмеялся Иван Михайлович. – Поэты все в шорах – не видят, что делается вокруг них, а вперёд глядят через розовые очки.
Алексей Иванович откинул голову назад, и посмотрел на архитектора влажными глазами.
– Нет-с, нет-с! – заговорил он. – Во-первых, я не только поэт, но и бухгалтер, бухгалтер банка, человек сухих цифр, сухих отчётов, сухих балансов. Но как поэт, поверьте, я менее в шорах, чем кто бы то ни был из вас. Я вижу, чувствую, ощущаю каждую струйку, каждый шелест листа. Всё находит во мне отзвук. Может быть я плохой стихотворец, но в душе я поэт, и душа моя всеобъемлюща. У меня душа, как губка: она впитывает в себя всю влажность, что вокруг неё, и суха только тогда, когда вокруг неё сухо, когда она окружена дебетами и кредитами. А когда я вижу ребёнка, женщину, водопад, – вот такой месяц, с таким отсветом в воде, – я тогда как Аргус – смотрю сотней глаз, вижу всё – в водах и под водою – и всюду творю себе кумир. Я, назло всем – древний грек – чту форму, люблю форму, молюсь форме – и говорю, что прекрасная душа живёт только в прекрасной форме.
Бухгалтер говорил всё это с жаром, поворачивая своей жилистой шеей, размахивая руками, и встряхивая головой. Он сам был далеко не прекрасен. И ноги, и руки его были жидки, – череп четырехугольный, заострённый к затылку; глаза светлые, голубые, навыкате. Но в них, наперекор его речам, светилась такая доброта, такая незлобливость, такое ласковое, тихое смирение, что казалось прекрасная душа только по ошибке попала в такое некрасивое тело. Зато его спутник был совсем в другом роде. Архитектор был мускулист, высок, гибок. Темно-серые глаза были проницательны, и часто вспыхивали. Он был выше бухгалтера почти на голову, и мог поднять его одною рукой. В его движениях была самостоятельная уверенность и спокойствие. Он, по-видимому, был человек сдержанный, и умевший управлять сам собою.
– Вот ваш родственник, – продолжал бухгалтер, – этот приличнейший из приличнейших прокуроров, что цаплей двигается по пароходу, с таким видом, точно и здесь хочет учредить за всеми свой прокурорский надзор, – вот этот господин никогда не воспримет красоты: ему область искусства так же чужда, как мне лужение кастрюль.
Архитектор засмеялся.
– Вы увлекаетесь, – сказал он. – Во-первых, мой почтённый родственник Анатоль Дожитков ещё не прокурор, а только товарищ прокурора, – хотя из самых рьяных, – я ему в будущем пророчу должность министра. А во-вторых, он прекрасный скрипач – и потому ничто прекрасное ему не чуждо.
Алексей Иванович схватился руками за перила, и откинув голову назад уставился на небо.
– Вы шутите! – взволновано заговорил он. – Да разве человек, играющий на скрипке, может иметь нервы? У него якорные канаты, – если они выдерживают ежедневно это нытьё, вытьё и протяжный писк скрипичного смычка. Когда играют на этом инструменте, мне кажется, что по мне водят калёным железом. Единственное достоинство в скрипке – что она свободно входит в каждую печь и сгорает дотла, на что совершенно неспособен тромбон. А что касается судейского звания, то мне кажется, между прокурором и его помощником меньше разницы, гораздо меньше, чем между палачом и помощником палача. Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я так резко говорю по поводу вашего родственника…
– Пожалуйста не стесняйтесь, – сказал Иван Михайлович.
– Но он меня возмущает. Сегодня он стоял возле курятника, – знаете, там, в третьем классе. Какая-то глупая курица протянула между прутьев голову и слегка клюнула его в локоть. Ну, пошутила, поиграла птица. Надо было видеть, как этот подпрокурор взбесился. Он с размаху ударил её перчаткой, так что чуть не свернул голову. Она как-то перекувырнулась и шарахнулась в угол. Человек, который жесток с кошкой, собакой, птицей – не может быть порядочным человеком, – в этом вы меня никогда не уверите. Если он не жалеет твари, тем более он не пожалеет человека, а если и пожалеет, то ровно настолько, насколько ему предписывает это закон. И при этом, как он смотрел на эту курицу, с каким сознанием своего превосходства! На лице его так и было написано: «я чиновник, и прокурор, а ты птица; я тебя могу съесть, а ты меня не можешь». Я не выдержал, и сказал: «Вас, кажется, обидела курица?» Он на меня посмотрел сверху вниз, ничего не сказал, и отошёл.
– Да, я сомневаюсь, чтоб он искренно был привязан к кому бы то ни было, – согласился Иван Михайлович. – Я думаю, он даже тёток не любит, которые его воспитали, и души в нём не чают.
– Да он как вам приходится родственником? – спросил бухгалтер.
– Двоюродный или троюродный брат. Не знаю хорошенько, да и не интересуюсь знать. Я года два его не видел, и вот теперь случайно встретился на пароходе. Он меня всегда недолюбливал, я его тоже. Теперь он смотрит на меня покровительственно, – и удивился, когда узнал, что меня вызвали на постройку в Каир. Даже сострил по чиновничьи: «Что же тебе, пирамиду поручают строить?» Сам он едет только до Константинополя, к невесте.
– Несчастная! – воскликнул Алексей Иванович. – Ведь он её заморозит своей прокуратурой.
– А она премилая девушка, – подтвердил архитектор, – я её немножко знаю. И притом, без памяти любит его.
– Несчастная! – повторил бухгалтер, и присматриваясь в сторону прибавил: – Лёгок на помине, идёт сюда. Даже ночью он также приличен и элегантен.
II
На рубку поднимался высокий господин в светло-серой мягкой шляпе и безукоризненном модном костюме. Ему было лет под тридцать. Лицо его было красиво, даже слишком красиво. Борода была расчёсана с искусством и тщательностью самого опытного куафера. Когда он проходил мимо фонаря, можно было заметить тонкую и нежную белую кожу, едва тронутую загаром. Было несомненно, что владелец её прятался от солнца, и появлялся на припёк только в самых исключительных случаях. Окинув взглядом рубку, и заметив брата, он пошёл прямо к нему.
– Однако разыгрывается очень неприятная история, – сказал он, делая серьёзное лицо и строго глядя на архитектора. – Наш пароход признан неблагополучным, и задержан. Мы должны или плыть обратно в Россию, или сидеть неопределённое время в том порту, где нам укажут.
Он значительно сжал губы, и так посмотрел на горы, что, казалось, только их невозмутимая твердыня могла выдержать столь уничтожающий взгляд.
– Мы во власти магометан, – продолжал он, поводя плечами, – и мы, конечно, должны подчиняться их законам. Как бы то ни было – мы временные арестанты.
Сказано это было с таким достоинством, точно товарищ прокурора возвещал миру: «Мы – Владетельные князья».
– Ну, что ж, подержат, да выпустят, – равнодушно сказал архитектор.
Товарищ прокурора постучал нервно палкой о пол.
– Хорошо тебе говорить, – раздражённо сказал он, – когда ты можешь бездельничать целыми месяцами и ничем не связан. А вот когда получишь отпуск на несчастные двадцать восемь дней, так дорожишь каждым дном и часом.
– Ты так рвёшься к невесте? – спросил Иван Михайлович. – Ты считаешь минуты, как влюблённый жених?
Анатолий смерил его полунасмешливым взглядом.
– Что это – архитекторская ирония? – спросил он. – Да, я очень бы хотел видеть Наталью Александровну, и – надеюсь – в этом ничего странного нет.
– Ничего, – согласился его кузен, – как ничего нет странного в том, что меня вызывают в Египет, и даже будут строить по моему плану загородный палаццо. Я тоже тороплюсь, и не меньше тебя. Я спокоен, потому что не вижу причины волноваться: пароход остановлен пушечным выстрелом, потому что ночью из Босфора плавание не допускается.
– Если я говорю о карантине, – перебил его резко Анатолий, – то, следовательно, у меня есть на это причины. Я знаю об этом от помощника капитана.
Он возвысил голос.
– Мы задержаны, – почти крикнул он, – и неизвестно, чем кончится наше заключение. Быть может, мы простоим здесь целую неделю, – и нас посадят в карантин.
– А я думаю, что это вздор, – сказал архитектор. – И завтра мы будем в Константинополе.
Товарищ прокурора скорчил гримасу, долженствовавшую обозначать, какого невысокого мнения он об умственных способностях архитекторов, повернулся, и стал спускаться на палубу.
– Разве на Босфоре всегда задерживают пароходы? – спросил Алексей Иванович.
– Всегда. Если после двух выстрелов, пароход не бросает якоря, в него стреляют ядром, – сказал Иван Михайлович.
– Фу, какая подлость!
– Это не подлость, а восточный вопрос. Вот мы теперь всю ночь и будем стоять под жерлами этой батареи.
– А это не лишено поэзии, – заметил Алексей Иванович, – на это можно написать недурное стихотворение:
Под жерлами таинственной бойницы
Осуждены смиренно ждать рассвет…
на «бойницы» рифма – «денницы», на «рассвет» – «огненный привет». To есть, это из пушки нам был огненный привет. А потом непременно надо вспомнить вещего Олега. Без вещего Олега нельзя…
– Ну, так что же, – спать? – спросил Иван Михайлович.
– Опять спать? Да побойтесь вы Бога. Ну кто спит в такую ночь? Ведь больше раза в жизни такая ночь не повторяется. Тёплая, душистая. Смотрите, вон огни вспыхивают. Два рядом.
Он показал на азиатский берег, где зажглись и разными точками уставились на пароход два ярких глаза: точно какой чудовищный змей проснулся, и открыл глаза, чтоб следить за врагом.
– Слышите, собаки лают? – сказал Алексей Иванович. – Как чутко, протяжно несётся их лай. Это верно у сторожей, близ костров. Но звёзды, звёзды какие! Разве это чета нашим? Смотрите вон метеор летит – целая ракета, – и какой искристый след сзади. Экая дьявольщина, – как хорошо! Нет, я сегодня спать не буду.
– Ну, тогда прощайте, – сказал архитектор. – Я иду в каюту, и, если вы меня разбудите, я в вас стрелять буду из револьвера. Лучше завтра раньше встанем.
– А вот будь здесь эта Танечка, – вы бы не ушли, – сказал, рассердясь, бухгалтер. – Вы бы всю ночь просидели.
– Да ведь вы не Танечка, – засмеялся Иван Михайлович, – и значит я имею полное право хотеть спать.
Он пошёл в свою каюту. Но не успел он натянуть на себя простыню, как дверь скрипнула.
– Это я, – послышался шёпот бухгалтера. – Вам не помешает, если я зажгу свечку?
– Хоть люстру, – только дайте мне повернуться к стене.
– Я, знаете, хочу сегодня же начать стихотворение. Ваш родственник не увидит, а то бы он предал меня анафеме. Уж и первый куплет сложился. Записать, пока не забыл.
Он записал и прочёл:
Двурогий серп сверкает над водами,
Чернеют стены старых батарей:
Они хранят ключи от двух морей,
Они хранят пролив, между морями…
– Как скажете? А?
– Над водами, или над вода́ми? – спросил сонно архитектор.
– Ну, это допускается. Вон у Лермонтова сказано: «Он пел о блаженстве безгрешных духо́в», а надо – духов.
Иван Михайлович стал засыпать. Порою ухо его машинально ловило отдельные строки, которые сам себе вслух диктовал бухгалтер. Он слышал, как поэт бился над «огненным приветом», – и даже открыл глаза, когда тот неожиданно громко крикнул:
Блеснул огонь: то огненный привет
Нам пушка шлёт…
Потом опять всё стихло, опять вода журчала за окном, и тихо скрипела где-то снасть. Только изредка раздавалось:
И с гневным рёвом стонут якоря,
В зыбучие опущенные волны…
Бухгалтер долго повторял: «Волны, чёлны, полны», – и не знал, на чем остановиться. Сквозь сон, архитектору казалось, что он сам сочиняет какое-то стихотворение, – и всё подбирает рифмы и не может их подобрать, – и кузен прокурор над ним смеётся, и говорит: «Ну, ведь ты бездельник, – тебе только стихи писать, да пирамиды строить»…
III
Когда утром, Иван Михайлович открыл глаза, он увидал перед собой совершенно незнакомое лицо в красной феске, очень толстое, лоснистое, в упор смотревшее на него через полуотворённую дверь. Сперва он подумал, что это сон; но красноватый нос и коротко подстриженная бородка были так реальны, что в действительности их существования не оставалось никакого сомнения.
– Bonjour, monsieur![1]1
Здравствуйте, месье! (фр.)
[Закрыть] – сказала голова. – Comment va la santé? Э? Come sta di salute?[2]2
Как ваше здоровье? Как здоровье? (фр., ит.)
[Закрыть] Э?
Бухгалтер тоже вытянул из-под одеяла свою шею.
– Это что за птица! – спросил он. – Должно быть доктор? – Benissimo, signore, benissimo![3]3
Великолепно, синьор, великолепно! (ит.)
[Закрыть] Проваливайте.
Но голова не уходила.
– Да мы здоровы! – продолжал бухгалтер выставляя из-под одеяла тощие ноги. – Per grazia di Dio, io sto meraviglia bene![4]4
По милости Божией, я чувствую себя удивительно хорошо! (ит.)
[Закрыть]
Голова осклабилась и успокоительно закивала:
– О, ну! О, ну! – и скрылась за дверью.
– Держу пари, – сказал бухгалтер, – не будь я Алексей Перепелицын, – что этот почтённый доктор приходил за бакшишем. Без бакшиша не обойдёмся. Увидите.
В дверях явилась новая голова. Это помощник капитана выставил своё молодое, весёлое лицо с заострёнными кверху ушками.
– Разбудил вас турка? – засмеялся он. – Даже в дамские каюты не спрашиваясь заглядывает. Там гречанки визжат.
– Да что он – доктор? – спросил Иван Михайлович.
– Санитар! – презрительно ответил помощник. – Доктор потом приедет.
– И мы стоять будем?
– А что же больше делать?
Делать было больше, действительно, нечего. Часы показывали без пяти семь. В открытое окно иллюминатора смотрел тусклый серый день. Вода плескалась о борт не с ласковым журчаньем, как сегодня ночью, а с каким-то ропотом, точно сварливая старуха жаловалась на судьбу.
– Так что ж, вставать будем? – предложил бухгалтер. – А спать хочется. Я до четырёх часов всё с своими стихами возился. Ведь пошлёт же Господь в наказание такую способность. Хуже оспы.
Он начал систематично намыливать себе руки, щеки и, главное, шею, вытягивая и повёртывая её во все стороны, точно она была у него на шкворне. Архитектор смотрел на него, и думал о карантине. С одной стороны, ему неприятна была эта задержка, так как ему к сроку надо было поспеть в Александрию. С другой стороны, его радовала мысль, что он ещё один день проведёт с этой странной маленькой черноглазой девушкой, с которой он случайно познакомился здесь, на пароходе. Товарищ Ивана Михайловича, – тоже архитектор, провожавший его на пароход, подошёл к ней, за несколько минут до отхода, как старый знакомый, и не без удивления спросил, куда она едет одна. Она сказала, что получила место гувернантки в Пере, в одном греческом семействе. Тут Иван Михайлович и познакомился с ней.
– Присмотри за Татьяной Юрьевной, – сказал ему товарищ, – прошу тебя. Я давно знаю их семейство.
И он успел ему конфиденциально сообщить, что отец этой Татьяны Юрьевны, по фамилии Ламбин, жил когда-то очень широко, – дал детям хорошее воспитание, что Танечка, или как звали её в семье – Тотти, кончила институт, что потом отец умер, семья осталась ни с чем, – и должно быть круто пришлось, если девятнадцатилетняя девушка едет в какое-то греческое семейство гувернанткой. Когда пароход тронулся, Иван Михайлович подошёл к ней, и спросил, удобно ли она поместилась. Она слегка вспыхнула, но сумела сейчас же подавить в себе это чувство, подняла на него свои чёрные глаза, и сказала:
– Я ведь в третьем классе еду.
Ему стало неловко до боли. Он знал, что такое третий класс, что такое эти нары, близ паровых котлов. Он хотел предложить ей «похлопотать» у капитана о переводе её хотя бы во второй класс, но не решался сказать ей этого. Она как будто заметила его нерешительность.
– Благодарю вас, – не беспокойтесь, мне очень хорошо. Возле меня поместились две старушки. Они едут в Палестину. Мне, право, удобно.
Он не начинал более с ней разговора об удобствах и неудобствах. Он даже нарочно старался не проходить в том месте парохода, где, он знал, поместилась она, – чтоб не смущать её праздным любопытством. Он не знал, что она и где ела, но за столом её ни в первом, ни во втором классе не было. Она рассказала, что у неё есть мать – больная женщина, которая живёт у замужней сестры в Николаеве. «А я – вот поехала, – не хотела жить из милости, – улыбаясь говорила она. – Меня учили же для чего-нибудь, – теперь я буду учить других. Если только хорошее семейство этих греков, куда я еду, – а мне говорили, что они люди хорошие – мне ничего больше не надо».
Если б была хоть малейшая возможность, Иван Михайлович остался бы на несколько дней в Константинополе. Ему хотелось узнать, как устроится в этой «греческой семье» маленькая, хорошенькая девушка, – она ведь такая хрупкая, слабая, но с такой энергией в глазах, с такими густыми контральтовыми нотами в голосе. Но останавливаться нечего было и думать.
– Алексей Иванович? – окликнул он.
– Мм? – откликнулся бухгалтер, смывая с себя пену.
– Вы сколько дней останетесь в Константинополе?
– Дня два, может три. А что?
Он повернул к нему мокрое лицо с встопорщенными волосами.
– Надо вам что-нибудь? Почему вы спрашиваете?
– Нет, так.
«Что же, – продолжал архитектор свои размышления, – всё-таки придётся попросить брата зайти, узнать, как её примут. Или попросить её мне написать?»
Бухгалтер отфыркиваясь отирался полотенцем, с остервененьем вытирая себя со всех сторон.
– Готов держать пари, что вы думаете о belle Tatiana, – сказал он. – О миленькой Тотти, о почтеннейшей Татьяне Юрьевне? Что, не угадал я, – попробуйте отпереться?
– Зачем я буду отпираться? Мне Тотти очень нравится. В ней есть какая-то хрустальная чистота, которую редко встретишь в девушке.
– Особенно в третьем классе, – добавил бухгалтер.
– Вы знаете, в её глазах, – продолжал архитектор, – есть огонь, который может обжечь, и больно, всякого, кто позволил бы относительно её что-нибудь лишнее. Я бы не боялся никогда за неё, если б она была моей сестрой.
– Ну, а так как она вам не сестра, так вы за неё боитесь? Не смущайтесь, – это в порядке вещей. Да вы, впрочем, и не смущаетесь. Жизнь престранно устроена. Вы эту барышню знаете менее двух суток, – и она вам близка. Я вас знаю ещё того меньше – с первого пароходного обеда, – и уж почти люблю вас. Дорога сближает. Но как быстро сходятся в дороге, так же скоро и расходятся. Дорожные товарищи – это фигуры на пейзажном фоне, а не самостоятельные портреты.
– Ну, не знаю, так ли это, – сказал Иван Михайлович. – Вы тяготеете к пейзажу, оттого вам и кажутся люди только дополнением к ландшафту, а я не замечаю фона и вижу только людей. Вот вы вчера ночью говорили о том, как хорошо с берега травой пахнет, а я слышал запах «испанской кожи» от моего братца. У всякого свой угол зрения. Вы мне вот что скажите: что вы в Константинополе делать будете? Зачем вы едете туда?
– Как вам сказать. Собственно говоря, я ни зачем не еду. А захотелось мне проветриться, – я заплесневел в своём банке, ну, и потянуло меня на юг. Куда же ехать? В Грецию? Говорят, там на касторовом масле готовят кушанья. В Италию? Далеко. В Париж? Жарища такая же, как в Москве. Да и отпуск у меня на три недели всего. Ну, и решил я катнуть на Босфор. Что будет дальше – увидим. Я вам могу, с своей стороны обещать, что послежу за барышней насколько будет возможно, и насколько позволят приличия. Вы во всяком случае предупредите её, что я отчасти буду приставлен к ней, и в случае нужды готов, чем могу, и прочее… Однако, слышите: опять ревут цепи, должно быть, мы снимаемся. Идём в столовую пить кофе, а то, чего доброго, нас в самом деле в карантин засадят, только этого не доставало.








