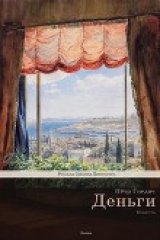
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
IV
Утро было пасмурное, холодное. Когда оба спутника вышли на палубу, ветер стал крутиться вокруг них и срывать шляпы. По небу неслись низкие, серые тучи. Босфор был неприветлив и хмур. Тёмные волны катились одна за другой, с жемчужной пеной на хребтах и покачивали шлюпки, кое-где показывавшиеся у берега. Пароход ночью отошёл обратно к выходу в Чёрное море, и оно синело вдали, поднимая из волн отвесные скалы подводных камней. На палубе было оживление. Пассажиры стояли и сидели группами. Многие с волнением что-то доказывали санитару. Санитар улыбался, показывал белые зубы и утверждал, что у них имеются точные сведения о том, что в Адрианополе холера.
– Так ведь это у вас Адрианополь, а не у нас, – говорил товарищ прокурора, весь красный от бешенства. – Ведь не из Адрианополя, черт возьми, мы едем.
– Всё равно – из Чёрного моря, – улыбался турок, видимо наслаждаясь бешенством приличного молодого человека.
– Пусть приедет сюда комиссия врачей и всех нас осмотрит, – продолжал горячиться Анатолий. – Ведь мы ж здоровее их.
– Да, комиссия и приедет, – невозмутимо подтверждал санитар. – Вот я доложу о состоянии парохода: доктора и приедут.
– Когда же вы доложите? – спрашивал долгоносый грек, весь заросший волосами, и чёрный, как кузнечный мех, что не мешало ему носить жилет ослепительной белизны.
– А вот когда мне ваш капитан даст лодку, – тогда я и поеду.
Санитар, очевидно, чего-то ждал и поглядывал на пассажиров вопросительно. Но его взгляды истолковывались иначе. Капитан ходил хмурый и огрызался на помощника. Зато буфетчик с изысканной любезностью сновал между пассажирами и заявлял, что за простой в карантине он будет считать по десяти франков с пассажира в день, так как подобные задержки в его расчёты не входят.
– За каждый день десять франков-с, – говорил он, потирая руки. – Недельку простоим – семьдесят франков. Десять дней – сто франков-с. Но всего будет в изобилии – не извольте беспокоиться. – И он заглядывал в лица пассажиров с удивительной почтительностью и наблюдал, какое впечатление производят на них его слова.
Иван Михайлович заметил вдали Ламбину и пошёл к ней. Она стояла у борта, кутаясь в мягкий пушистый платок, и беспокойно глядела на тёмные пенные волны.
– Вы не знаете, нас повезут туда? – спросила она.
– Куда? – удивился архитектор.
– Туда, в этот карантин?
Она показала на белое здание, приютившееся между круч азиатского берега.
– Говорят, – продолжала она, – что все платья пропаривают в каких-то машинах и возвращают в совершенно испорченном виде, так что их не надеть потом.
– Была я в карантине, – заговорила внезапно маленькая юркая старушка, сидевшая рядом на канатах, свёрнутых катушкой. – В прошлую холеру была. Господи, чего натерпелись! В таком то есть виде одежонку возвратили, хоть брось. Уж я надела теперь самое что ни на есть отрепанное платьишко на случай, ежели нас повезут. И вам, сударыня моя, тоже бы присоветовала. На вас вон какое новёхонькое всё, а вы наденьте что постарее, а шляпки совсем не надевайте. Потому и шляпку в паровой печи пропарят. Сама видела, какие блины возвращают.
Татьяна Юрьевна закусила губу и отвернулась.
– Ну, да ведь может и не повезут ещё, – успокоительно заметил Иван Михайлович. – Раньше времени чего же тревожиться?
Но в его голосе было мало успокоительного. Тотти встретилась глазами с его взглядом, и он вдруг понял, что у неё одно только это платье и есть. Может быть в чемоданчике лежат ещё какие-нибудь кофточки и юбки, но такого платья, в котором она рассчитывала сделать путешествие и явиться к месту своего служения – такого другого у неё не было.
– Я постараюсь это устроить, – сказал он. Хотя решительно не знал, что и как он может устроить, и какое отношение к карантину могут иметь его требования и просьбы.
Он пошёл опять к помощнику капитана. У борта гремели цепи, и матросы снаряжали шлюпку. Санитар, вместе с помощником, собирались ехать на берег.
– Да им заплатить надо? – спросил Иван Михайлович у помощника.
– Ну, конечно! – недовольно поводя плечом, ответил тот.
– Так мы заплатим, только бы отпустил нас совсем.
– Да я там поговорю.
– Что заплатить? Кому? – спросил у брата прокурор. – О чем ты говорил сейчас с ним?
– Откупиться надо у турок, чтоб не сидеть здесь.
– Слуга покорный! За что платить? Это совершенно незаконные поборы.
– Поди ты к черту с своей законностью! – вдруг вспылил архитектор. – Ну, а это законно будет, если ты заплатишь буфетчику сто франков, да полторы недели простоишь здесь?
– Я из принципа буду питаться одним чаем, – резко сказал прокурор.
– Ты можешь похудеть и поблекнуть, – засмеялся архитектор. – Это может не понравиться твоей невесте.
У товарища прокурора брови сдвинулись.
– Послушай, Иван, – сказал он, отводя его в сторону, хотя возле него никого не было. – Мне очень не нравится тон, каким ты стал в последнее время разговаривать со мною. Ты очень переменился. Ты в академии был благовоспитанным милым юношей. Но по окончании курса, ты положительно переменился. Общество ли подрядчиков и каменщиков так влияет на тебя, или то, что ты считаешь себя теперь вполне самостоятельным человеком, и хочешь плевать на всю родню, – но только, повторяю, я тебя не узнаю, и сознаюсь в этом с грустью. Должен тебе сказать, что и тётки о тебе такого же мнения. Ты, проезжая из Петербурга через Москву, даже не заехал к ним.
Иван Михайлович покраснел. Видимо ему много хотелось ответить кузену, но он сдерживался.
– Видишь ли, – сказал он наконец. – Отношения мои к тёткам совершенно не такие, как твои. Ты остался сиротой; и они тебя воспитали. Я рос дома, у матери и отца. Теперь, после смерти родителей, у меня в сущности нет родных, потому что тётки гораздо мне дальше многих близких мне людей.
Товарищ прокурора усмехнулся.
– Но всё же я не вижу причины так относиться к ним, – сказал он. – Что тебе за расчёт был от них отвернуться? Я отлично знаю, что в завещании их ты был поставлен одним из сонаследников. Но после твоего поступка, после того, как ты к ним не заехал, если не ошибаюсь, они хотят переписать завещания. Я не понимаю, какой расчёт бросить за окно двадцать-тридцать тысяч, назначенные тебе?
– Да никакого расчёта. Я никогда ни на что не рассчитываю.
– Да ведь у тебя ничего нет?
– Есть, и много.
– Что же именно?
– Работа. Я в год свободно могу уже теперь получать тысяч десять.
Товарищ прокурора поднял высоко брови кверху, и склонил набок голову.
– О-о! Но я что-то этому не верю.
– А мне всё равно, – не верь, пожалуйста. Совершенно не в моем характере ходить к глупым старухам, и целовать их ручки в надежде, что они за это вспомнят меня в каком-то мифическом завещании.
– Ну, почему же в мифическом? Скорее в нотариальном.
– Я это предоставляю другим, – продолжал архитектор. – Я ничего не имею против того, чтоб мою часть передали на благотворительные учреждения, на школы, церкви, даже в твою собственность.
– О-о! Достаточно громко! Ты так подчёркиваешь своё бескорыстие, точно хочешь сказать: я отказываюсь от своей доли, желая тебя облагодетельствовать. Так я твоих благодеяний принимать не желаю.
Иван Михайлович рассмеялся.
– Но сознайся, Анатолий Павлович: что ведь тебе приятно моё устранение от наследства? Всё-таки крупица лишняя перепадает тебе. Ты ведь очень жаден и скуп. Ты дрожишь над деньгами. Ты бы не постыдился начать процесс со мною, если бы я по твоим соображениям был тебе должен.
– По своим соображениям я бы процесса не начал, – проговорил Анатолий Павлович, – но на законном, основании, конечно, потребовал бы от тебя должного.
– Ну, вот-вот, – я про законные основания и говорю… хотя я тебе не советовал бы держаться одной буквы закона. Ведь если подводить под закон все наши деяния, то быть может тебя первого пришлось бы лишить прав состояния.
Товарищ прокурора дёрнул головой.
– To есть, что ты хочешь этим сказать? На что намекаешь?
– Да ни на что в особенности. Я только говорю, что за тобой, как за каждым водятся грешки, за которые очень легко привлечь к законной ответственности.
Анатолий взбесился окончательно.
– Я тебя покорнейше попрошу не говорить намёками, а сказать прямо, в чем ты хочешь меня обвинять?
Иван Михайлович пожал плечами.
– Да ни в чем я тебя не хочу обвинять. Но согласись, – ведь кому не был известен твой роман с женою Поплавского? Даже сам Поплавский был достаточно обо всём осведомлён. Все отлично знают, что ты через него получил место, потому что Поплавский действительный тайный и хотел тебя убрать подальше от себя.
– Положим, это всё было не так, – заметил, стискивая зубы, Анатолий Павлович.
– Положим, что было так. Жена Поплавского ведь удивительно глупа: она, когда ты её бросил, ездила по Петербургу, от злости задыхалась и всех уверяла, что сама тебе выхлопотала место в отъезд, потому что ты ей надоел своим ухаживаньем.
– Ах, вот как! – удивился юрист.
– Успокойся, – никто ей не поверил; все поняли, что это целиком твои штуки. Но, очевидно, ты в этом не видишь состава преступления? Так я тебе объясню. Когда муж имеет повод ревновать свою жену, он поступает трояким образом: во-первых – вызывает соперника на дуэль; во-вторых – если дуэль для него неудобна, он при первом удобном случае надаёт ему пощёчин и спустит с лестницы; и есть ещё третий исход, – к которому прибегают редко, но к которому на моих глазах прибег один тоже юрист – судебный следователь. Он подал на своего соперника в суд и добился того, что его посадили на полтора года… Так вот и я, зная твоё curriculum vitae[5]5
Curriculum vitae (лат.) – «ход жизни»; резюме, краткая биография.
[Закрыть], думаю, что, по совокупности обвинений, тебя вообще можно было бы посадить лет на пять… Нет, погоди, не перебивай меня. Это с точки зрения твоей законности. Ну, а если мы посмотрим с этической точки зрения, будем обсуждать твои деяния только как поступки нравственного или безнравственного человека, – тогда, пожалуй, дело будет ещё хуже.
– Так вот ты какого мнения обо мне? – всё ещё сквозь зубы сказал Анатолий. – Я не знаю, зачем тогда вообще нам разговаривать друг с другом… и даже кланяться на улицах?
– Ну, отчего же не кланяться! – возразил Иван Михайлович. – Тебе не кланяться, тогда придётся от половины города отворачиваться.
Толстый, носатый грек в соломенной шляпе, с крупным брильянтовым перстнем на среднем пальце подошёл к ним.
– А не повинтить ли, господин прокурор? – спросил он. – Завтрак ещё через час, в карантин нас повезут перед обедом. Скучно. Партия составилась.
– Да, пойдёмте, – снисходительно ответил Анатолий Павлович, и они пошли в рубку.
V
Тучи надвинулись со стороны Чёрного моря. Холодный, косой дождик прыснул сбоку, и палуба стала блестящей, точно её густо покрыли лаком. Все попрятались по рубкам и каютам. Куры и петухи нахохлились в своих клетках, не предвидя ничего хорошего в будущем, замечая, как ряды их с каждым днём редеют, и догадываясь, что полупьяный повар уносит очередных птиц на жестокую казнь.
Иван Михайлович два раза обошёл всю палубу, из конца в конец, насчитав от носа до кормы около двухсот шагов, а Тотти, которую он искал, не встретил. Ему не хотелось подходить близко к нарам, где поместились богомолки, отдельно от мужчин, так как он не хотел быть навязчивым. Но ему было скучно без неё. Ему хотелось чем-нибудь услужить ей, сделать ей что-нибудь приятное, и так, чтоб она об этом не знала. Ему хотелось предложить ей перейти в первый класс и обедать с ними. Но он догадывался, что это предложение её обидит, и она резко откажется.
Он спустился в каюту. Там лежал бухгалтер и с упорством подыскивал рифму на «чёлны», так как ни «волны», ни «полны» его не удовлетворяли. Он лежал на спине, уперев ноги почти в потолок, и царапая слова карандашиком в записной книжке. Иван Михайлович лёг на свою кровать и стал осматривать давно надоевшую каюту, находя безвкусным сочетание линий иллюминатора с выгнутым ребром борта и кривой балкой потолка. Наглухо приделанный к стене спасательный пояс казалось смеялся над пассажирами и говорил: «А ну-тка, попробуй, отстегни меня, и топором не отделишь от стенки, так я к ней прилип». Косой дождик мелкой пылью врывался в каюту, и делал воздух влажным. Дышалось легко, как на севере: не было той истомы, которая на юге так невыносимо тяжела для северянина.
– Да бросьте, Алексей Иванович! – сказал архитектор. – Что вам за охота возиться с поэзией? Берите пример с меня: я не сочиняю проектов.
– Оставьте, – откликнулся бухгалтер и опять ушёл в свои рифмы.
Опять послышались голоса и вверху, и внизу. Должно быть причалила лодка, ходившая в карантин. Архитектор поднялся на палубу и снова наткнулся на санитара. В третьем классе была тревога, и стоял неясный гул недовольных голосов. Он пошёл к капитану.
– Приказано везти в карантин для дезинфекции всю палубную публику, – сказал капитан. – А первого и второго класса пассажиров не тронут.
– Что за чепуха? – удивился Иван Михайлович. – Неужели вы всех повезёте? И эту гувернантку – г-жу Ламбину?
– Как же я могу её изъять? Если б она была второго класса…
Иван Михайлович вынул бумажник.
– Я вас очень прошу, – я заплачу… переведите её во второй класс… Но чтоб она не знала… Вы дайте мне дополнительный билет, и распорядитесь, чтоб её не тронули… Пожалуйста.
Капитан слегка улыбнулся.
– Хорошо. Не беспокойтесь, её не возьмут.
Архитектор чувствовал, как резко стукало его сердце, когда он спускался из капитанской каюты. Теперь он решился, не стесняясь, сейчас же разыскать Тотти. Впрочем, найти её было не трудно: она стояла среди растерянно собиравших своё тряпьё богомолок. Все лица были бледны, у многих тряслись руки.
– За что же пожитки-то наши, пожитки портить? – с отчаянием говорила толстощёкая, курносая баба, туго перетягивая бечёвкой мешок. – Ведь это ж разбой. Давай им в печь всё, что есть у тебя…
– Мне надо вам сказать два слова, – сказал архитектор Тотти.
Она машинально вышла из круга странниц и сделала с ним несколько шагов в сторону.
– Послушайте, я говорил насчёт вас капитану, – несмелым голосом заговорил он. – Он обещать, что вас не тронут, и что вы останетесь здесь… Вам не надо ехать в карантин… Вы не тревожьтесь… Это, право, так легко устроилось. Вы только пройдите туда, в рубку. Матрос ваши вещи туда перенесёт, и всё будет хорошо.
– Вы купили мне билет? – спросила она, глядя ему прямо в глаза.
– Нет… To есть об этом не стоит говорить…
Она как-то выпрямилась.
– Хорошо, – сказала она, – велите матросу перенести мою картонку и чемодан.
Он не думал, что она так просто примет его участие. Он отошёл от неё, боясь, чтоб она не стала благодарить его. Но она и не думала об этом.
Когда матрос взвалил её вещи на плечи, вокруг раздались негодующие голоса.
– Деньги-то что делают, – завистливо говорила курносая баба. – Небось её потроха перемывать не станут… С нами на нарах спала: мол, я такая же недостаточная… А как до карантина дошло, небось и деньги нашлись…
– Хахаль её, что увивался тут, он заплатит, – станет она платить, как же!.. Весь день яйцами да яблоками питается, скупа…
«За что они на меня», – подумала Тотти, и вынула портмоне.
– Вот вам деньги, – сказала она громко матросу. – Подите к капитану и скажите, чтоб он получил с меня сколько надо.
Она прошла твёрдым шагом в рубку, опустилась в углу на кожаный диван и раскрыла книгу.
Через минуту воротился матрос с помощником капитана.
– За вас получено от господина Карелина, – сказал он, возвращая ей деньги. – Позвольте вам вернуть.
– Я не знала, что он заплатил, – ответила она. – В таком случае, будьте добры возвратить ему из моих денег, сколько следует.
Помощник капитана не без удивления посмотрел на неё и сказал: «Слушаюсь».
Шум на палубе всё увеличивался. По спущенному трапу надо было спускаться палубным пассажирам в шлюпки. Волны шумели и заставляли лодку биться внизу, как больного в падучей. Матросы искусно удерживали маленькое судёнышко, чтоб оно не разбилось о твёрдые борта парохода. Робко, подгоняемые поощрительными возгласами, спускались по лесенке старушки и старики, – почти нищие, чуть не в лохмотьях, полуслепые. Они крестились дрожащей рукой: казалось, их вели на смерть. На нижней ступеньке их подхватывали сильные руки и перебрасывали на дно лодки. Слышался слабый крик, заглушаемый ветром. Позеленевшие, бледные боязливо жались несчастные один к другому, пугливо озираясь на волны и ещё с большим страхом вглядываясь в ужасное здание карантина. Шлюпка отчаливала, и нос её зарывался в жемчужную пену изумрудно-сизой волны. Весла стойко боролись с валами, лодка кренилась то направо, то налево, то взлетала наверх, то падала вниз в водяную яму. За одной шлюпкой отваливала другая, за другой – третья, и, ныряя, как утки, чёрной вереницей они шли, окутанные сеткой дождя, туда, к ненавистному белому зданию. Барыни смотрели на них с рубки первого класса в бинокли и восклицали по-французски:
– Несчастные! Это ужасно!..
Впрочем, участь несчастных не помешала пассажирам с аппетитом позавтракать. Сознание своего превосходства над третьеклассниками придавала всем приятную бодрость и уверенность в своём непоколебимом достоинстве. Буфетчик, как заботливая нянька, наблюдал за завтракавшими, и даже проголодавшийся товарищ прокурора отрёкся от своего слова и усердно накладывал себе на тарелку и стерлядь, и кабачки, и телячьи котлеты.
– Но ведь это было бы ужасно, – говорила толстая, усатая, раскрашенная, как плохая актриса, армянка, на отвратительном французском языке, – это было бы ужасно, если бы нас свезли, как эту бедную чернь на берег, раздели и заперли в карантин!
Молоденькие армянки, её дочери, свеженькие, румяные, но обещающие в будущем отрастить себе такие же усы, как у мамаши, уткнулись в тарелки: им было стыдно представить себя в таком положении.
– Но я думаю, – сказать Анатолий, – до этого бы не дошло. Ведь, во всяком случае, турки знают, с кем имеют дело.
Капитан, сидевший, по пароходному обычаю, за хозяина, посмотрел на него.
– Да какое же дело туркам до того, кто мы такие? – спросил он. – Они и генерала, и министра разденут точно так же, как простого матроса. Им бы только содрать бакшиш.
Товарищ прокурора повёл плечом.
– Чёрт знает что! – только и проговорил он.
Ветер всё крепчал, дождь всё подсекал с одной стороны. Иван Михайлович, после завтрака, пошёл в рубку второго класса. Увидя его, Тотти опустила книгу. Он сел рядом с ней.
– Татьяна Юрьевна, – заговорил он. – Мне возвратили деньги за билет. Но, может быть, вам нужно… Ради Бога.
– Не надо говорить об этом, – перебила она. – Да, я очень бедна, и очень вам благодарна за вашу заботливость. Но я думаю, что мне хватит.
– Надо заплатить за простой каждого дня в карантине, и здесь за содержание, – сказал он. – Это такой вздор. Ведь вы мне отдадите со временем. Вы перешлёте мне в Египет или в Россию. Но успокойте меня. Я знаю, что у вас теперь денег нет. Быть может, мы завтра расстанемся и навсегда. Позвольте же мне оказать вам эту маленькую услугу…
– Но зачем же? – смущённо сказала она, хотя сообщение о карантине и о новых поборах поколебали её.
– Наконец, мало ли что может случиться в Константинополе, в незнакомом городе? Вдруг вы не сойдётесь почему-нибудь с этими грекосами: вам надо же будет воротиться домой?
– Я должна сойтись, – сказала она, – хотя бы мне было очень трудно. У меня мать больна: она не может зарабатывать. Кроме меня никто её не поддержит. Я больше для неё и приняла это место. Отец был богат и всё проиграл в карты. Утром после проигрыша его нашли застрелившимся. Он написал записку: «Я поступаю, как честный человек: плачу шулерам всё до копейки, и свою семью пускаю по миру». Это быль чудесный человек. Если б вы знали, как я любила его… А мать я не люблю, – внезапно прибавила она. – Вы думаете, моя поездка – это дело дочерней любви? Нет. Я должна её содержать и потому взяла место, которое выгодно. И я буду всё отсылать ей, оставляя себе только самое необходимое.
Она улыбнулась, показывая ряд маленьких, белых зубов.
– Видите, какая я наивно-откровенная, – проговорила она. – Вам, совсем мне чужому человеку, открываю такие вещи, как свои отношения к маме. А знаете, это почему? Потому что у меня никого нет. У меня нет близкого человека, с которым я могла бы поговорить. А временами это тяжело, очень тяжело – молчать. У меня никогда, даже в гимназии, не было подруги, – я росла одинокой. Прежде это как-то не было заметно, а теперь с каждым годом всё делается тяжеле и тяжеле.








