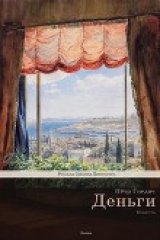
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
XVII
Тотти долго не могла отдать себе точного отчёта, куда она попала. То ей казалось, что дом Петропопуло какое-то гнездо всякой мерзости. То все члены семьи казались ей милыми, хорошими людьми, с которыми можно было отлично ладить. Барышни были совсем ещё неиспорченные миленькие девушки, привязчивые, любящие, лишённые всякого воспитания, мечтающие о замужестве днём и ночью. Вокруг них весь воздух точно был наэлектризован влюблённостью. Они целый день только и говорили о том, какие приехали на Принкипо новые греки, и у кого сколько денег, и кто женат, кто вдов, кто холост. Костя целую неделю жил в Константинополе и приезжал в семью только по воскресеньям. Сам Петропопуло бывал чаще – раза три в неделю, и был всегда неизменно весел. Старуха зорко следила за всем с своего кресла. У неё были во всех комнатах расставлены большие зеркала над такими углами, что она видела всё, что делается за четыре комнаты.
На Тотти явились светленькие модные платья. Г-жа Петропопуло терпеть не могла тёмных цветов. Она на другой же день по приезде гувернантки выложила перед ней несколько турецких золотых и сказала.
– Возьмите, душенька, эти деньги и сделайте сейчас же себе три платья: светло-палевое, белое и светло-розовое.
– Но я не могу идти на такой расход, – нерешительно заметила Тотти.
– А я не могу допустить, чтоб вы были одеты иначе, чем мои дочери. Нет, уж вы, пожалуйста, душенька. Считайте, что это мой подарок. Поцелуйте меня в эту щеку и, пожалуйста, не сердитесь.
Когда она сказала дочерям, что её удивил поступок их матери, они, в свою очередь, удивились.
– Да ведь мы миллионеры, – с каким-то невинным цинизмом сказала Фанни. – Смешно, если б мы жалели гроши на тряпки.
– Вы можете не жалеть для себя, а при чем же я? – спросила Тотти.
– А не всё ли равно? Вы ведь наша? Вы всё равно, что родная. Хотите денег? Я вам дам, – у меня есть. Жалованье – это так, своим чередом. А так как вы чудесная и милая, так вы наша. И всё, что хотите, мы вам дадим.
– Разумеется, – подхватила Лена. – Если хотите, – кольца, браслеты, брошь, – вы только выберите: я вами сейчас отдам. И Фанни отдаст. Ведь у вас нет ни браслетов, ни колец? Милочка, возьмите.
И Лена высыпала перед ней из шкатулки целую груду колец, цепочек, браслетов и брошей.
– Нет, – возразила Тотти, улыбаясь, – вы чудесные девушки, но я вас люблю и без ваших колец. Мне этого не надо.
– Фу, вы гадкая, гордая, – сказала Лена и сгребла всю груду обратно в ящичек.
Они много гуляли. Тотти любила ходить. Барышни сначала упрямились, но потом привыкли к прогулкам. А гулять было где. Сейчас за городком начинались рощи и поля. Дорога вилась по холмам, между кипарисов, каштанов и пихт. То она терялась в их густой, изумрудной чаще, то сразу выбегала на простор, неслась к берегу, – и открывался широкий вид на морской простор, на тонущие в далёком дымчатом тумане горы, на белые паруса лодок. Аромат травы смешивался с солёным ароматом моря. Листья деревьев тихо шептали, волны пели свою вечную, неугомонную песню. По дороге, на ослах и сытых конях, ехали негоцианты, монахи и торговцы: наверху, на горе был старый монастырь, и его любили посещать путешественники.
Раз, уже под вечер – это было через неделю после приезда Тотти – они шли рощей, насквозь пронизанной пурпурными лучами низкого солнца. На повороте, круто взбегавшем на холм, они увидели трёх путников, смотревших на расстилавшуюся под ними долину. Лена схватила Фанни за руку и шепнула:
– Смотри, это тот, что я говорила: правда, душка?
– Не знаешь кто? – спросила Фанни.
– Нет.
Когда они поравнялись с стоявшей группой, «душка» приподнял шляпу по адресу Тотти и, сказав что-то своим спутникам, сделал нерешительное движение к ней. Тотти тоже отошла от своих воспитанниц.
– Я решился остановить вас, – начал товарищ прокурора, – чтобы сообщить вам моё местожительство. Я уже не живу в Константинополе, а переехал сюда, против гостиницы Калипсо.
Она наклонила голову, в благодарность за внимание, но ничего не ответила.
– Я буду писать брату, – продолжал он, – что прикажете сказать от вас? Довольны ли вы вашим местом? Хорошо ли устроились?
– Да, я довольна, – ответила она.
– Это ваши ученицы? – сказал он, кидая внимательный взгляд в сторону барышень. – Их отец, кажется, имеет большой дом в Пере и очень богат?
– Да, кажется.
«Старшая очень элегантна», – точно вслух подумал он и, приподняв снова шляпу, почтительно поклонился и отошёл к своим.
– Кто это? Кто? Вы его знаете? – защебетали гречанки. – Давно вы его знаете? Он русский?
Тотти сказала всё, что знала о нем.
– Он очарователен, – воскликнула Лена. – Ах, если б нам познакомиться!
Случай для знакомства представился на другой день. Анатолий, в элегантном сиреневом пиджаке, слегка надушенный, неожиданно явился на даче Петропопуло. Ему необходимо нужно было видеть глубоко уважаемую mademoiselle Ламбину. Он скоро уезжает в Россию, и, быть может, от неё будут какие-нибудь поручения. Тотти поблагодарила и сказала, что никаких поручений не будет. В комнату вошла Лена, ответила кивком на изящный поклон юриста и сказала:
– Извините, monsieur, maman на одну минуту просит к себе mademoiselle.
Тотти вспыхнула. Ей показалась сперва оскорблением эта бесцеремонность. Но, когда она вошла в комнату maman, всё сразу объяснилось.
– Душенька, – сказала она, – пожалуйста, приведите сюда этого прокурора и представьте его мне. Мои дряни в таком восторге, что не хотят его выпустить из дома.
Тотти засмеялась, пожала плечами и вошла обратно в залу.
– Г-жа Петропопуло, – заговорила она, – выражает желание познакомиться с вами.
– Я почту за счастье, – ответил товарищ прокурора и пошёл за Тотти в соседнюю комнату.
– Вы знаете, что он жених? – сказала Тотти барышням, реявшим у дверей комнаты матери.
Лена сделала гримаску.
– Мой отец богаче этого адвоката, и я не боюсь конкуренции, – ответила она.
XVIII
Произошло что-то странное и неожиданное. Анатолий пришёл к ним и на другой день, и на третий, а на четвёртый – он пришёл с утра и пробыл до вечера. Тотти была удивлена. Проходя мимо окон квартиры Анатолия, она видела в окне расстроенное, побледневшее лицо девушки с большими серыми глазами и рядом с ней красивую кудрявую голову её отца, склонившуюся над русской газетой. Девушка, казалось, вопросительно смотрела на Тотти, как будто ждала от неё разрешения мучившей её загадки. Тотти делалось неловко, и она проходила мимо, стараясь не смотреть по сторонам.
А дома – с самого утра перед ней проносился вечный праздник беззаботного житья. Девушки с хохотом вставали с постелей, в угоду ей щебеча по-французски. С хохотом они одевались, мылись, припекали свои кудри до того, что чад стоял по комнате и пахло палёными волосами. Они сидели по два часа каждая у своего зеркала и с наслаждением осматривали своё лицо, шею и плечи, – нет ли где пятнышка и прыщика. Тотти призывала их к добродетели, но всё было напрасно. Они смеялись, целовали её, целовали друг друга, шуршали шёлковыми рубашонками, туго затягивались в длинные книзу и открытые сверху парижские корсеты; пристёгивали к ним чулки, натирали каким-то кремом руки, чтоб они не загорали, и едва к двенадцати были готовы. Когда приходил Анатолий, они обе расцветали и по очереди кокетничали с ним, как кокетничают дочки богатых коммерсантов – грубо, наивно, навязчиво. Они не ревновали друг к другу, – каждая из них уступала другой кавалера, и каждая в разговоре с ним, казалось, хотела сказать: «Вот, смотри, какая я, смотри, какая я хорошенькая; да ещё какое приданое за мной; если хочешь – женись или возьми сестру; это всё равно, – я найду себе, другого, но на ком-нибудь из нас, женись, миленький».
Несмотря на их глупость, обе девицы действовали довольно систематически. Они вовремя умели показать гостю брильянты не только свои, но и матери, наивно заметив, что колье, перешедшее к ней ещё от бабушки, получит в приданое та, которая раньше выйдет замуж. Потом ему показывали фотографию их дачи под Одессой и говорили:
– Вот это всё вокруг наше, и эти амбары наши, тут их целый городок. А вот там правее – это уж дядино. Но дядя старше папы, и детей у него нет, так что всё после него к нам переходит. Лена, покажи Анатолию Павловичу дядин портрет.
И ему приносили портрет старого грека с большими вылупленными глазами. На портрете была надпись: «Моей любимой племяннице-дочке».
– Видите, как он нас любит, – объясняли ему.
Анатолий чувствовал себя с барышнями несравненно свободнее, чем с Наташей. Во-первых, тут не было вечной, тягучей речи о больном отце, да и самого больного отца не было. Во-вторых, разговаривая с барышнями, можно было решительно ни о чем не думать, задавать им вопросы и отвечать как попало, особенно если тут не было Тотти. Тотти мешала. В её чёрных глазках было что-то, отчего иногда Анатолию становилось неловко. Но она, впрочем, не мешала им; при втором уже посещении Анатолия, ей сказала madame Петропопуло:
– Душечка, оставьте их. Если вы сами за него хотите, – тогда другое дело. Но если вы не рассчитываете, так не мешайте. Молодые девушки – им, конечно, приятно иметь такого кавалера.
И Тотти их оставляла. Она бралась за книгу и уходила в садик. Она садилась на скамейку и задумчиво смотрела на то же море, на которое из своего окна смотрел Александр Дмитриевич. Она видела те же, что и он, далёкие горы, синеватыми кругами вздымавшиеся над лазурной гладью. Но мысли её были иного строя. Она ни о чем собственно не думала, и это были только обрывки мыслей. Она вспоминала свой дом, своё детство, свою мать. Она думала о том, как живут люди за этими лиловыми горами, и что там дальше, и куда ходит этот пароход, и зачем так много народа ездит каждый день из того селения, что виднеется там на берегу, сюда, на Принкипо, и дальше, туда, в Константинополь. Она не думала ни о варягах, ни о послах Владимировых, ни о значении Византии, – она смотрела на смутную дымку, окутывавшую Константинополь, и вспоминала пыльные, душные комнаты, тощую кошку и того осла, что лягался на улице, когда она отъезжала от таможни. Ей никуда не хотелось, никуда её не тянуло. Она была почти довольна своим положением, хотя вечное стрекотанье девиц раздражало её.
Она два раза застала их за чтением бульварного французского романа. Она начала его просматривать – и увидела, что он и пошл, и циничен. Она сама смутно понимала всё его неприличие и просила барышень его бросить. Они кинулись целовать её, по обыкновению, и уверять, что это всё совсем ничего и что брат им приносит и не такие книги.
Даже Тотти была рада, что её оставляют одну. Она нашла несколько старых романов Гюго и была поглощена фантасмагорией его огненных красок. Точно какая радужная паутина спускалась на неё, когда она развёртывала книгу. И в этой паутине, отделявшей её от остального мира, было ей хорошо, – и ей казалось, что она сладко спит наяву. Мощные чувства, мощные люди, чрезмерная любовь, острота чувствительности, безбрежность поэтического вымысла, – всё это уносило её куда-то высоко, на вершины тех гор, где ночевали пурпурные облака. Она забывала, что в нескольких саженях от неё Лена играет на инкрустированном пианино какую-то польку, а сестра ей подпевает, а товарищ прокурора, слегка прищурившись, смотрит внимательно на них и думает: «Которую?»
Раз, под вечер, она шла по дороге к соседнему магазину, чтоб купить бананов, когда Наташа подошла к ней и остановила её.
– Не у вас ли Анатолий Павлович? – внезапно спросила она, и на лице её так и дрожали тревога и страх.
– Да, он у Петропопуло, – ответила Тотти.
– Скажите ему, будьте добры сказать… Что папе дурно, при нем доктор. Я одна сбилась с ног… не придёт ли он?
– Если хотите, я помогу вам, – сказала Тотти.
– Нет, – почему же вы! – быстро возразила девушка. – Я бы вас просила позвать его.
– Хорошо, я сейчас пришлю его.
Она быстро повернулась и пошла к даче. Товарищ прокурора сидел перед Леной, и они били друг друга по рукам, стараясь отдёрнуть пальцы от удара.
– Вас просят к этому старику: ему очень плохо, – сказала Тотти. – С ним, кажется, припадок.
Анатолий поднял голову и сказал:
– Неужели? Это очень грустно.
Лена воспользовалась этим и звонко шлёпнула его по руке, так что гул пошёл по всему дому.
– Лена, – заговорила Тотти, – оставьте его, ему надо идти, у него обязанности.
Девушка опустила руки.
– Я не держу, – виноватым голосом сказала она.
– Не послать ли лучше записку? – спросил Анатолий и тут же, вырвав страничку из записной книжки, написал:
«Что случилось? Напишите, пожалуйста».
Бумажку послали с горничной. Через десять минут она принесла ответ. Под вопросом было написано карандашом:
«Не беспокойтесь, – папе лучше».
– Ну, я так и думал, – успокоительно заметил он. – Однако, посидев ещё немного, он встал и простился.
Когда он ушёл, Тотти сказала барышням:
– Мне кажется, он – нехороший человек.
– Нет, он хороший, – обиженным тоном сказала Лена. – И я не знаю, зачем вы его взбаламутили? Ведь всё равно, он на ней не женится.
– Почему вы знаете?
– Он сам мне сказал. Он мне сказал… Вы не удивляйтесь, пожалуйста, он мне сказал, что любит меня гораздо больше, чем её.
– Он вам сказал это?
– Да, и я выйду за него замуж.
– Вы вздор говорите.
– Нет, не вздор, не вздор, – вдруг закричала Лена, и затопала ногами. – Не смейте мне так… Не смейте.
Она вдруг упала на диван и залилась слезами.
– Она гадкая, гадкая! – сквозь слезы говорила она. – Он не любит её, меня любит.
Вошла мать. Она услышала её рыдания и, переваливаясь, вползла в двери. Она равнодушно посмотрела на дочь.
– Помочите её, вспрысните, – сказала она. – Видишь, как полюбила: бьёт всю даже.
Сестра побежала за водой и стала спрыскивать Лену.
– Оставьте меня! – кричала она. – Вы все гадкие, меня все ненавидят! Я отравлюсь, я не могу больше!
– Скажите, как влюбилась! – сочувственно повторяла старая гречанка, качая головой. – Совсем пора замуж выходить: так кричит, что сама ничего не понимает.
Лена успокоилась только тогда, когда её уложили в постель. Да и там она, лёжа ничком, всё вздрагивала и судорожно пожимала плечами, спрятав лицо в подушки.
XIX
На следующий день был праздник. Все греки накануне съехались на острова, позакрывав в Константинополе свои конторы и склады. В монастыре служили обедню, и серебристый звон колокола далеко разносился по морскому простору. Тотти встала раньше своих учениц и по обыкновению вышла в садик. Мимо ограды ходил какой-то господин с большой головой, и фигура его показалась ей знакомой. Она взглянула попристальнее и узнала в нем бухгалтера, с которым познакомилась на пароходе. Он тоже признал её и радостно приподнял свою странную остроконечную шляпу.
– Фу! Слава Богу! – сказал он. – Наконец, я хоть вас нашёл. Приехал с вечера и блуждаю здесь, как воришка, заглядывая во все окна.
– Я рада вас видеть, – ответила Тотти, подавая ему руку. – Вы искали меня?
– Собственно, не вас, а прокурора. Но я счастлив, что и вас нашёл. Вас не съели греки?
– Нет, как видите, – засмеялась она.
– Вижу. Вижу даже, что вы цветёте. У вас лучше вид, чем на пароходе. Появился загар, глазки блестят. Что же, вы довольны вашим местом?
– Не знаю, кажется, довольна.
– О, «кажется». Противное слово! Терпеть не могу кажется, и особенно, когда что-нибудь кажется хорошим. У нас часто говорят: он, кажется, не мошенник. У нас в банке так говорят. Стараются уверить и себя и других, что все, кажется, порядочные люди и, кажется, никто не ворует. Впрочем, это всё вздор! Ну, а скажите, как же живут греки? Едят грецкие орехи, моются грецкими губками, исповедуют греческую веру?.. Кстати, как фамилия ваших принципалов? Петропопуло? Ну, вот видите! А я всё спрашивал Попандораки: мне мельком называли фамилию, но я, конечно, тотчас же и спутал. Ну, вот, очень я рад, очень. Я так и напишу нашему архитектору, что видел вас, что вы веселы, счастливы, довольны, жизнерадостны, любвеобильны и прочее, и прочее.
– Почему же любвеобильна?
– У вас в глазах горит светлая, ясная, молодая любовь ко всему: к природе, к людям, к Богу; мне кажется у вас такое настроение, что вы любите даже комаров и мух.
– Ох, как вы не наблюдательны! – возразила Тотти. – Напротив, я никого не люблю в мире, и ко всему равнодушна. На меня нашла полоса какого-то безразличия.
– Нет, вы меня не обманете, – воскликнул Алексей Иванович. – У вас под пеплом тлеют искры, – вы меня не разубедите. Так ноздри не раздуваются, когда человеку до всего всё равно. Ну, да опять-таки и не в этом дело. А вот что – укажите мне, где обитает наш прокурор. Ему, понимаете, одну за другой присылают три телеграммы. Кто его знает, о чем извещают: может у него дядя в Америке умер, или какая-нибудь фабрика его сгорела. Приносят в гостиницу до востребования одну, потом другую, потом третью. Я знаю, что он куда-то уехал на Принцевы Острова – но куда, не знаю. Фамилию его невесты тоже забыл. В гостинице почему-то совсем их фамилии не знают. Словом, чепуха, андроны на колёсах. Сам прокурор мне так же симпатичен, как подошва на чужом сапоге, но всё-таки должен же я передать нужный документ. И вот я сажусь на какой-то кривой пароход и приезжаю сюда. Вчера рыщу по всем улицам и переулкам, сижу в саду, где играет скверная музыка, и пью скверную мастику (вот тоже греческое изобретение!), – и никого не вижу из тех, кого надо. Сегодня только что выпил стакан кофе (Боже мой, что за гадость этот кофе), как опять, высуня язык, ношусь с горки на горку. Хорошо ещё, что нигде не видно дворников с бляхами, а то они задали бы мне за любопытство… Вы меня простите, что я так много наговорил. Но дело-то всё в том, что я больше недели ни слова не говорил по-русски. Вы понимаете, как это тяжело, такая является потребность отвести душу…
Они стояли у низенькой железной решётки. Бухгалтер взялся за неё двумя руками и раскачивался взад и вперёд. Девушка стояла против него, закрывшись от солнца красным зонтиком. Они почти не заметили, как возле них выросла внезапно длинная фигура юноши с покрасневшим, возбуждённым лицом.
– Pardon, mademoiselle, – говорил Костя. – Пожалуйста, pardon. Я не хотел перерывать tête-à-tête. Но я случайно проходил мимо и вижу.
– Почему же вы это называете tête-à-tête? – вспыхнув, спросила Тотти. – Хорошее место для свиданий – улица.
– Мне это всё равно! – сдерживая злость, сказал юноша и, приподняв шляпу, удалился.
– Это что? Хозяйский сын? – спросил бухгалтер. – Влюблён мальчик? Успел уж?
– Что он говорит пошлости, ему и Бог велел, – проговорила Тотти, – но вам-то как не стыдно?
– Да что ж тут стыдиться? Дело простое. Увидел хорошенькую девушку, да ещё без эллинского носа, ну и, кончено, и готов.
– Вам нужен адрес Анатолия Павловича?
– Нужен.
– Вот он живёт там накось. Видите, белый дом с зелёными ставнями? Там железные ворота, и подъезд налево. Прощайте.
– Постойте, постойте, – вы сердитесь! Ради Бога, – этого совсем не надо. Если я что сказал лишнее, не обращайте внимания. У меня язык, что воронка – всё проливается. Ну, умоляю вас, не сердитесь. Я проживу здесь дня два, и каждый день буду ездить на осле мимо ваших окон.
Она кивнула ему головой и пошла по дорожке, а он направился к указанным ему воротам.
Анатолий только что встал и пил у себя в комнате чай, когда увидел из окна Алексея Ивановича. Он поморщился, но пригласил его войти в комнату.
– Вы извините, я не у себя живу, – сказал он, подавая ему стул и как бы намекая, чтоб он не засиживался.
– Я тоже в гостинице, – возразил Алексей Иванович.
– Это не гостиница, а дом моего тестя, – поучительно заметил товарищ прокурора.
– Да, это выгоднее гостиницы, – согласился бухгалтер. – Вы меня извините, что я осмелился ворваться в вашу интимную жизнь. Но мною руководило желание передать вам, быть может, нужные телеграммы.
– Весьма благодарен, – ответил Анатолий, не выражая, впрочем, на лице никакой благодарности, и протянул руку за телеграммами.
Алексей Иванович вынул бумажник, покопался в нем и вытащил три депеши.
– Вот это номер первый, – сказал он, – вот второй, вот третий, – в хронологическом порядке.
Анатолий вскрыл первую телеграмму, тотчас же её бросил, вскрыл вторую, слегка побледнел, сдвинул брови, подумал, медленно распечатал третью, прочёл, свернул её и встревоженно сделал несколько шагов по комнате. Он видимо сдержался и больно закусывал свои побелевшие губы.
– Кажется, я вам привёз неприятные известия? – спросил бухгалтер.
– Да, не из приятных, – сказал он, продолжая шагать.
Алексей Иванович молча следил за ним глазами.
– Не могу ли чем-нибудь, вам помочь? – спросил он.
Анатолий улыбнулся его наивности.
– Вы? Мне? – спросил он в свою очередь. – Нет, благодарю вас. Я не нуждался никогда ни в чьей помощи.
Бухгалтер встал.
– В таком случае до свидания! – сказал он.
– До свидания, – повторил товарищ прокурора, подавая ему руку. – Я искренно вам благодарен за ваше беспокойство; я прямо поражён. Неужели вы приехали для этого из Константинополя?
– Я думаю, это всякий бы сделал. Ведь вы, я полагаю, привезли бы мне нужные депеши, если б были в моем положении?
– To есть, если б располагал совершенно свободным временем? Очень может быть. Весьма вероятно.
Он проводил гостя до двери, воротился к столу, снова перечёл все три депеши, улыбнулся, потёр себе пальцем лоб, опять прошёлся по комнате, затем остановился, поднял голову и сказал:
– Надо действовать.
Он тщательно оделся, вычистил и отшлифовал ногти, подвил усы, завязал очень искусно галстук, посмотрел на часы и позвонил прислугу.
– Я ухожу по делу, – сказал он, – ворочусь не раньше, как через час. Если спросит обо мне барышня, вы скажете, что я к часу буду.
Он ещё раз оглядел в зеркале свой туалет, ещё раз поправил галстук, взял шляпу и трость и вышел из дома.








