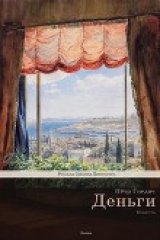
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
VI
Он смотрел на неё, и видел, что в изломе её бровей, в линиях рта, в матовом блеске глаз, есть что-то затаённо-грустное, выстраданное. Ни одной складки ещё не было на её белом лбу; ни одна морщинка ещё не замечалась вокруг её глаз; её губы слагались в чистую, девственную линию, и в то же время лицо говорило: я видела горе, я знала горе, я понимаю его.
– Я тоже рос одиноким, – сказал Иван Михайлович. – У меня тоже нет близких друзей. Но я не тягощусь этим. Я привык рассчитывать сам на себя и на свои силы. Мне тоже отец ничего не оставил умирая, я и не сокрушаюсь об этом. Не всё ли равно? Раз я могу работать – зачем мне чужие деньги, хотя бы моего отца?
– Да… – как-то неопределённо сказала она, смотря куда-то перед собою. – Деньги, – странная это вещь деньги. Я ненавижу их: от них главное зло, и на каждом шагу они отравляют мне жизнь.
Она задумалась. Он не прерывал её.
– Бедность отвратительна, – продолжала она, – потому что даже честный человек из-за неё идёт на компромиссы. Обыкновенно говорят, что он гибнет со знаменем в руке. Но это редко бывает. У нас был в гимназии учитель, который всё говорил о знамени, а сам доносы писал на товарищей, потому что ему хотелось получить место инспектора: детей было много.
– У вас мало веры в жизнь? – спросил Иван Михайлович.
– Веры много, и силы есть, – задумчиво ответила она. – А только шаткость какая-то под ногами, неустойчивость. Да вы возьмите моё положение. Поступаю я в незнакомую семью гувернанткой. Мне кажется, у меня есть способности учить. Труд это хороший, относиться я буду к делу добросовестно. Но беда-то вот в чем. Главные мои занятия: языки, – русский и французский, – и я их знаю. Буду все усилия употреблять на то, чтоб и девочки-гречанки их знали. А в глубине души вертится мысль: а зачем им знать французский язык, зачем им правильно писать по-русски? Вероятно, есть знания, которые гораздо им были б нужнее и полезнее для жизни. Но этих знаний я преподать не могу, потому что сама их не знаю. Вон в евангелии сказано, что главное знание – знать, как надо любить ближнего. А как я этому научу?
– Назад везут после дезинфекции, – сказал им бухгалтер, проходя мимо. – Совсем лодки Харона, – посмотрите.
Они вышли из рубки. Дождь прошёл, только дул ветер. «Лодки Харона», ныряя в волнах, приставали к пароходу. Оттуда вынимали бесчувственные, бледные тела. Точно не на три часа увозили их на берег, а они пробыли неделю без пищи, без света и воздуха. У всех лица сразу опали, мускулы втянулись, взгляд стал блуждающим.
– Уж и хрупкие старушки нынче стали! – говорил один весёлый матрос, внося на руках маленькое дряблое тельце, прикрытое мятой, точно изжёванной кацавейкой. – Ну, становись, божья тварь, на ноги! Не можешь? Отдышись здесь на ветерке.
Он посадил её у борта, на палубу, и побежал опять вниз к шлюпке.
– Что с вами? – спросила Тотти, наклоняясь над ней.
Но старуха только тяжело дышала. Веки её вздрагивали, то подымаясь, то опускаясь.
– Укачало её очень, – заговорила курносая богомолка, появляясь возле. – Страх, как било нас у середины. Думали, уж совсем конец пришёл. Одна бабёнка чуть грудного своего младенца в воду не упустила. Как хлястнет пена в неё, так всё до нитки промочило, – в рот и в нос морская горечь налезла.
– Смотрите, смотрите, – морщась заговорила Тотти, показывая на несчастных. – Что это за ужас!..
Некоторые входили и, тут же шатаясь, падали на колени. Они крестились, глядя со слезами на хмурые тучи, и губы их шептали:
– Слава те, Христе: сподобились воротиться.
– И слабосильная же команда, – говорил матрос, втаскивая двоих ребяток. – На качелях небось качаетесь, а тут боитесь.
– Это очень интересно! – говорила толстая армянка, смотря на привезённых в лорнет. – У них совершенно испорчено всё платье; посмотрите, точно оно выстирано и не выглажено. Очень интересно.
Худой, мрачного вида старик в позеленевшем от времени подряснике, недружелюбно посмотрел на толстую армянку.
– Собрали бы что на недостаточную-то братию, – сказал он ей. – Ограбили нищих-то.
Товарищ прокурора неожиданно вынул трехрублевую бумажку.
– Вот, пожалуйста, раздайте, – сказал он.
– Ах, и от меня дайте им рубль, – сказала армянка. – Я так хочу выразить им сочувствие.
Тотти отвела Ивана Михайловича в сторону.
– Да, – заговорила она, – вы мне дадите денег. Я отдам вам потом. Нужно им непременно дать…
– Хорошо, хорошо: я распоряжусь, – конфузливо заговорил он. – Вы не беспокойтесь. Вы узнайте только, кто больше потерпел…
– После обеда приедет доктор для выдачи карантинных свидетельств, – объявил помощник капитана. – Завтра с рассветом мы тронемся.
– Наконец! – сказал Анатолий Павлович. – И всё-таки надо разъяснить этот инцидент. Нас в карантине не могли задержать. Существует, оказывается, договор, по которому карантины между Турцией и нами уничтожены.
– А какая будет польза от этого разъяснения? – спросил, смеясь, капитан. – Вот приедет доктор: спросите-ка у него. Мы здесь десятый год плаваем, и никакого толку не можем добиться, когда поднимается разговор о международных правах. Единственное право, которое признают турки, – деньги. Они берут деньги со всех, с кого можно, – возьмут и с нас. А что касается порчи платьев, это ещё с полгоря. Испортить можно вот такое пальтецо на шёлку, как у прокурора, а их лохмотья от препариванья только чище будут. Складочки отойдут со временем: ещё они же должны быть благодарны, что всё зверьё их передохнет.
И он равнодушно посмотрел на привезённую партию, таким же взглядом, каким смотрел на коров и баранов, грузившихся на пароход, и пошёл к себе справлять поздний завтрак.
Опять пассажиры разбрелись. Опять сели за винт, принялись за книги. Бухгалтер с упорством высиживал своё стихотворение. Он всё не был им доволен, хотя не без пафоса прочёл его двум-трём пассажирам.
– Вы, пожалуйста, замечания делайте, замечания, – говорил он и декламировал несколько в нос и нараспев:
Двурогий серп сверкает над водами,
Чернеют башни старых батарей:
Они хранят ключи от двух морей,
Они хранят пролив между морями.
Блеснул огонь. То огненный привет
Нам пушка шлёт… Мы ждать должны денницы.
Под жерлами таинственной бойницы
Мы ждать должны с смирением рассвет.
И с гневным рёвом стонут якоря,
В зыбучие опущенные волны;
Как духи тьмы во мраке реют чёлны,
И далека желанная заря…
По берегам затеплились огни,
Светясь сквозь дымку голубую ночи:
Как филина таинственные очи,
Следят во тьме врагов они…
– Ну, а конца я ещё не написал…
Товарищ прокурора тоже случайно услышал стихи, и сказал:
– Я в поэзии очень мало понимаю толка. Но скажу, что надо говорить «со смирением», а не «с смирением».
Бухгалтер обиделся.
– Я собственно – дилетант, – проговорил он, – и нисколько не претендую на звание поэта. И хотя печатаюсь, но гонорара не беру.
– Отчего же? – удивился Анатолий Павлович. – Каждый труд должен быть оплачен.
– Поэзия – не труд, – сказал строго Алексей Иванович, – и оплачена быть не может.
– Невесомых материй не признаю, – засмеялся товарищ прокурора, – и полагаю, что как бы тонка и возвышенна поэзия ни была, но может быть взвешена и оценена.
– Это с точки зрения слепой Фемиды, – злобно заметил Алексей Иванович. – У неё в руке и весы для этого имеются.
– А с бухгалтерской это величина несоизмеримая? – с гримасой спросил Анатолий Павлович.
– Не столько с бухгалтерской, сколько с моей, – вспыхнув проговорил Перепелицын. – И я считаю, что вообще писатели не должны брать деньги за свои вещи. Продавать свою душу нельзя, потому что душа – предмет непродажный. Но не будем лучше об этом говорить.
Товарищ прокурора пожал плечами и сказал:
– Что ж, не будем: мне всё равно.
VII
Карантинный доктор появился на пароходе настолько внезапно, нежданно, что появление его было почти сверхъестественно. Точно он спустился, подобно чайке, прямо с неба на палубу. Никакой шлюпки нигде видно не было, и не будь он так велик и толст, можно было бы подумать, что его привезли случайно, ещё перед обедом, вместе с пассажирами третьеклассниками, – а только никто не заметил ни его, ни его портфеля.
Если пассажиры ожидали в лице карантинного врача встретить бородатого турка, в соответствующей чалме, шароварах, в туфлях с загнутыми носками и с длиннейшей трубкой, – они были в глубоком заблуждении. Доктор был молод, румян, слегка курнос, с отлично выбритыми щеками и подбородком. Маленькие усики вздымались у него двумя хвостиками кверху и придавали ему вид какого-то весёлого зверка, выставившего свою мордочку из норы и принюхивающегося к тому, чем пахнет. На его кругленьком, блестящем носу шатко сидело золотое пенсне и ежеминутно сползало, как салазки по ледяному скату. Глаза бегали между весёлых припухлых век. На щеках и на подбородке были ямочки, по мнению опытных старух, обозначавшие то, что младенца при рождении поцеловал амур. Тот же амур, по-видимому, наградил доктора двумя бутонами на лбу, пониже фески, доказывавшими, как жгучи иногда бывают его поцелуи. Он был одет в чёрный сюртук, с лиловым галстуком, заткнутым булавкой, изображавшей подкову, усыпанную крупнейшими камнями зелёного и кровавого цвета. Такие булавки продаются у нас рубля по полтора. Икры у него были толстые, выпятившиеся из-под сукна серых панталон, и он шёл, подрагивая ими и кокетливо подёргивая усиками.
Расположившись у стола, он вынул из портфеля бумагу, чернила, перо, и всё это разложил по столу с видом фокусника, собирающегося потешить и поднадуть почтеннейшую публику. И пальцы у него были, как у фокусника: гибкие, цепкие, подвижные. В лице было вдохновенное выражение.
– Господа, – заговорил он по-французски. – Исполняя предписание его величества султана, мы принуждены были задержать ваш пароход. Мы должны заботиться о благе нашей страны и не рисковать здоровьем населения…
– Но ведь холера у вас в Адрианополе, а не у нас? – со злобой ответил ему товарища, прокурора.
Доктор повернул к нему лицо и весело посмотрел на него.
– Разве? – удивлённо сказал он. – Для меня это новость. Здесь, на русском пароходе знают больше, чем в медицинских кружках Стамбула? Но, мне кажется, ваше сообщение нуждается в проверке. Имеете ли вы положительные данные утверждать, что холера приютилась именно в Адрианополе, и каково там число заболеваний, и предприняты ли правительством меры к пресечению эпидемии? Если сведения ваши опираются на фактические данные, то я немедленно составлю отношение подлежащему начальству.
Анатолий Павлович поморщился. Его бил турецкий доктор его же оружием: официальностью и законностью.
– Я ничего не утверждаю, – сказал он, – я знаю только, что в России эпидемии нет, а нас здесь запирают в карантин.
Доктор постарался придать своему лицу ещё более удивлённое выражение.
– Запирают? Но позвольте, – я именно приехал затем, чтоб дать вам свободный пропуск. У меня в портфеле проездные свидетельства. С своей стороны, я ускориваю официальную процедуру, насколько это в моей власти. Другой на моем месте, весьма возможно, затянул бы это дело на день и на два…
– Да бросьте вы его, не привязывайтесь, – сказал Анатолию Павловичу бухгалтер. – Пусть он скорее нас отпустит – и дело с концом.
– Ну-с, здесь темновато, – заговорил доктор. – Я бы очень желал получить две или даже четыре свечи. Никаких освидетельствований, никаких карантинов мне не надо. Достаточно слова почтенного капитана, что все пассажиры чувствуют себя хорошо, и я поверю на слово. Посмотрел бы я, как бы вы отделались, если б это был немецкий или испанский карантин. Поверьте, за экипажем было бы учреждено наблюдение, и остался бы совершенно неразрешённым вопрос, когда вы тронетесь дальше.
Санитар, стоявший сзади его стула, кивнул утвердительно головой на присутствующих. Глаза его говорили.
– Ах, какой тупой народ эти русские! Да дайте нам бакшиш. Не проще ли было ещё сегодня утром собрать соответствующую сумму? Ну, вот вы потеряли целый день. Теперь тоже теряете время.
Но пассажиры сидели, тупо смотря на ямочки доктора. Он поправил феску, водворил на место сползавшее пенсне и отпер портфель.
– Я приступаю к сбору за карантинный простой, – строго сказал он и ещё строже посмотрел на присутствующих. – Каждый из пассажиров облагается пятью пиастрами за каждый день.
– Но ведь это грабёж! – закричал по-русски товарищ прокурора, вскакивая с места. – Я пяти пиастров платить не намерен. Этого оставить нельзя!
– А знаете вы, что такое пять пиастров? – спросил его капитан.
Представитель обвинительной власти как-то осёкся. В самом деле, ему пиастр представился чем-то вроде фунта стерлингов, – а может быть и больше.
– Почём я знаю, – ответил он, но уже сильно понизив голос.
– Ведь пиастр-то меньше наших восьми копеек…
Этого он никак не ожидал, – да и остальные пассажиры тоже.
– Преблагородно, – заметил бухгалтер, – лучше бы взяли утром пятьдесят пиастров, да доставили бы нас вовремя в Золотой Рог, – а то было из чего канитель тянуть.
Доктор помакнул перо в чернила и начал строчить пропускные свидетельства. Капитан смотрел на эту процедуру с презрением.
– И зачем время тратить на письмо, – заметил он, – взял бы деньги, да отпустил нас без расписок.
– А как же нас выпустят без этого на берег? – спросил бухгалтер.
– Да неужто, вы думаете, кто-нибудь у вас спросит эти «пропускные бумаги»? – удивился капитан.
Перепелицын не выдержат и даже плюнул.
– Ну, я вам скажу, – только и мог проговорить он.
И в самом деле – доктор писал до глубокой ночи. Пассажиры напились чаю, часть из них легла спать, свечи сгорели наполовину, а он всё писал и писал. Его нос имел странную способность потеть, так что его приходилось вытирать со всех сторон каждые пять минут, дабы пенсне держалось на подобающем ему месте. Санитар давно уже клевал головою, и глаза его закатывались под лоб. На столе лежала груда серебра, и доктор поглядывал на неё с материнской нежностью. В каюте было душно, пахло новой краской от стен, – но врач ничего не замечал, и усердно загребал деньги.
Ветер после заката утих, небо расчистилось, загорелись звезды. Из далёких круглых облаков всплыла луна, пополневшая со вчерашней ночи, – и опять длинной золотой дорожкой загорелась рябь на водной поверхности. Опять сумерки надвинулись, сгустились сперва в садах, потом закрыли уклоны гор, заволокли сизые дали. На ясном небе вырезался стройный минарет соседней мечети. Но и он пропал, – и всё слилось в одну синюю дрожащую мглу. И опять кое-где загорелись огни. Опять послышалась протяжная, ноющая перекличка часовых, и продолжительный густой лай собак то на азиатском, то на европейском берегу.
По верхней палубе ходили Иван Михайлович и Тотти. Теперь вопрос о том, что они расстанутся через несколько часов был решён: пароход на заре должен был прибыть в Золотой Рог. Мысль о разлуке волновала их, – хотя всего трое суток они были знакомы. Говорили они мало, ходили молча и дышали влажным воздухом ночи.
– А я всё беспокоюсь, что вы останетесь одни, – говорил он. – Послушайте, мой двоюродный брат останется в Константинополе около трёх недель. Позвольте ему повидаться с вами.
– Ваш брат, – нерешительно сказала она. – У него такой сосредоточенный, замкнутый вид.
– Но всё же он русский, и порядочный человек. Дайте слово, что в случае нужды, вы обратитесь к нему.
– Я его не знаю.
– Я вам представлю его. Мало ли что может случиться! Бухгалтер остаётся всего на несколько дней и потому полезным вам быть не может. А с братом я вас познакомлю.
Анатолий Павлович не только ничего не имел против такого знакомства, но даже сказал, что он очень рад. Он изысканно приподнял свою серую пуховую шляпу и сказал, что mademoiselle может располагать им. Он остановится в большой английской гостинице в Пере, и всегда готов приехать по первому требованию mademoiselle.
Он вынул свою карточку, повернулся к луне, и написал: «Perа, Hôtel de Londres».
– А вы где изволите остановиться? – спросил он.
– Я не знаю, – ответила она, – за мною приедут на пароход.
Товарищ прокурора ещё раз приподнял шляпу, и заметив, что поздно, отправился в свою каюту.
Но молодым людям не хотелось спать. Звезды им нашёптывали что-то хорошее. Жизнь больших городов была где-то в стороне. От южной ночи веяло истомой. Таинственный восток плёл над ними прозрачную ткань волшебной сказки. Что-то живое, бодрое, молодое охватывало их, и билось в такт сердцу всюду: и в воде, и в небе. Волны ласкались так тихо, нежно, так целовали и берег, и борта судов, и якорные цепи, как будто и для них всё слилось в один невнятный, неясный, но истомный, томительный поцелуй.
VII
На рассвете загремели цепи. Винт начал вспенивать голубую празелень воды. Пароход дрогнул, и плавно тронулся на юго-запад, к Мраморному морю. Алая заря раскинулась по небу и кровавым светом загорелась на вершинах гор, на старых круглых башнях, на белых домиках, обступивших берег, точно стадо подошло к водопою. Ещё жизнь не начиналась на берегах: всё спало, только кое-где курились трубы и дым прямою струёю возносился наверх, как с жертвенника, зажжённого в честь восходящего солнца.
Все были на палубе. Все смотрели на волшебную панораму, тянувшуюся перед ними. Даже прокурор смотрел в бинокль и отказывался от обвинения, склоняясь на полную невиновность Босфора в его красотах. Перепелицын жадно впивался в каждый заворот, в каждое дерево, в каждый встречный домик, и губы его шептали:
Плывём по следу вещего Олега,
Что пригвоздил свой светозарный щит…
Дальше у него ничего не выходило, да он и не думал о том, что выйдет дальше. Он не слышал, как вокруг говорили, шумели, таскали вещи. Он вглядывался в опаловый сумрак, волновавшийся там, где был Константинополь.
– Ну, прощай, Иван, – сказал товарищ прокурора, небрежно протягивая двоюродному брату руку. – Не знаю, будешь ли ты на моей свадьбе?
– Я тоже не знаю. Как случится, – ответил Иван. – Да ведь ты не будешь в претензии? Желаю вам всего лучшего.
– Браки редко бывают счастливы, – заметил Анатолий, нахмурясь. – Я постараюсь быть, насколько возможно корректным, но что из этого выйдет – трудно сказать. Брак есть совокупность целого ряда условий. Желательно, чтобы условия эти подтасовались возможно благоприятно. Огромное значение имеет то, что она обеспечена. Это избавляет нас от заботы о куске хлеба, о детях и о прочем. Я, конечно, не нуждаюсь собственно в её деньгах, и не возьму у неё ни гроша – всё её. Но я ничего не имею против того комфорта, среди которого она будет жить, ничего не буду иметь против того, что она будет воспитывать наших детей на свои средства. Если мы любим друг друга, то смешно смотреть на грошовые расчёты. Я буду вести на свои деньги стол, – она будет оплачивать квартиру. Таким образом, мы явимся совершенно равноправными членами семьи.
Иван молча смотрел на кузена, и в его глазах как будто сквозила насмешка.
– Что ты так смотришь? – удивился Анатолий.
– Да так… Думаю, что много есть людей, которые способны жить на счёт жены и даже обобрать её при случае.
– Много, – подтвердил Анатолий. – Не далее, как в марте у меня было дело по обвинению женою мужа в растрате и расхищении её имущества по выданной ею доверенности. Он был признан виновным.
– Ну, уж и жена хороша.
– То есть в каком отношении?
– Дело в суде против мужа…
– По-твоему если муж негодяй, так его и оставить, – не судиться с ним? Что за жалкая современная философия. В мире должна быть водворена правда. Мать может жаловаться суду на сына, сын на отца, муж на жену, жена на мужа. Слыхал нашу поговорку: pereat mundus, fiat justitia.[6]6
Пусть рушится мир, но торжествует правосудие (лат.)
[Закрыть]
– Ты с своей философией тоже недалеко ушёл, – засмеялся Иван, – если при помощи суда думаешь правду насаждать в мире.
Анатолий тоже засмеялся, не без оттенка презрения.
– Уж ты не против ли новых судов? – спросил он.
– Нет, я не против, – ответил архитектор и отошёл от брата.
– Вы давно знаете Ивана? – спросил товарищ прокурора у бухгалтера, не сводившего глаз со стен старой крепости, пылавших розовым мягким светом под лучами молодого солнца.
– Да… второй день, – рассеянно ответил тот.
– А-а! – протянул Анатолий. – Я думал, вы старые приятели. Я вам хотеть сказать… Мне кажется, Иван не совсем нормален?
Бухгалтер изумлённо открыл глаза.
– Что за чепуха? – откровенно сказал он.
– Что-то в нем есть нелепое, недоконченное. Вообще, это человек узко односторонний, и дальше своих капителей и фризов он ничего не видит.
– Он мне таким не показался… Я, напротив, в нем вижу много отзывчивости и теплоты. Хотя бы то участие, что он оказал этой миленькой гувернантке.
Анатолий повёл плечом.
– Миленькой! Вы сами говорите: миленькой. Будь она не миленькая, едва ли он сунулся с своими услугами. Он просил меня последить за ней в Константинополе, и я обещал. Неужели вы думаете, если бы она была крива и стара, я бы с такою же охотой предложил своё содействие?
– Вы откровенны.
– Да конечно так! Я говорю то, что думаю, а остальные ломаются. Не так ли?
– Не знаю, – возразил бухгалтер, видимо не желая продолжать дальше разговор.
– А вы где остановитесь? – спросил Анатолий, помолчав. – Вы наметили помещение?
– И не думал. Заеду в первую попавшуюся европейскую гостиницу и помещусь там. Я неприхотлив.
– Знаете, что я вам хотел предложить. Остановимтесь вместе. Я еду в первоклассный отель. В незнакомом городе, где никто на улицах не говорит по-европейски, не лучше ли быть вдвоём?
Бухгалтер смотрел на него с нескрываемым изумлением: он никак не ожидал с его стороны такого предложения. Анатолий заметил его колебания.
– Вы удивлены, почему я вам это предлагаю? – спросил он. – Да потому, что мне кажется, это будет удобно обоюдно, и мне, и вам.
– Что ж, я пожалуй, – нерешительно сказал Перепелицын. – Хотя не знаю, сколько времени останусь здесь.
– Да всё равно, хоть на первое время.
Бухгалтер подошёл к архитектору, разговаривавшему с Тотти, и сообщил ему новость о своём будущем сожителе. Иван Михайлович засмеялся.
– Он очень скуп, – сказал он. – У него тот расчёт, что за комнату вы будете платить пополам, а на чаи будете давать вы одни, а он будет только поднимать шляпу, когда швейцары станут благодарить его за щедрость.
– Ну, вот я и у пристани, – сказала слегка дрогнувшим голосом Тотти.
Пароход, медленно поворачиваясь, подходил к Золотому Рогу, лазурной пеленой разлившемуся между нагорными берегами. Груды пёстрых строений колоссальным амфитеатром подымались вправо. Густые сады, мечети и минареты розовели слева. Хотя было раннее утро, но весь Рог был переполнен каиками, баржами, пароходами, яхтами, катерами. Они сновали взад и вперёд, перекрещивая по всем направлениям залив. Большие суда пробегали прямо и смело и заставляли маленьких кланяться себе вслед. Мелкие судёнышки отважно ныряли с волны на волну, шмыгали под самым носом морских гигантов, круто меняли направление, показывались то с одной стороны, то с другой. В воздухе стояли окрики на незнакомых языках. Матросы бегали и гремели цепями. Нервы у пассажиров были напряжены, и все толпились к борту, чтобы скорее увидеть священный город.
– Неужто вы не поедете осмотреть этот купол? – спросил бухгалтер Ивана Михайловича. – Ведь тысячу четыреста лет он смотрит с своей высоты на залив? Ведь его Олег видел, послы Володимировы видели! Шутка.
– Я заеду на обратном пути – тогда остановлюсь на несколько дней, – сказал Иван Михайлович, смотря не на Софию, а на Тотти, жадно глядевшую на незнакомый город, который, казалось, подавлял её.








