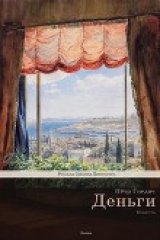
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
II
К ним-то, вот в такую обстановку, попал Толя. Благопристойность дома, не нарушавшаяся тихими шагами седовласого лакея и бесшумной горничной, в первое время возмущалась буйными криками мальчика. Но так как всё живое приспосабливается к окружающей обстановке, то и мальчик вскоре принял общий тон с серыми стенами, молчаливыми креслами и строгими портретами предков. Тётки были к нему не строги, даже ласковы, даже баловали его, но не выносили одного: шума. И Толя отказался шуметь, решив, что это ему не выгодно. Он сидел целыми днями в старом вольтеровском кресле и созерцал лица тёток. Он знал их до малейших подробностей, до последнего пятнышка на лице и, вопреки мнению самих тётушек, ненавидел их всей своей детской душой. Ему были противны их широкие тёмные платья, их золотые пенсне, их скрипучие голоса, их бесцельные взгляды и разговоры. Ему иногда хотелось вцепиться зубами им в руку, прокусить мясо до кости, ему хотелось, чтоб его высекли и этим его успокоили: он бы в самой боли нашёл бы наслаждение. Но всё-таки в мальчике было достаточно силы воли, чтоб не кусаться, не капризничать, он даже был послушен и иногда в его голосе слышалась нежность, когда он говорил:
– Да, тётечка, благодарю вас.
Или:
– Нет, тётечка, благодарю вас.
Он целовал ручки всегда у обеих; если одна была в одной комнате, а другая где-нибудь на противоположном конце дома, то он, поблагодарив одну за полученный финик, непременно разыскивал другую, целовал ручку и говорил, как заведённая машина:
– Благодарю вас, тётечка, я финик получил.
В определённости его отношений к тёткам чувствовался будущий юрист. Он не разговаривал с ними, а точно давал показания или допрашивал их. Строгая логичность мысли всегда вела его по прямой дороге, без малейших уклонений в сторону; когда он вежливо спрашивал лакея: «Не знаете ли вы сколько градусов сегодня на термометре» или: «Скажите, что за окном в угловой?» – в этом вопросе чувствовался будущий прокурор, спрашивающий свидетеля:
– Что вам известно, свидетель Мокрицын, по делу об отравлении мещанки Порлючиновой?
Когда мальчик отвечал урок по закону Божию, он совсем читал протокол судебного следствия.
– «…Тогда Ной, желая удостовериться в том, насколько сбыла вода, выпустил голубя. Когда голубь воротился в ковчег, ему стало ясно, что птица не нашла себе места для жительства, и, переждав некоторое время, снова выпустил её. Птица вернулась с веткой: несомненным доказательством, что появилась растительность. Тогда, переждав ещё некоторый срок…»
Священник, дававший ему уроки, был очень доволен ясностью его изложения и говорил своим духовным дщерям:
– Логика у вашего Толи не оставляет желать ничего лучшего, а любознательность его знаменует острый ум и способности недюжинные.
Иногда Толя допрашивал священника:
– А какое право имел фараон удерживать евреев в Египте, если они этого сами не хотели?
Отец Пётр вздыхал.
– Мало ли чего кто не хочет. За Фараоном было право сильного.
– А отчего же Моисей не обратился к посредничеству Ассирии или Греции? Он имел вполне на то право?
«Острый ум, обострённый чтением газеты!» – думал законоучитель и часто становился в тупик перед бойкостью ученика, который хотел выискать логические выводы там, где надо было воспринять факт без всякого раздумья.
– И на пользу такой ум, и может быть на вред, – говорил сёстрам отец Пётр, – остерегайтесь!
По всем наукам Толя учился хорошо. Учителя к нему ходили на дом. Он усердно занимался, да и способности у него были действительно хорошие. Рос он один, без товарищей, и единственной его подругой была девочка Саша.
Саша не была в числе прислуги тёток. Она была дочь сторожа с соседнего двора. Соседний двор принадлежал какому-то богатому фабриканту и там были сложены старые ржавые трубы, котлы и колеса. Всё это громоздилось батареями и бастионами, и их горы превышали каменную ограду сада. Когда Толя ещё был совсем маленьким мальчиком, он с особенным наслаждением и тайным страхом смотрел на эти громоздившиеся чугунные массы, и они ему казались сказочными чудовищами. Он пробовал, потихоньку от тёток, взбираться на ограду, чтобы узнать, что там делается, на соседнем дворе. И он узнал, что двор огромный, что там бесконечное множество этих чугунных предметов, что там живёт белая, лохматая собака и маленькая белокурая девочка. Девочка всегда была во дворе, и только когда шёл дождь, скрывалась в деревянную сторожку её отца, приткнутую у самых ворот серенького забора, выходившего в глухой переулок.
– Как они не боятся жить без прислуги? – думал мальчик. – Такой большой двор, – там должно быть там страшно, особенно ночью при луне; там могут между труб водиться змеи и жабы; там, может, живут разбойники. А девочка лазит по этим трубам, и весела, и всегда что-то напевает?
Один раз Толя сидел со старшей тёткой в саду и читал ей вслух какую-то длинную сказку, написанную длинными стихами. Они сидели под липами, только что опушившимися весенними листьями. Тётка усиленно сморкалась и куталась в мягкий платок, хотя было почти жарко. Против них, за кустами, белела стена ограды, и дальше – чернели трубы. Тётка рассеянно поводила глазами кругом и вдруг с удивлением остановила их на неожиданном явлении. На голубом, слегка зеленоватом фоне неба, по которому клочьями плыли обрывистые облака, легко и ясно обрисовывалась фигурка белокурой девочки, в синем платьице, с розовой, ленточкой в волосах. В руках у неё был кусок ситника, и она с удовольствием его жевала. Её синие глазки смотрели на старуху и на мальчика, без страха, но с любопытством.
– Тебя как зовут? – вдруг спросила Варвара Павловна, прервав чтение.
– Сашей, – откликнулась сверху девочка.
– А кто твой отец? Василий-кузнец?
– Василий-сторож. Он сторожит Масловский двор.
– А твою мать как зовут?
– Мамка в земле. Как родила – померла.
Последняя фраза как-то странно прозвучала у ребенка. Тётка перевела глаза на племянника. Ведь и у того мамка «как родила, так и померла».
– А братья и сестры есть у тебя? – спросила старуха.
– Не. Я одна у тятьки.
– А ты тятьку любишь?
– Известно, люблю.
Тема для разговора иссякла.
– Ты вот что, – начала опять Варвара Павловна. – Ты скажи отцу, чтоб он к нам зашёл, у меня к нему дело.
– Ладно, – отозвалась Саша. – Я пока посторожу.
– Что ты посторожишь?
– Чтоб котлы не украли.
Старуха засмеялась.
– Нет, ты тоже приходи, я тебе варенья дам. Придёшь, не забудешь?
– Приду.
В тот же день, – уже под вечер, – ей доложили, что по её приказу явился соседний сторож Василий. Его велено было провести на террасу. Это был бравый, черноусый солдат, с свежим, весёлым лицом и бритым подбородком с ямочкой.
– Здравия желаю, ваше превосходительство. Дочка сказала, что приказали мне прийти.
Обе тётки посмотрели на него в пенсне и нашли, что он очень «импозантен».
– Вот что, мой милый. – заговорила Варвара Павловна. – Я знаю, что ты сторожишь соседний двор. Тихо у тебя?
– Так точно, у меня тихо.
– Я слышала, что прежде там на дворе разные босяки ночевали – по котлам прятались?
– Так точно, прятались, ваше превосходительство. А теперь не прячутся.
– Что так?
– Я их сам пущаю.
Старуха всполошилась.
– Бродяг?
– Так точно. Им ночевать негде. Тоже не собаки.
– Так они нас когда-нибудь обкрадут?
– Ни Боже мой! Ежели я им снисхождение делаю, так они это чувствуют.
Старухи с трудом могли переварить такой своеобразный альтруизм.
– Я вот что хотела сказать, – начала Варвара Павловна. – Я хочу дать тебе три рубля в месяц, чтоб ты этот бок сада берег.
– Покорнейше благодарим. Да я и так берегу. Можете положиться. А деньги зачем же брать?
Это старух ещё больше удивило.
– Нет, уж если мы тебе платим, ты рассуждать не смеешь, – заметила младшая.
– Как угодно, – согласился Василий, – покорнейше благодарим.
– А что ж ты дочку не привёл?
– Нам двоим отлучаться несподручно. Она дом стережёт.
– А ей сколько лет?
– Девять.
– Ну, придёшь домой, присылай её сюда.
– Слушаю. Счастливо оставаться.
Он сделал налево кругом и молодцевато вышел.
– Что это – бессребреник? – спросила Вероника. – Почему он от денег отказывается?
– Он, ma chere, может, какой-нибудь секты, – догадалась Варвара Павловна.
Через четверть часа пришла девочка. Она конфузливо остановилась у двери и растерянно улыбнулась. На неё внимательно посмотрели в лорнеты, а Толя исподлобья глянул на неё, прикрывшись книгой.
– Ты реверанс умеешь делать? – спросила Вероника.
Девочка посмотрела на кислое лицо вдовы и не решилась ответить.
– Сделай, милая, книксен, – предложила Варвара.
Девочка перевела на неё глаза и опять ничего не сказала.
– Она совсем деревенщина, – заметила Вероника. – Её надо учить. Но сперва, чтоб она не боялась, дать ей варенья.
Сашу посадили на стул, дали варенья и смотрели, как она ест.
– Сама чистенькая, но ногти грязные, – решила Варвара. – Надо её выучить чистить ногти.
После варенья её выучили делать книксен и показали, что значить чистить ногти.
– Если у тебя будут чистые руки и ты будешь уметь делать реверанс, то можешь каждый день ходить к нам в три часа – гулять в саду.
Трудно было определить, чем руководствовались тётки в выборе маленькой подруги для их племянника. Казалось ли им, что мальчик растёт слишком диким и одиноким, или они для собственной забавы брали в дом девочку, как прикармливают от нечего делать воробьёв и собачонок. Но как бы то ни было, со следующего дня Саша стала появляться в их саду, когда была хорошая погода, и в комнатах, когда погода была дурная. Её светлые глазёнки смотрели весело и просто, одинаково на всех: и на лакея, и на тетушек, и на важных гостей. Всем она приседала, не стесняясь садилась в угол есть варенье, а к Толе, по-видимому, искренно привязалась. Никогда она ничего не просила, ела, когда давали, утирала рот своим платочком и говорила:
– Merci, ваше превосходительство.
Иногда она присутствовала на уроках Толи и, широко открыв глаза, внимательно следила за всем, чем занимались с ним, быстро усваивая то, что усваиваивалось её маленьким мозгом, и через месяц, весьма неожиданно, на французский вопрос Вероники о том, какая погода к удивлению всех, а, главное, самое себя, ответила:
– Il pleut, ma tante.[9]9
Идет дождь, тетя (фр.).
[Закрыть]
Это привело тёток в такое восхищение, что ей подарили фильдекосовые чулки и сатиновое платье. К концу лета она свободно читала по-русски, а писала так, что Толя не мог за ней угоняться.
Дети сдружились. Мальчик даже иногда заходил на соседний двор. Ему так хотелось лазать по трубам и котлам вслед за девочкой. Так хорошо было пролезать насквозь через огромные отверстия трубы, хотя потом и оказывались дыры на коленях. Так хорошо было сидеть в котлах – это были настоящие пещеры. Так хорош был огородик в углу двора, где было шесть грядок с луком и капустой. И какой вкусный лук рос на этих грядках! Под вечер, когда всплывала красная луна, Василий садился на завалинку. Черный хлеб резался толстыми кусками, посыпался крупною солью, на каждого доставалось по три головки лука, и благовоспитанный Толя с наслаждением жевал этот неблаговоспитанный ужин, находя его во сто раз вкуснее, чем говядина с вермишелью, которую любили старухи и часто заказывали на вечер, как «лёгкое кушанье».
Природа сближала детей. Они смотрели на птиц, на бабочек, на муравьёв они играли с собаками; Толя не любил животных, а кошек боялся – это к нему перешло от тёток, которые в доме мирились с крысами и мышами, но кота не заводили. Однако он подчинялся той детской всеобъемлющей любви, что таилась в сердечке Саши, и вместе с ней ласкал, гладил собак, кормил птиц и рыб в маленьком жалком пруду. Он делал это по инстинкту, из подражания девочке. Он никогда с ней не ссорился, раз только довёл её до слез тем, что стал уверять, что её отец – хам.
– Нет, он не хам, – говорила девочка, притопывая ножонкой. – Хам, это который пьяный и орёт. А тятька тихий.
Толя, развалившись на скамейке, презрительно поглядывал на неё.
– Нет, хам, – стоял он на своём. – Он – солдат, значит, он холоп, и больше ничего. А я – барин.
И в доказательство, что он барин, он поднимал кверху ноги, до самого неба.
– А ты не барышня, – продолжал он её поучать. – Ты теперь по-французски говоришь, а всё-таки не барышня. Вот если я женюсь на тебе, ты сделаешься барышней. И отцу твоему я велю дать чин, и он будет благородный.
Когда дочь передала эти соображения отцу, он их не одобрил.
– Пущай он, коли барин, так им самым и остаётся. А нам господами нельзя быть.
– Отчего же? – допытывалась Саша.
– Да потому самому, что надо кому-нибудь солдатом быть. Без солдат никак невозможно. Потому каждый человек на своём месте и стоит, что это место ему предоставлено.
Когда наступила осень, Саша всё чаще и чаще стала появляться в комнатах господского дома. Толю не пускали постоянно в сад, хотя он просился и плакал. Он ставил в пример Сашу, которая в тёплой кофточке и в платочке целый день была на дворе. Но ему возражали:
– Саша солдатская дочка.
Они рядом сидели у окна и смотрели, как снег падал на землю пушистыми сахаристыми хлопьями, как устилал сперва пятнами, потом ровной простыней двор и улицу, как облеплял оголённые ветки, как белил крыши и набивался в щели окон и на подоконники. Серое небо спустилось ниже, висело над самым домом; трещали печи, горели лампы, – и старушка-зима надвигалась с своими сказками и морозными звёздами.
III
Школа разделила детей. Его отдали сперва в аристократический пансион, потом в гимназию. Тётки жалели, что в Москве нет ни школы правоведения, ни лицея, но отпускать мальчика в Петербург не решались. Гимназию выбрали самую нравственную и отправляли туда мальчика не иначе, как со старым кучером Игнатом. Игнат, чтобы показать, кого он везёт, всегда надевал вместо шапки картуз, чем приводил в неистовство Толю.
– Стану я по такой погоде бобровую шапку портить, – ворчал Игнат. – И в картузе хорош.
Учился Толя старательно; учителя им были довольны, но товарищи его не любили. Он любил шикнуть, кинуть им в нос то, что у него дома есть мундирчик на чёрном шёлку, а в будущем году ему сделают фалды на белом шёлковом подбое, как у модников студентов, которые взяли эту моду с офицеров. Тётки поддерживали в нем эти инстинкты, говоря:
– Порядочность – первое дело. Пусть всегда будет таким: ничего лучшего не надо.
Он получал карманных денег больше чем кто бы то ни было из его товарищей. Сначала он принялся за собирание книг и особенно настаивал на приличных переплётах. Тётки с умилением на него смотрели и шептали:
– Учёным, пожалуй, будет.
Но через год ему надоела библиотека. Он влюбился в дочь одного отставного генерала; он был уже студент, носил мундир действительно на белой подкладке и пропадал в генеральской семье целые вечера, даже участвовал в живой картине на домашнем спектакле, изображая какого-то миннезингера, под балконом какой-то донны. Но затем у генеральской дочки явился жених, гусар, с совершенно лысой головой, несмотря на свои двадцать восемь лет. Раза два заметив шептание по углам Толи с невестой, он, с гусарской опытностью, поговорил с ним однажды, тоже в углу, перед самым ужином. Разговор продолжался не более трёх минут, но Толя не только не остался после этого ужинать, но не спал две ночи, похудел, и всё шагал по своей комнате, сжимая кулаки и строя гусару адские козни. Но вскоре был забыт и гусар, и генеральская дочка, и на первый план выступила опереточная «дива», фамилия которой была Хлюстина и которая окружала себя молодёжью, специально для поддерживания bis’ов во время пения арии «кувырком». Она позволяла учащейся молодёжи целовать её ручки, а тем, кто заведовал клякой – даже её белоснежную шейку. Толя не выдержал и стал предводителем кляки. Он поддерживал диву всем, чем мог: своим влиянием, всеми своими карманными деньгами, красноречием, неистовым хлопаньем. Но и здесь ему не повезло. Внезапно диву выслала полиция, и Толя впал в чёрную меланхолию, особенно когда узнал, что выслали её за весьма наглый шантаж.
Товарищи не любили Толю и в университете. Он над ними подсмеивался, но когда ему отвечали резко, – вскипал и говорил грубости. В лице его появилась какая-то холодность, какая-то жалкая мания величия. Когда он шёл в университет, небрежно посматривая по сторонам, казалось, он думал: «Бегайте, суетитесь, – мне до вас нет никакого дела. Вы для меня так, – мелкота, мразь. Я человек обеспеченный, после тёток сумею прикарманить большой капитал, и никогда ни в чем и ни в ком не буду нуждаться. Вы заискивайте во мне, а я буду к вам снисходить».
Его презрительная насмешечка сквозила и в отношениях к товарищам. Он крайне изумился, когда узнал, что Петухов решил сразу отдаться науке, и написал тотчас по окончании курса исследование о применении римских законов в Галлии, осветив этот вопрос, с совершенно новой стороны.
– Что тебе за охота? – удивлялся он. – Неужели ты хочешь себя посвятить научной карьере?
– Хочу, – говорил с упорством Петухов.
– Зачем? Перед тобой живая деятельность. Посмотри, как я живо буду шагать по административной лестнице.
– А мне какое до тебя дело? – буркнул Петухов. – Лезь хоть в министры, не всё ли мне равно?
– Конечно, с тобой слов не стоит терять! – согласился Анатолий.
– И не теряй. Мы с тобой люди разных принципов. Ты смотришь на жизнь, как на клячу, которую можно погонять и получать с неё дневной заработок.
Анатолий усмехнулся.
– Ведь клячи на то и созданы.
– Не думаю. Ты готов эксплуатировать всё.
– Конечно. Эксплуатировать надо всё окружающее, и из всего получать пользу.
– Хотя бы во вред другим?
– Другие должны сами стоять за себя. Каждый должен быть на страже своих интересов. Не надо грабить и убивать, потому что за это наказует закон.
– Ну, а если ты ограбишь на основании закона? – поинтересовался Петухов.
– Я на стороне закона всегда, – цинично сказал Анатолий.
С тех пор они, при встречах на улице, не кланялись друг с другом, даже отворачивались. Анатолия это не смущало, и на лице его было написано:
– А всё-таки у меня есть деньги, а у вас нет. Всё-таки я обеспечен, и могу жить как хочу, а вы должны подличать и унижаться.
Саша, конечно, совсем отошла куда-то далеко на задний план. Она показывалась в большие праздники в их доме, поздравляла тёток, целовала у них ручки, кланялась молодому барину издали, ела в уголке кулич и пасху, держала себя всегда скромно, училась где-то кроить и шить и несмотря на свои семнадцать лет казалась солидной девушкой. Анатолий её как-то не замечал. Раз ему сказали тётки, что умер Василий, Саша приходила заплаканная, и они дали ей пятнадцать рублей на похороны. Анатолий вспомнил про лук и хлеб с крупной солью, вынул из бумажника пять рублей и просил передать ей, чем умилил немало тёток. После этого прошло несколько дней. Он сидел у себя в комнате за лекциями, когда ему доложили, что пришла Саша, и так как тётушек нет, – так не примет ли он её. Он велел её впустить.
Вошла Саша, побледневшая, похудевшая.
– Благодарствуйте Анатолий Павлович, – заговорила она, – спасибо, что помогли в тяжёлую минуту. Пришла благодарить вас и тётушек.
Он оглянул всю её фигуру. Она была хорошенькая, крепенькая девушка, с золотыми волосами и грустным личиком. Он встал, подошёл к ней, тихонько обнял её и поцеловал, она крепко и доверчиво поцеловала его, потом хотела отстраниться, но он её крепко держал.
– Садись сюда, – предложил он, подводя её к дивану и не выпуская из рук.
Она села, с удивлением глядя на него. Он близко наклонился к ней, хотел поцеловать её в щеку, но вдруг её руки сильно сжали его локти и заставили рознить объятия. Она встала, слегка оттолкнув его, так что он покачнулся на диване.
– Вы ошиблись, – сказала она и вышла из комнаты, тихонько притворив дверь.
Он сидел, тяжело дыша. Яркая краска заливала его щеки. Это не была краска стыда, – то был румянец обиды.
– Хорошо же! – сказал он усмехаясь. – Это мы припомним. Скажите, какая сцена: «вы ошиблись».
Вскоре он узнал, что Саша уехала в Петербург учиться.
– Чему? – спросил он. – А впрочем, мне всё равно.
IV
После четырёх лет службы, Анатолий, благодаря протекции тёток, получил место товарища прокурора. Одну зиму он служил в провинции, а затем его перевели в Москву, под крылышко старух.
– Теперь тебе жениться надо, – в один голос решили тётки.
Но они расходились во взгляде на невесту. Младшая говорила, что лучше всего взять молоденькую, совсем молоденькую, такого цыплёночка, – и переделать его на свой лад. Главное – чтоб был тихий характер и любовь к дому. Но Варвара на это не соглашалась.
– Ему надо, – говорила она, – даму, которая бы могла устроить салон. Помяни моё слово, он будет губернатором. Что же цыплёнок делать будет? Тут ведь, в случае нужды, и государя надо уметь принять. Ему надо женщину из общества со связями и состоянием.
– Состояние у него есть, – стояла на своём Вероника Павловна, – значит об этом думать нечего. И связи есть. Что другое, а губернаторство от него не уйдёт.
Они стали сами приискивать невесту; но всё что-то не выходило. Он завёл в Москве большое знакомство; купеческие дочки на него засматривались, но он вёл себя осторожно. Саша снова явилась в Москве и пришла к тёткам, но она показалась ему уже совсем в ином свете. Она развилась в красавицу женщину и имела диплом акушерки. Мало того, она состояла при клинике известного профессора и менее пятидесяти рублей не брала за приём. Она стала мягко-развязна, носила в ушах кабошоны, эмалевые часы её стоили немало. Анатолий смотрел на неё и глазам не верил: он даже ей стал говорить «вы».
– А помните, здесь, рядом в комнате, – спросила она, – пять лет назад, как вы меня облапили?
Она насмешливо, вызывающе смотрела ему в глаза. В комнате никого не было, они были одни.
– Я бы и теперь… – начал он и вдруг осёкся под её взглядом.
– Вы такой же нахал, как и прежде? – спросила она.
– To есть как это – нахал? – повторил он.
– А так. Я по вашему лицу вижу. Такие лица многим женщинам нравятся.
Он сразу утих.
– А вам? – спросил он.
– А мне?..
Она остановилась и, закусив нижнюю губу, лукаво посмотрела на него.
– Отгадайте?
– Однако, вы в Петербурге развились, – заметил он.
– Да, курс кончила первой. Профессора мной довольны. Жених у меня есть.
Ему это было неприятно.
– Мне это не нравится, – полушутливо сказал он.
– Что же вы сами хотели жениться на мне? Если да – я ему откажу.
– Вы меня предпочитаете?
– Да, – вы богаче.
Он повернулся на стуле, хотел опять ответить шуткой, но вошли тётки, и Саша стала гораздо скромнее.
Анатолий поехал к ней на квартиру. Был два раза и не заставал дома. Она жила в Долгоруковском переулке, и подъезд у неё был со швейцаром, что в Москве и до сих пор редкость. Отворяла ему дверь расторопная горничная с колечками на лбу, и каждый раз повторяла:
– Ежели практика у вас, то оставьте адрес.
Анатолий вошёл не столько для того, чтоб написать записку, сколько для того, чтоб посмотреть, как Саша живёт. Комнаты были низенькие, но на полу – малиновое сукно, у окна – резной ореховый столик, по стенам – фотографии, а на столах – целая кипа французских и немецких книг. На почётном месте стоял портрет очень почтённого господина в очках, который строго смотрел на зрителей. «Когда же вас застать?» – написал он, и через день получил ответ: «Жду в воскресенье вечером непременно».
Он думал, что у неё никого не будет, но у неё было трое гостей кроме него. Один из них оказался человеком в очках, сидевшим в плюшевой рамке и притом носившим громкую фамилию медицинской знаменитости. Другие гости тоже были профессора, и не обратили никакого внимания на товарища прокурора. Они говорили о своих делах, о какой-то княгине Борзятниковой, которая должна заплатить семь тысяч за операцию, о том, как профессор Фрейман не получил практику при дворе, о которой мечтал, о том, как профессор Шюц не так сделал прокол, и потому пациент умер, и что Шюц вообще мясник, и ему пора давно в гроб. Всё это было совсем не интересно для Анатолия. Саша, желая его занять, показала ему альбом, где было помещено полсотни акушерок. Это тоже было невесело, и потому друг детства, выпив стакан сладкого и жидкого чая, в десять часов уехал домой с головною болью.
Вскоре ему довелось встретиться с Наташей. Её отец был уже нездоров, но не настолько, чтобы можно было опасаться за скорый исход. Через два месяца после знакомства он уже сделал предложение, посоветовавшись предварительно с тётками. Тётки решили, что это брак возможный.
– Только, конечно, посмотреть мы её должны, – сказала старшая.
– Да, пусть сюда приедет, – подтвердила Вероника.
Но Анатолий взял рядом две ложи в оперу и свёл их в театре. Девушка тёткам понравилась. Решено было венчаться в августе. Но весной отцу стало плохо. Доктора послали его на юг. Анатолий взял отпуск по настоянию тёток.
– За глазами невесту никак нельзя оставлять, – говорили они. – Мало ли что случиться может. Подвернётся какой фертик, и пиши пропало. Непременно лично надо иметь наблюдение.
Но Анатолий больше ехал, чтоб выяснить вопрос о приданом. Теперь, круто повернув в другую сторону и, решившись жениться на Петропопуло, он был озабочен вопросом: что оставила ему тётка, так как содержание её духовной известно ему не было. Это и было главной причиной его поспешного бегства с Мраморного моря. Он знал, что покойная тётка его больше любила, чем оставшаяся в живых, и всю дорогу думал о том, как сказать ей, что у него другая невеста.
Он был уверен в Лене. Ему казалось, что эта чернобровая, маленькая девушка способна на сильную, искреннюю любовь. Он, сидя в вагоне, вспоминал её лицо и находил, что она совсем недурна, что если её одеть в национальный греческий костюм, то даже её нос горбинкой и толстые брови будут в стиле. По-французски она говорила хорошо, а что глупа она – так это, может быть, даже лучше. Одно нехорошо: по отцу она была Евстратьевна. Ведь никто не знает, что отец миллионер, подумают ещё, что она из каких-нибудь московских купчих. Но и это дело можно было поправить, стоило её назвать Константиновной, – и дело с концом.
О Наташе он как-то не думал. И не то что бы он ощущал какое-нибудь угрызение совести по отношению её, – нет. Но он в душе силился себя уверить, что он и для себя, и для неё, и для старика сделал хорошо, отказавшись от брака. Теперь она может всецело отдаться заботам об отце, исполнить долг дочери. Замужество отвлекло бы её от священной задачи. Он так и хотел объяснить свой отказ тётке. Но то, как она встретила это известие, было для него полною неожиданностью.








