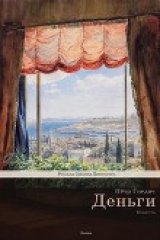
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
XI
В шорной закладке, в чистенькой щегольской коляске поехали будущие родственники осматривать старый город. Жених сидел спиною к кучеру, против невесты. Он смотрел на неё. Глаза её были опущены. Скорбная морщинка блуждала вокруг её губ, которой прежде не было заметно. Она не то, что постарела, а как-то осунулась. Щеки её похудели, слегка втянулись, она стала точно уже в плечах, – или ему было непривычно видеть новое платье, в котором он её ещё не видал.
«Разве она так интересна, как полагает бухгалтер?» – думал он, переводя глаза то на неё, то на отца, лениво отвалившегося в угол экипажа.
Александр Дмитриевич устало смотрел, то открывая, то закрывая глаза. Когда копыта лошадей застучали по длинному деревянному мосту, и от синих вод Золотого Рога повеяло свежестью, он как будто оживился.
– Ну, вот мы, как англичане, – сказал он, стараясь улыбнуться, – будем шататься без толку и нюхать старые стены. Неужели мы в самом деле поедем в музей?
Анатолий с недоумением повёл глазами.
– Я вообще предпочёл бы прокатиться перед завтраком, – сказал он, – но никуда не заходить. Впрочем, как вы…
Он посмотрел на невесту.
– Ах, мне всё равно, – сказала она. – Я хотела развлечь папу.
– Развлечь папу, развлечь папу! – повторил старик. – Неужели я так нуждаюсь в развлечении?..
Он недовольно отвернулся. Лошади шарахнулись в сторону от медведя, который, криво переступая лапами, шёл за рослым цыганом на толстой цени. Коляска ударилась крылом о фонарь, звякнула и остановилась. Анатолий поморщился.
– Для partie de plaisir[7]7
увеселительной прогулки (фр.)
[Закрыть] несколько эксцентрично, – сказал он.
– «В пасть гирканскому медведю!» – продекламировал Александр Дмитриевич. – Кажется, так у Шекспира, помните?
Но товарищ прокурора не помнил. Он помнил превосходно ряд кассационных решений правительствующего сената, но о гирканских медведях там ничего не было.
– Странно, – заговорил опять Александр Дмитриевич, – я никогда не боялся смерти, а теперь вдруг захотел жить. Именно когда всё так быстро пошло на убыль.
– Но почему же на убыль? – спросил Анатолий.
– А от того, что не на прибыль.
– Вы в эту неделю, папа, гораздо бодрее, – сказала дочь.
Он повернул к ней голову.
– Разве? Ты находишь?
Он старался уловить в её лице выражение: говорит ли она потому, что действительно ему лучше, или только хочет успокоить.
– Да, мне кажется лучше, – тихо повторил он, радуясь детскому самообману.
Коляска спустилась вниз, к самому морю. Прозрачное, светлое, оно дрожало и трепетало под солнечными лучами. Глаза Александра Дмитриевича загорелись.
– Постой, пусти я выйду, – заговорил он, торопливо перенося ногу на подножку.
– Вам дурно, папа? – испуганно спросила девушка.
– Напротив, мне хорошо.
Он слез первый и нетвёрдыми шагами пошёл к воде.
– Жить! Жить! – повторял он. – Дышать, видеть солнце. Ничего больше не надо. Солнце, вечное солнце!
Он вытянул шею и, запрокинув голову назад, жадно втянул воздух ноздрями.
– Это солнце, это самое солнце светило евреям в пустыне, – как-то машинально продолжал он. – Оно светило Христу в Иерусалиме, когда Он шёл под своим крестом. Оно светило Галилею, Жанне д’Арк так же, как светит мне.
Он снял шляпу и провёл рукой по волосам, поредевшим и поседевшим. Сил у него было мало, он пошатнулся. Анатолий поддержал его.
– Не мне – ей нужна поддержка, – сказал он, и Анатолию показалось, что старик заговаривается.
Почтённый бородатый мусульманин, толстый, в очках, в чёрном сюртуке и красной феске, проехал на сером иноходце, широко расставив ноги в длинных суконных панталонах. Одной рукой он держал поводья, в другой был небольшой почти дамский белый зонтик. Кисточка фески плавно колыхалась при каждом шаге коня. Он посмотрел на девушку, слегка осклабился и, прибавив шаг, стал подыматься в гору. Александр Дмитриевич посмотрел ему вслед.
– Сколько миллионов людей, сколько веков именно здесь, с этого мыса, смотрели на Босфор, – продолжал он. – Сколько турок, греков и армян, на таких же серых лошадях также подымались в этот час по этой самой дороге. И сколько их ещё будет тут двигаться, когда нас не будет, когда и следа нашего праха не останется под землёю…
– Какое элегическое настроение у вас! – сказал улыбаясь Анатолий.
– Да, элегическое. Дышать нечем. Ну, сядем опять. Пусть он везёт нас куда хочет.
Коляска снова тронулась. Сделав несколько заворотов, она выехала на большую пыльную площадь с приземистым наивным обелиском рыжего цвета. Обелиск стоял на пьедестале, где на барельефе были изображены скачки и сам византийский император в своей ложе. Так и повеяло от этого барельефа композицией Владимирской лубочной картинки. Подальше, возле какого-то колодца, стояла другая коляска, и два человека в соломенных шляпах добросовестно ходили вокруг.
– Это ваш спутник? – спросила девушка у жениха.
Тот узнал Алексея Ивановича и сказал:
– Да, это бухгалтер.
– Что ж они там делают? – спросил Александр Дмитриевич. – Пойдёмте туда.
Анатолий неохотно вылез из коляски. Все подошли к бронзовой витой колонне, уныло торчащей по середине площади. Алексей Иванович приподнял шляпу.
– Позвольте познакомить, – проговорил Анатолий, и тут только сообразил, что не знает фамилии Алексея Ивановича.
Но тот пришёл своевременно на помощь и сказал:
– Перепелицын.
Он как-то боком, но внимательно скользнул взглядом по отцу и дочери и почтительно снял шляпу.
– Это, что же за палка? – спросил Александр Дмитриевич, надевая пенсне.
– Подставка под дельфийский треножник, на котором сидела Пифия, – ответил бухгалтер.
– A! – сказал Александр Дмитриевич тем тоном, каким всегда говорят люди, давая этим восклицанием знать, что они понимают шутку.
– Нет, серьёзно, – продолжал бухгалтер. – Это ржавый кусок бронзы ведь в самом деле – дельфийский. Он здесь со времён Константина, который перевёз его сюда на гиподром. Смотрите: ведь тут все имена городов участвовавших в Платейской битве. Помните Смарагдова и Иловайского?
– Зачем же он здесь? – повторил Александр Дмитриевич.
– А где ж ему быть? Господь с ним, – пусть тут и будет. Вот здесь на нем стоял треножник, – теперь головы обломаны у змей, что составляли основание треножника…
Александр Дмитриевич опять снял шляпу и приложил руку к темени.
– Голова болит, – сказал он дочери. – Я не привык к далёким прогулкам.
– Так поедем домой, – сказала она.
– Да, да, поедем.
– А не хотите – я сейчас в святую Софию? – предложил Алексей Иванович.
– Нет, в другой раз, – пробормотал старик. – А вот обедать будем вместе? Да?
В экипаже он опять оживился.
– Дельфийская пифия! – повторял он. – Помните вы дело Клирошанских? Помните мою речь?
– Ещё бы, – отозвался Анатолий.
– Помните, как мне помогла пифия? Помните, как я сказал: «Когда юродивая девственница, одурманенная серными парами, отравленная листьями священного лавра, бормотала несвязные речи, целый народ прислушивался чутко к её бреду и фанатически шёл по её указанию, навстречу опасностям, – и всё побеждал, окрылённый её вещим пророчеством». Помните, как тогда усмотрели в этом аллегорию и намёки. Ха-ха!
Он засмеялся, весело постукивая палкой о дно коляски.
– Это блестящая речь была! – подтвердил Анатолий. – Отчего вы не издадите своих речей?
– Я их приготовил отдельной книжкой. Это вам в приданое за дочерью. Потом издайте.
– Издание должно разойтись, – подтвердил Анатолий. – Там должно быть много интересного, даже с точки зрения нашего исторического самосознания. Особенно дела Топорских, Кряженцовых, Урпатовых…
– А дело о насилиях над евреями? А дело об отравлении Коссовича-Кострицы? – подхватил старик, всё более оживляясь. – Да мало ли вообще… А дело о жертвоприношениях… Я кое-что сделал. Недаром прожил, – я сделал.
Он поднял голову, властным взором посмотрел вокруг себя и крепко сжал в руках палку.
– Да ещё в феврале я говорил в сенате…
Он точно поперхнулся. Глаза его опять потускли и голова бессильно опустилась на грудь.
– Нет, меня утомляют эти поездки, – тихо проговорил он.
XII
Перед обедом Александр Дмитриевич позвал к себе в комнату Анатолия. Тот вошёл и с участием осведомился, вздремнул ли он.
– Да, как будто, – небрежно ответил старик. – Слушай, вот какое дело. Мы с тобой ещё о многом не договорились. Когда ты сделал предложение, я сказал, что дам за дочерью что могу, но цифры не назначал.
Анатолий вздрогнул и насторожился.
– Тогда я был здоровее, не ждал, что так скоро дело пойдёт на убыль. Я хотел поделиться: половину оставить себе, а другую половину ей отдать. Теперь вы всё получите, – мне остаюсь жить немного.
Анатолий перевёл дыхание.
– Но быть может ты думаешь, что у меня миллионы? – спросил он. – Это многие полагают. Судят потому, что за иные процессы я получат по двадцати, по тридцати тысяч. Но я всегда широко жил, никогда ни в чем себе не отказывал. Я никогда не был скуп и всегда с презрением смотрел на деньги. Откладывал то, что было лишнее. Мог бы отложить в пять, в десять раз больше, – но не отложил и не раскаиваюсь в этом.
Помощник прокурора крепко сжал губы.
– Я знаю, – продолжал Александр Дмитриевич, – вы, конечно, женитесь не на деньгах. Но я понимаю, что вы хотите знать, на что вы можете рассчитывать. Деньгами вам останется тысяч восемьдесят. Это всё-таки деньги. Потом у меня есть подмосковная дача, стоит она тысяч тридцать по меньшей мере. Всё, конечно, и деньги, и дачу, – я отдаю дочери, а её дело считаться с вами.
– Зачем вы мне всё это говорите? – спросил он.
– А чтоб не было потом разочарования. Ведь говорили, что у меня золотые россыпи. Вы могли рассчитывать на большее.
– Я рассчитываю только сам на себя, – сказал Анатолий.
Его лицо было бледно, мускул на щеке слегка играл. Он нервно постукивал пальцами по коленке.
– Я начал с того, что давал грошовые уроки, и жил на двадцать рублей в месяц, – проговорил Александр Дмитриевич. – Вы – всегда были обеспечены. У вас есть энергия, способности, путь перед вами лежит открытый. Присоедините к вашему состоянию мои сто тысяч, вам будет легче.
– У меня нет никакого состояния, – отрывисто возразил он.
– Но вы наследник ваших тёток?
– Я не жду их смерти.
– Я знаю. Тем не менее это так.
Анатолий быстро встал.
– Мне неприятен этот разговор, – сказал он. – Я удивляюсь, зачем вы его начали. Я ни одним звуком никогда не решился спросить даёте ли вы приданое или нет. Я полагаю, что это всё равно.
Александр Дмитриевич встретился с ним глазами.
– А я, представьте, думал, что вам это далеко не всё равно, – проговорил он. – Ну, рад, что ошибся, рад!
Анатолий пришёл к себе в номер не в духе… Алексея Ивановича всё ещё не было. Анатолий лёг на кушетку и уставился на потолок. За окном слышался шум городской жизни, кричали ослы, разносчики, гремели экипажи. Его раздражал этот неумолчный шум, как раздражал яркий, непривычный свет из окна. Рядом стояла коробка конфет; он машинально начал есть одну за другой. Лицо его было хмуро. У него сидела неотступно мысль: «А не отказаться ли?» Сегодня ему стало ясно, что он не любит эту белокурую голубоглазую девушку, с кротким милым лицом. Он ничего не ощутил, кроме жалости, увидя её. Но он решил, что возврата нет. Триста тысяч приданого освещали её таким мягким, успокаивающим светом. Но вдруг оказывается, что денег только восемьдесят, а не триста. Это раздражало его. В самом деле, – не отказаться ли?
Но нет, – уж поздно. Все знают. Тётки рады. Особенно младшая, Вероника, благоволит к его невесте. Тётки строго стоят за старые обычаи. Отречься от невесты с их точки зрения – позор. А между тем это такая чепуха и вздор. Правда, девушка доказала сегодня, как будто бы она любит его. И это вздор. За что ей любить его? Найдёт другого.
Он встал, подошёл к зеркалу и внимательно посмотрел на себя. Лицо его было красиво, черты лица правильны, глаза энергичны, смелы, почти нахальны. Лоб чистый, белый, высокий. Вся фигура с головы до пят гармонична. Ни одного диссонанса ни в галстуке, ни в запонках, ни в палевой жилетке. Он надел несколько набок лёгкую серенькую шляпу. В шляпе он был ещё интереснее. Ничего бьющего на эффект, актёрского, – все солидно, выглажено, вылощено. Да, это женщинам должно нравиться.
Он подошёл к окну, посмотрел на широкую панораму Стамбула и подумал:
– А и скука здесь, я думаю!
Он снял шляпу и опять лёг. Его не тянуло к невесте. Он не знал, о чем с ней говорить. Казалось, обо всём уже было переговорено ещё в Москве, и теперь все темы иссякли. Её видимо более всего интересовала болезнь отца. Её слезы сегодня утром гораздо более говорили о её горе, чем о радости свидания.
– Восемьдесят тысяч! Не Бог весть что. Какие-нибудь три тысячи двести в год по нынешним временам. Конечно, тётки тоже дадут что-нибудь: вероятно будут давать ежемесячную субсидию. Ещё есть жалованье – вот и всё. Нечего и думать ездить каждый год за границу. Вообще надо вести жизнь скромного буржуа и идти вперёд по чиновничьей лестнице, к сединам, звёздам, сенаторскому креслу. И только? И это всё?
Он пошёл бы и на это, будь у его жены связи. Но тут и этого нет. Неслышно ни о каких влиятельных родных. Значит, с момента свадьбы он закабаляет себя для домашней жизни, – и чего доброго тормозит свой ход по службе. Во имя чего же он сажает себя в эту тесную клетку? Кому это нужно? Ей всегда найдётся жених, который будет её и любить, и ценить, которому будут нравиться эти золотисто-пепельные волосы и нежная атласистая кожа на щеках и на шее. А ему не нравился никогда подобный жанр женщин. Та гувернантка, что была сегодня на пароходе – куда лучше. В той есть огонь, – вероятно, она способна на ревность, на страсть.
Пришёл лакей звать его ко второму завтраку. Он спустился вниз, в большую столовую. Там уже был Александр Дмитриевич с дочерью. Против них сидел бухгалтер, – весь опалённый солнцем, но сияющий счастьем и довольством. Он рассказывал о своём посещении Софии и весь дрожал от избытка счастья.
– Неужели интересно? – спросил Анатолий, садясь и затыкая себе за воротничок салфетку. – Сознайтесь, вы притворяетесь?
– Притворяетесь вы! – крикнул Алексей Иванович. – Это вы притворяетесь, что вы – человек. А вы из жёваной бумаги сделаны.
Анатолий вспыхнул.
– Мне кажется, ваша выходка неуместна, – проговорил он.
– А ваша уместна? Уместно говорить, что я притворяюсь, когда то ощущение, которое охватило меня… Вы не русский, если не понимаете меня… Я почувствовал то, что чувствовали славяне, когда пришли сюда от князя Владимира.
– Ага! ага! – подхватил Александр Дмитриевич. – Послы Володимировы! Помню: «всяк человек, аще вкусит сладка, последи горести не приемлет».
Он поднял голову и с гордостью оглянулся на дочь.
– Помню ещё, помню, – с радостной улыбкой говорил он. – Цитировал не раз. «Аще бы лих закон Грецкий, не бы прияла баба твоя Ольга, яже бе мудрейша всех человек».
Он пододвинул бокал и сказал дочери:
– Налей мне глотка два, – сегодня можно.
– Вот вы меня понимаете, – с восторгом заговорил Алексей Иванович. – Вы понимаете, что охватило меня, когда я вошёл в этот храм, – в этот дивный, небывалый храм. Когда я увидел этот купол, и этот свет – спокойный тихий, матовый, серебристый, – меня так и схватило за душу, и тут я понял, я понял этих самых славянских послов, этих диких скифов, которые не знали – на земле ли они или на небе…
Голос Алексея Ивановича задрожал, он наскоро смахнул слезы.
– Ха-ха, – сказал Анатолий, – да вы, кажется плачете?
– Плачу, плачу! – вдруг с ожесточением заговорил бухгалтер. – И если б вы знали, какое счастье так плакать! Мне сорок лет, но я душою молод, как гимназист.
– И гордитесь этим?
– И горжусь.
– И гордитесь, – подхватил Александр Дмитриевич. – Я начинаю сожалеть, что не был с вами.
– Так поедем сейчас? Я каждый день буду туда ходить. Там каждый камень мне священ. Мне всё равно, что это – мечеть и что там голосят турки. Я знаю, что это храм Бога, что здесь сходит сила небесная на всех без изъятия, – и на меня, и на магометанина, и что, выйдя отсюда, я не могу не любить людей.
Он бросил свою салфетку. Лицо его было одушевлено, глаза горели, ноздри раздувались. Ничего смешного не было в его курчавой голове на тонкой, длинной шее. Наташа с удивлением смотрела на него.
– Чокнемтесь, – сказал ему Александр Дмитриевич. – Чокнемтесь за молодость чувств, за свежесть впечатлений.
Он залпом выпил свой стакан и обратился к Анатолию.
– А ты – бальзамированный, – сказал он, добродушно опуская руку на его плечо.
– Да, я на приподнятые восторги неспособен, – кисло улыбаясь, ответил он.
– А ты на какие же восторги способен?
В его голосе слышалось уже раздражение.
– Ни на какие. Я думаю, можно обойтись и без восторгов. Я восторгаюсь моей Наташей, и мне больше ничего не надо.
Последнее он сказал полусерьёзно, полунасмешливо. Вышло как-то неловко. Наташа опустила глаза, а Александр Дмитриевич точно муху отмахнул рукой от глаз.
Бухгалтер опять заговорил. Он видел в музее гробницу Александра Македонского, и хотя никто не верил, что гробница принадлежала именно этому герою, – но все её осматривали, и она стояла под стеклом. Он говорил, что это изумительно, что он не видал лучше фигур, что в плачущих женщинах столько неподдельного чувства и горя, и это горе выражено с таким непосредственным реализмом, какого не найти в современном искусстве.
– Я плохо понимаю современное искусство, – сказал Анатолий. – По-моему, искусство может быть применимо только к религиозным целям. Театр имел значение только тогда, когда был мистерией, скульптура – когда она изображала богов, пение – когда оно воспевало божество. А теперь, когда искусство отделилось от религии, оно стало побрякушкой.
– Вы такого же мнения? – спросил у Наташи Алексей Иванович.
Она спокойно посмотрела на него своими голубыми глазами.
– Нет, я другого, – сказала она и, обратившись к отцу, спросила: – А нам не пора?
– Да пожалуй, – ответил Александр Дмитриевич. – Вам недолго собираться, Анатолий?
– Нет, я не раскладывался.
– Вы куда же едете? – удивился Алексей Иванович.
– К нам на дачу, на Принцевы Острова. Это недалеко отсюда. Приезжайте, будем рады.
– Так, а как же номер? – спросил бухгалтер Анатолия, когда они пошли наверх. – За что же я буду платить тридцать франков?
– А вы не платите, переезжайте в другой, – засмеялся Анатолий. – Вот вам моя доля – пять рублей, и кончено дело.
Алексей Иванович смотрел из окна, как они уезжали. Коляска тронулась и скрылась за углом; он ничего не сказал, а только протяжно свистнул.
XIII
Когда Тотти спустилась с парохода в каик, покрытый выцветшим турецким ковром и её тощий чемодан был брошен на дно лодки, Петропопуло так грузно спрыгнул, что остроносое судёнышко совсем легло на правый бок. Тотти отодвинулась, чтобы дать место пространному телу грека, который приятно улыбался и жирным носом, и заплывшими глазками, и пухлыми румяными щеками, и сочными губами, которыми он не без удовольствия причмокивал. Едва каик отчалил, как Петропопуло вытянул ноги, подался всем телом вниз и лёг на ковре с видом полнейшего удовольствия.
– Не удивляйтесь, mademoiselle, – сказал он, – в каике иначе невозможно: всегда лежат, и вы лягте. Это всё равно, что в коляске. В хорошей коляске всегда лежат. Видели, как в Булонском лесу модные дамы ездят: всегда лёжа. Вам сначала неловко, а только вы скоро привыкнете, и сами ляжете.
Она старалась удержаться от чувства брезгливости, глядя на его огромное колыхавшееся чрево, облечённое в белый пикейный жилет, с огромной золотой цепью, в виде завитушек, и с медальоном, на котором была изображена графская корона.
– Нарочно сегодня раньше часом встал, чтоб вас встретить. Я знал, что вас в карантине парили. Ха-ха! Попали в печку?
«Что он просто глуп, или это его манера разговора?» – подумала она и сказала вслух:
– Это очень любезно, что вы меня встретили.
– Надо встретить, – как же можно хорошенькую барышню не встретить? Вы здесь как в лесу – место чужое: с вашими языками ничего не поделаете. У нас надо либо по-турецки, либо по-гречески, либо по-армянски. Космополиты здесь. Обидеть вас могут. А я дал слово, что оберегу вас от всего такого. У меня о вас отличная аттестация. Ужас, какая хорошая аттестация! Мне надо, чтоб вы девочкам моим примером были. Они ветрены, знаете, ещё молоды. Семнадцатый год, шестнадцатый год. Я так хочу: вы чтоб и подругой им были, – и учительницей. Чтоб они и любили вас, и боялись. Пожалуйста, очень вас прошу. А то, ведь, вас назад отправлять придётся.
– Я постараюсь, – смущённо ответила девушка.
– Да-да, постарайтесь. И я вас прошу: сильно постарайтесь. Это совсем надо. И главное, чтоб по-русски чисто говорили, и по-французски. Я сам скверно говорю. Меня русскому языку армянин учил, у меня от него такая в говоре отрыжка осталась, ничем не изведёшь. Так уж очень вас прошу…
– Надеюсь, мы будем друг другом довольны.
Он повернул к ней своё круглое, дня три небритое лицо, и посмотрел на неё с удивлением.
– Вы-то будете нами довольны. У меня жена Марьица хорошая, только рыхлая. Ей тяжело очень дышать. Она, как наденет на себя лёгкое платье, широкое такое – с постели вставши, так весь день и сидит на одном месте: точно с возу её просыпали. И говорить ей лень, потому сидит, скрестя ручки, и только смотрит. А какая красавица была. Куда вам до неё!
Тотти немного вспыхнула.
– Глаза у неё на ваши похожи, – продолжал он, – а только нос совсем другой. У вас мало носа. Мы, греки, таких не любим. Нам приятно, когда он длинный вырастет. У нас это красотою считают. Барышня с длинным носом скорей коротконосой замуж выскочит. А у Марьицы такой был нос! Ух, какой нос! И брови в палец толщиной и здесь подо лбом срослись. И зубы белые, большие, и такие сильные, что от абрикоса кость перекусывала. Совсем, как собака. Вы полюбите её, – вперёд скажу. А девочки мои хорошие тоже. В мать совсем. Только волосы золотые – в меня.
Он снял свою широкую соломенную шляпу и показал рыжую, коротко остриженную лысую голову.
– Ну, конечно, кокетки, – продолжал он. – Годы такие, знаете, ничего не поделаешь. Увидит красивого кавалера и сейчас глазки потупит. Уж вы, пожалуйста, вас прошу, сойдитесь с ними и будьте как сестра старшая. И вообще в доме будьте вы, как дочь. Я терпеть не могу смотреть на гувернанток, как на прислугу. Раз за столом со мной сидите, происхождения благородного, образованы хорошо, да ещё собой такая чудесная, так вы должны быть своим членом в семье и хозяйкой в доме. Что сказали – свято. Вот я как смотрю. Я не так, как купец какой-нибудь одесский, что на учителей смотрят сверху вниз. Сделайте одолжение! Мы – европейцы.
Таможенный осмотр совершился с замечательной быстротой; как только увидели Петропопуло, все ему стали кланяться, а он что-то начал говорить по-турецки. Чемоданчик сдали на руки какому-то турку, у которого лицо и руки напоминали больше кору с дерева, чем человеческую кожу. Сами сели в коляску, на козлах которой сидел чёрный, как пудель, грек в ливрее с княжескими гербами. Бич защёлкал, и лошади тронулись.
– Смотрите, мы зацепили за корзинку! – закричала Тотти.
Петропопуло лениво посмотрел: крыло коляски свернуло на сторону плетёнку, переброшенную через спину лилового ослика, и оттуда градом сыпались спелые персики. Кучер щелкнул бичом осла, тот лягнулся, отскочил в сторону, и они покатили дальше.
– Я вам ставлю только одно условие, – продолжал почтённый коммерсант. – Не отбивайте женихов у дочерей. Ведь вы знаете, что сделала гувернантка, что до вас жила? Замуж вышла! Ей-Богу замуж вышла. За табачника. Богатый табачник, сватался к старшей дочери, – она отбила. Теперь живёт в Аккермане в собственном доме. А ведь с узелком к нам пришла, меньше вашего всего было. Через год два сундука всего скопила. У меня правило: дочерям делаю платье, и гувернантке такое же. Чем, чёрт возьми, она хуже! Такая же, а может и лучше. Приданое ей сделал. Марьица браслет ей с рубинами подарила.
– Какие вы добрые, – невольно сказала Тотти.
– Мы добрые. Греки вообще добрые. Самый приятный народ греческий. Этим все пользуются, – просят: дай то, дай другое. Ну и даёшь, знаешь, что ведь нищие. Вспомнишь, как сам босой по улицам гулял и подумаешь: Бог мне послал, и должен я делиться с неимущим.
Они опять с размаха налетели на повозку. Колёса звонко стукнулись, что-то затрещало. Петропопуло вдруг вскипел и, вытянув палкой своего возницу, закричал ему что-то по-гречески, должно быть очень скверное, потому что тот съёжился и погнал лошадей вскачь в гору.
– И ещё одну вещь попрошу, – заговорил он, успокаиваясь. – Есть у меня сын, мальчик Костя, – восемнадцать лет ему. Такой хороший, знаете, воспитанный мальчик. Всегда в гувернанток влюбляется. Ещё совсем маленький был, – никогда урока не ответит, пока его гувернантка не поцелует. Так вот я, пожалуйста, прошу: не позволяйте ему ничего такого. То есть, понимаете, чтоб он вздыхал за вами. Совсем не надо. Он сейчас в вас влюбится, а вы скажите: «У меня жених в Москве, – приедет ко мне в гости и вам уши оторвёт». Пожалуйста, так и скажите. И так к нему относитесь, как старшая сестра. Ну, вот и улица наша. Видите магазины какие: совсем Вена.
В голове Тотти было смутно. Она никак не могла уловить основного характера речи Петропопуло. То ей казалось, что он над ней издевается; то, что он просто необразован и глуп; то – что он добрый, прямой человек, весь как на ладони. Во всяком случае, это было ещё не совсем дурно, и если бы остальные члены семьи оказались бы такими же, то жить можно было бы.








