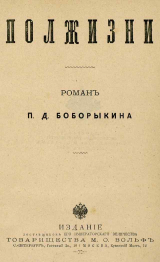
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Петр Боборыкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Ужь не знаю, въ какихъ словахъ передала она мою тяжелую фразу, только когда я вошелъ въ уборную, графиня, сидѣвшая въ большихъ креслахъ, оглядѣла меня и спросила;
– А книги вы забыли?
Я объяснилъ ихъ отсутствіе боязнью утомить ее.
– Полноте, возразила она шутливо, вы совсѣмъ, я вижу, измѣнились. Мигрень не помѣшаетъ мнѣ заняться съ вами.
Надо было повиноваться; но вѣроятно лицо мое такъ жалобно сморщилось, что она разсмѣялась и, указывая мнѣ рукой на стулъ, сказала:
– Ну, ужь Богъ съ вами, на сегодня прощаю вамъ урокъ. Присядьте.
Въ эту уборную я еще не проникалъ. Она была рядомъ съ спальней ихъ сіятельствъ. Графиня оставила ее съ старомодной обстановкой, съ золотыми стрѣлами поверхъ гардинъ и люстрой въ видѣ чернаго амура съ позолотой. Все это я довольно обстоятельно оглядѣлъ, подавляя и скрывая свое волненіе.
Она вытянулась въ креслѣ. На ней былъ тотъ самый бѣлый пеньюаръ, который я видѣлъ на площадкѣ. Это меня привело еще въ большую тревогу. Видно, я такъ поблѣднѣлъ, что она спросила меня:
– Что съ вами, Николай Иванычъ, зачѣмъ вы все такъ волнуетесь? Вы что-то начали тогда, въ боскетной, говорить обо мнѣ..; лучше бы вы повѣрили ваше горе… Какой вы, право, странный. Видно жили мало. Вамъ который годъ?
– Двадцать семь, проговорилъ я машинально и стараясь не глядѣть на нее.
– Вы потеряли кого-нибудь? – Любимую женщину?
– Никакой любви у меня не было, отвѣтилъ я чуть не со злостью.
– Никакой? спросила она глухимъ голосомъ.
Въ комнатѣ начало смеркаться: былъ пятый часъ. Я продолжалъ сидѣть на стулѣ въ жесткой, напряженной позѣ, не зная куда мнѣ обратить глаза.
– Вы все такой же, Николай Иванычъ, продолжала она медленно, и каждое ея слово отдавалось во мнѣ; такой же, какой были въ Москвѣ, когда я вамъ предложила свой союзъ. Правда, или нѣтъ?
– Нѣтъ, графиня! вскричалъ я съ испугомъ, я не тотъ, не тотъ. Тогда я былъ неблагодарный звѣрь, глупый, пошлый, я кичился передъ вами Богъ знаетъ чѣмъ; а теперь, теперь…
Я не могъ докончить. Меня всего забила лихорадка. Въ эту минуту я былъ ужь на ногахъ. Графиня тоже поднялась, и ея бѣлый обликъ слѣпилъ мнѣ глаза.
– Теперь что же? шепотомъ спросила она.
– Теперь я живу вами и для васъ…
Слова сорвались и застыли на губахъ. Я закрылъ глаза. Но вдругъ меня всего потрясло и схватило за горло что-то необычайное, странное по своей неожиданности и нестерпимому блаженству: шею мою обвили двѣ руки, и губы, трепетныя, прохладныя, полувлажныя, цѣловали меня…
Я вскрикнулъ и подался назадъ: меня объяло настоящее помраченіе разсудка. Ничего, ничего я не помню, кромѣ какого-то особаго страданія… да, страданія, переполнявшаго меня среди невыносимыхъ ласкъ. Я отдавался припадку первой, роковой, цѣломудренной страсти, гдѣ наслажденіе равняется боли, гдѣ слезы смѣшаны съ дикими порывами безумной радости…
Когда я вернулся къ смутному сознанію, чьи-то уста въ сумракѣ тихо говорили:
– Люби, люби, лучше этого ужь ничего нѣтъ въ жизни; зажмурь глаза на все и знай, что двухъ молодостей не бываетъ. Ты такой чистый! Тебѣ надо любить!
Я все еще не понималъ, – чей это голосъ, гдѣ я, что со мной случилось, и съ новымъ испугомъ схватился за голову. И когда я разглядѣлъ, чье лицо прильнуло къ моему, я зарыдалъ и рыдалъ долго, молча, опустившись на полъ передъ нею и прижимаясь къ ея колѣнамъ.
– Успокойтесь! сказали мнѣ твердо и звучно, и пойдемте въ залу.
– Въ залу, сейчасъ? безсильно прошепталъ я.
– Да, мой другъ, я вамъ поиграю Шумана. Уроковъ сегодня не будетъ.
XXXV.
Было бы позволительно обезумѣть отъ пллноты нежданнаго счастія. Я – управляющій изъ камералистовъ, хмурый, неуклюжій, скучный, казенный – обладалъ такой женщиной, какъ графиня Кудласова. И надо было обладать ею, да надо: иначе такія натуры остаются загадками, томительно раздражающими васъ до изнеможенія, до полнаго паденія силъ, если только поддаться страсти; а не поддаться ей нельзя было.
Но съ перваго же дня я позналъ ту истину, что обладатель такой женщины не перестаетъ быть ея подданнымъ, именно подданнымъ: слово «рабъ» и слишкомъ пошло, да и невѣрно. Такъ допускаютъ до себя «любимцевъ». Только въ минуту забвенія, какъ писали въ старыхъ повѣстяхъ, та женщина принадлежитъ вамъ. Она можетъ считать себя вашимъ другомъ, но подданство ваше отъ этого не исчезаетъ. Въ тотъ же вечеръ я уже видѣлъ, что графиня нисколько не притворяется, не нринимаетъ со мною подставнаго тона при людяхъ. Нѣтъ, такой она осталась нѣсколько лѣтъ. Она нисколько не притворялась, говоря мнѣ «вы, Николай Иванычъ» и бесѣдуя со мною во всеуслышаніе о разныхъ разностяхъ. На «ты» мы съ ней не были никогда и по сіе время не состоимъ. Она постаралась, молча, безъ всякихъ лишныхъ объясненій, показать мнѣ, какъ пойдетъ наша жизнь въ Слободскомъ. Эта жизнь не должна быдла ничѣмъ разниться отъ того, что было до сцены въ уборной. Точно такъ же я давалъ утромъ урокъ Наташѣ, завтракалъ вмѣстѣ, потомъ я шелъ въ контору, оттуда – обѣдать; а послѣ обѣда начиналось мое обучеьіе пѣнію и языкамъ. Во время уроковъ никакой ласки, никакого страстнаго взгляда графиня не позволяла себѣ. Она занималась со мною усердно, кротко, добродушно, говорила постороннія вещи и не задавала мнѣ почти никакихъ интимныхъ вопросовъ. Спрашивать ее о чемъ-нибудь – я не смѣлъ Такъ-называемыхъ «лирическихъ порывовъ» она точно и не знала совсѣмъ: ни возгласовъ, ни вздоховъ, ни нѣжныхъ именъ, ничего… Но мнѣ было хорошо около нея: я чувствовалъ въ ней что-то могучее, искреннее, смѣлое, благосклонное. Вотъ это слово – самое подходящее къ тогдашнему моему ощущенію.
За то одна минута настоящихъ ласкъ приводила меня въ то же полубезуміе, какое я испыталъ, когда двѣ руки внервые обвили мою шею.
Но не больше, какъ чрезъ недѣлю, въ одну изъ такимъ минутъ я не выдержалъ и назвалъ ее «мученицей».
Она даже разсмѣялась и шутливо спросила меня: «Это почему такъ?»
Я разсказалъ ей все, что видѣлъ ночью изъ коридора.
Лицо ея тотчасъ же затуманилось, но нисколько не измѣнившимся тономъ она отвѣтила:
– У графа бываютъ припадки, но онъ лечится и вылечится.
Какіе «припадки», она мнѣ не объяснила и дальше объ этомъ разговоръ не пошелъ.
«Онъ вылечится». Стало-быть, онъ не пьяница, стало-быть, она не терпитъ униженія: вотъ что я узналъ, и это меня не особенно утѣшило. Всякій разговоръ на тему нравственныхъ страданій дѣлался нелѣпымъ, а если и можно было заговорить, такъ о страданіяхъ мужа.
Я переживалъ тотъ періодъ страсти, когда ни одинъ любовникъ не думаетъ о мужѣ, особливо если его нѣтъ на глазахъ. Ни единой мысли о томъ, – что мы дѣлаемъ, мнѣ не явилось. Графиня похвалила меня потомъ за такой крѣпкій сонъ совѣсти: она объяснила его моей «неиспорченной натурой».
Что жь, я въ самомъ дѣлѣ быть неиспорченъ; но далеко не ушелъ съ моей «натурой». Я продолжалъ не думать о графѣ. Графиня получала отъ него письма, но ничего мнѣ объ нпхъ не говорила, точно будто мужа и на свѣтѣ нѣтъ. Съ каждымъ днемъ она становилась усерднѣе въ обученіи меня всякой всячинѣ.
Въ библіотекѣ слободскихъ хоромъ она подвергла меня еще новому испытанію: вынула большую коллекцію гравюръ и начала просматривать ихъ со мною. Тутъ я выказалъ такую же невѣжественность, какъ и по части музыки. Только по слухамъ зналъ я имена Рафаэля, Микель-Анджело, Рубенса; копій никакихъ не видалъ и ничего не читалъ объ искусствѣ; мои товарищи были такого же художественнаго образованія – стало-быть, особенно стыдиться не приходилось, да мое чувство къ графинѣ уже не знало щекотаній самолюбія. Цѣлыя лекціи выслушалъ я въ библіотекѣ, разсматривая коллекціи и альбомы. Все, что говорила графиня, было такъ ново для меня, и она съ такимъ умѣньемъ и охотой вводила ученика въ пониманіе красоты, что ему слѣдовало родиться идіотомъ, чтобы не получить вкуса къ изящному. Каждая знаменитая статуя или картина наводили ее на личныя воспоминанія; она уснѣла вездѣ побывать: и въ Дрезденѣ, и въ Парижѣ, и въ Мюнхенѣ, и во Флоренціи, и въ Римѣ, и даже въ Гагѣ. Слушая ее, я такъ и видѣлъ передъ собою и тотъ диванчикъ, съ котораго англичанки смотрятъ на Сикстинскую Мадонну, и круглую комнату флорентинскихъ Уффицій, и вертящуюся на пьедесталѣ капитолійскую Венеру, и ватиканскую нишу Лаокона, и тотъ плохенькій застѣночекъ на виллѣ Людовицы, гдѣ стоитъ голова Діаны, и скромныя комнаты голландскихъ музеевъ, куда записныя любители пріѣзжаютъ постоять передъ «Быкомъ» Поль-Поттера, «Ночнымъ Дозоромъ» Рембрандта и «Банкетомъ аркебрировъ» Фанъ-деръ-Гольдта. Къ инымъ, совершенно мнѣ неизвѣстнымъ мастерамъ, учительница моя заставила меня особенно привязаться. Мурильо, большіе и малые голландцы сдѣлались моими пріятелями. Черезъ двѣ недѣли я уже говорилъ фразы въ родѣ такой:
– Какъ хорошъ этотъ Вуверманчик!
Еслибъ насъ въ пѣвческой спросили: кто былъ Вуверманъ, мы бы не могли и фамиліи-то такой выговорить. А графиня сообщила мнѣ даже, что Вуверманомъ его называютъ по французскому произношенію; а по-голландски-де – его произносятъ: Вауэрменъ.
У большаго круглаго стола библіотеки, гдѣ меня такъ наглядно и легко просвѣщали во всемъ, что человѣчество создало прекраснаго, я предавался особаго рода страстному и почти благоговѣйному созерцанію. Созерцалъ я ее, т. е. женщину, бывшую моей просвѣтительницей. Какъ она входила въ свою наставническую роль! точно будто затѣмъ только мы съ ней и сошлись; а между тѣмъ она же отдавалась мнѣ такъ смѣло и пылко, ея уста цѣловали меня, ея руки обвивались вокругъ моей шеи. Я заново, еще сильнѣе, еще безраздѣльнѣе преклонялся предъ этой личностью. Ея дѣятельность просто изумляла меня, какъ нѣчто необычайное въ русской барынѣ. Каждый урокъ былъ новымъ доказательствомъ силы и даровитости ея натуры. И все это шло – на одного меня… было съ чего обезумѣть!
XXXVI.
– Графъ будетъ здѣсь черезъ два дня.
Вотъ что вымолвила мимоходомъ графиня подъ конецъ урока французскаго языка.
Я вскочилъ. Меня не столько поразило извѣстіе, сколько то, какъ оно было сообщено. Но графиня точно не обратила вниманія на мой переполохъ и, закрывъ книжку, сказала:
– Я васъ, другъ мой, сегодня совсѣмъ замучила урокомъ. Ступайте-ка спать.
Но въ такія ночи, какую я провелъ, сна не дается человѣческому организму.
Нѣсколько недѣль прошло – и я не оглянулся на себя, не назвалъ никакимъ именемъ того, что у насъ завязалось съ графиней. Но тутъ разомъ, безъ всякихъ тонкостей и извиненій, обозвалъ я себя «мерзавцемъ», а связь съ женой моего патрона – «гнуснымъ обманомъ». Къ разсвѣту во мнѣ сидѣло одно чувство – покончить во чтобы то ни стало. Вся отвратительная гадость прелюбодѣянія терзала меня нестерпимо.
Съ готовымъ рѣшеніемъ сошелъ я внизъ. За завтракомъ и за обѣдомъ промолчалъ и ждалъ минуты перехода въ боскетную, чтобы начать…
Но меня предупредили; какъ мнѣ и слѣдовало ожидать, еслибъ я тогда получше зналъ мою наставницу.
– Вижу, сразу начала она, затворяя за собою дверь, что васъ волнуетъ. Присядьте.
– Я не сяду, отвѣтилъ я сумрачно.
– Ну, какъ хотите; а я сяду.
И она сѣла акуратно въ свое кресло, взяла работу и, поглядывая на меня, начала неспѣшно:
– Вы не вспомнили до вчерашняго вечера о моемъ мужѣ, иначе и не могло быть; у васъ хорошая натура, вы отдавались своей страсти, и мучить себя за это угрызеніями – наивно. Я знаю, что вы мнѣ скажете: «обманывать мужа – гадко; если вы меня любите, должны быть моей, а не его женой». Вѣдь такъ?
Вопросъ засталъ меня врасплохъ. Я наединѣ съ своей совѣстью не шелъ такъ далеко: я не мечталъ о томъ, что она броситъ все для меня.
– Нѣтъ, отвѣтилъ я, еле выговаривая слова отъ волненія, я не претендую на это.
– Стало быть, вы хотите меня оставить?
Я обомлѣлъ и уставилъ на нее глаза.
– Хотите? повторила она.
Въ глазахъ у меня закружились искры; неизвѣданная ярость овладѣла мною, похожая на ту, съ какой я вонзалъ рогатину въ тушу разсвирѣпѣвшаго звѣря.
– Если не хотите, продолжала графиня, блѣднѣя и кладя работу на столъ, то не требуйте отъ меня невозможнаго. Я графа не брошу, не потому что я его больше васъ люблю, нѣтъ; а потому, что такъ не слѣдуетъ дѣлать, я не привыкла себѣ противорѣчить. Вы меня вашими студенческими идеями не передѣлаете, Николай Иванычъ, да и не скажете мнѣ ничего новаго. Обманъ, ложь – безнравственность. И вы это такъ называете, и въ свѣтѣ такъ зовутъ. Неужели вы думаете, что я не обдумала всего, прежде нежели сошлась съ вами? Ну, такія ли я женщина, поглядите на меня.
Голосъ ея до того рѣзалъ меня по нервамъ, что я, подойдя къ креслу, продолжалъ ощущать что-то охотничье, точно въ рукахъ у меня былъ ножъ, а предъ глазами вѣрная смерть, если промахнусь.
Графиня привстала, поглядѣла на меня въ упоръ и выговорила съ холодной улыбкой:
– Вы ходили, одинъ-на-одинъ, на медвѣдя: я это знаю, Николай Иванычъ. Вы сильный мужчина; но я, въ эту минуту, не слабѣе васъ. Лучше будетъ вамъ сѣсть и успокоиться.
– Полноте, продолжала она мягче и искреннѣе; жизнь – такое трудное дѣло. Вы еще только начали учиться искусству жить. Вы свободны – можете ѣхать отсюда хоть завтра. Но зачѣмъ же вы уѣдете? Что вы будете спасать? Вашу совѣсть? Она ни причемъ тутъ: я васъ полюбила, я вамъ отдалась, я вамъ другъ, товарищъ, союзникъ. Вы только отвѣчали мнѣ. Вы никого не обманываете. Графъ – человѣкъ для васъ посторонніе, и вдобавокъ вы на него смотрите… я знаю какъ. Стало, изъ-за чего же вамъ-то мучиться?
Вся эта логика скользила по мнѣ, не убѣждая, но отвѣтить что-нибудь посильнѣе я не могъ. У меня вырвался одинъ вопросъ:
– А ваше-то чувство?
– Мое? подхватила графиня; вы его видите: на выходку я неспособна, – не хочу васъ и обманывать; да вы вѣдь и не подбиваете меня на побѣгъ изъ-подъ супружескаго крова.
– Это ваши принципы? прошепталъ я, чувствуя, какъ страсть снова овладѣла мною, и уже дрожа за исходъ нашего разговора.
– Перестаньте, Николай Иванычъ, шутливо возразила она, говорить все по книжкѣ. Хотите – вѣрьте мнѣ, хотите – нѣтъ; но, право, иначе нельзя сдѣлать. Вы свободны, повторяю еще разъ. Я васъ не завлекала… мы теперь говоримъ съ глазу на глазъ – и вы можете мнѣ сказать, что я лгу; но вы не скажете. Такъ должно было кончиться наше сближеніе. Вы хорошій, свѣжій, нетронутый человѣкъ, вы не знали ни ласки, ни сочувствія женщины: все это влекло къ вамъ. Остальное – подробность.
– Подробность! вскричалъ я, какъ ужаленный.
– Да, я такъ это называю. Не знаю, чей взглядъ чище – мой или вашъ, да я и спорить не стану. Поживете и согласитесь со мною; иначе нельзя мнѣ разсуждать, и я съ вами поступаю такъ же честно, какъ и вы со мною.
– Стало быть, чуть дыша, выговорилъ я, вы будете жить съ двумя мужьями, если я останусь?
– Я предвидѣла и этотъ щекотливый вопросъ, возразила она съ возрастающимъ спокойствіемъ, которое тогда просто холодило меня, – и онъ мнѣ не страшенъ. Да, я буду женой графа и вашимъ другомъ, до тѣхъ поръ, пока иначе сдѣлать нельзя, опять-таки по моимъ грѣшнымъ понятіямъ. Но не стыдно ли вамъ, Николай Иванычъ, вести себя, какъ любовнику изъ плохаго французскаго романа? Вы, значитъ, чувствуете ревность! Нѣтъ, вы спросили такъ, изъ принципа. Для настоящаго чувства никакія жертвы не трудны; а это таксе маленькое лишеніе…
Что оставалось отвѣчать ей? Не мнѣ, при тогдашней моей дубоватости и простотѣ, было бороться съ діалектикой моей просвѣтительницы.
Она помолчала, потомъ подошла ко мнѣ, сложила руки на груди и строго такъ вымолвила:
– Я не допускаю колебаній, Николай Иванычъ. Надо жить, а не нервничать. Если я развратница – бросьте меня. Если вамъ нельзя меня оставить – будьте выше всего этого… какъ бы назвать… по-французски оно называется «marivaudage».
Вотъ какъ она называла мою душевную бурю: marivaudage! И сколько разъ потомъ, вспоминая сцену въ боскетной, я сознавалъ, какъ тогда графиня, пропитанная Бальзакомъ, была сильнѣе и послѣдовательнѣе студента съ обрывками какихъ-то принциповъ.
XXXVII
Я былъ первый человѣкъ, попавшійся графу въ день его пріѣзда. Злобнаго чувства къ нему я не возымѣлъ, когда онъ обнималъ меня въ передней. Въ немъ я долженъ былъ видѣть врага моего, но я вѣдь зналъ, что онъ – не препятствіе моему счастію. Онъ не удержалъ бы жену въ супружеской неволѣ, еслибъ такая женщина, какъ графиня Варвара Борисовна, пожелала покинуть до-машній очагъ. Онъ былъ такой же подданный наперсникъ, только поплоше меня.
По юности моей, я сталъ избѣгать разговоровъ втроемъ, за что получилъ, разумѣется, внушеніе отъ графини, и… испугался еще сильнѣе, чѣмъ въ ту минуту, когда она категорически сказала мнѣ: «если я развратница – бросьте меня». Храбрости я вообще не признаю, но смѣло могу сказать, что принадлежу къ породѣ медвѣжатниковъ, а въ этой профессіи съ боязливостью далеко не уйдешь. Во всякой страсти лежитъ густой слой трусости. Да и силы-то, въ ту пору, у насъ были неравныя, о чемъ графиня тоже мнѣ весьма категорически заявила.
Супругъ ея, распаковавъ и очистивъ весь чемоданъ своихъ столичныхъ новостей, воспользовался первымъ вечеромъ, чтобы пуститься со мной въ изліянія.
Въ немъ давно-давно жила потребность – взять меня въ повѣренные сердечныхъ тайнъ. Сдержанный этотъ «Trieb», какъ нѣмцы говорятъ, – прорвался наконецъ.
– Вы, Николай Иванычъ, началъ онъ, навѣрно теперь оцѣнили натуру графини.
– Оцѣнилъ, отвѣтилъ я не безъ нахальства.
– Ее трудно изучить; но разъ она привлечетъ къ себѣ человѣка…
Это предисловіе показывало, къ какой удобной категоріи мужей принадлежалъ графъ.
Я только мычалъ въ знакъ согласія.
– Скажу вамъ откровенно, продолжалъ онъ, что я самъ положилъ годы на сближеніе съ женой моей…
Тутъ начались конфеденціи и продолжались съ семи до одиннадцати часовъ вечера. Я увидалъ воочію то, о чемъ смутно догадывался: человѣка рабски, смертельно влюбленнаго въ свою жену и преклоняющагося предъ нею въ тысячу разъ больше, чѣмъ я преклонялся до разговора въ боскетной.
Все узналъ я, – и какъ графъ студентомъ еще влюбился въ княжну Черкесову, приходившуюся ему троюродной сестрой, какъ онъ отъ безнадежной любви къ ней пошелъ волонтёромъ на войну, искалъ смерти, отличился, получилъ Георгія и чуть не умеръ, узнавъ, что она въ его отсутствіе вышла замужъ за другаго своего дальняго родственника – князя Дурова. Съ отчаянія онъ предался кутежу; но судьба сжалилась надъ нимъ, и они опять встрѣтились. Князь Дуровъ, болѣзненный, совсѣмъ полудурачокъ, черезъ два года послѣ женитьбы умеръ. Сближеніе съ Варварой Борисовной началось слишкомъ за годъ до его смерти. Она вняла наконецъ его мольбамъ и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вдовства сдѣлалась графиней Кудласовой.
Кое-чего графъ не договаривалъ, но все давалъ понимать и чувствовать. И чѣмъ больше онъ говорилъ, тѣмъ больше преисполнялся своимъ сюжетомъ. Графиня была третьимъ словомъ каждой его фразы. Никто бы не повѣрилъ, что этотъ тридцатилѣтій баринъ такъ восторженно разсказываетъ про свою собственную жену, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ ихъ сожительства. Кто изъ насъ тогда больше любилъ графиню – не берусь рѣшить, по онъ больше уничтожался въ своей страсти, чѣмъ я; для него графиня была нѣчто «не отъ міра сего».
Послѣ историческаго очерка начались признанія нравственно-воспитательнаго характера.
– Николай Иванычъ, вскричалъ онъ со слезами на глазахъ, если я похожъ на человѣка, если вы чувствуете ко мнѣ какое-нибудь уваженіе, всѣмъ этимъ я обязанъ женѣ моей, и никому больше! Она поправила меня по всѣхъ отношеніяхъ. Я не доучился въ студентахъ, и послѣ военной службы сталъ заново читать и учиться, чтобы быть ея достойнымъ. Въ меня въѣлось много офицерства – она меня перевоспитала. Тщеславіе стало изчезать; прежде я носилъ и въ визиткѣ георгіевскій крестъ, а теперь мнѣ было бы совѣстію выставить и ленточку. Разумѣется, мнѣ это стоило и стоитъ не малыхъ усилій. Еще не отъ всѣхъ скверныхъ привычекъ я избавился, не отъ всѣхъ, но избавлюсь, даю вамъ честное слово, у меня хватить воли!..
«Отъ какихъ же это привычекъ? подумалъ я, отъ припадковъ то что ли?»
– У меня хватитъ воли! повторилъ онъ съ дрожаніемъ въ голосѣ. Графини – мое евангеліе, и до тѣхъ поръ, пока она жива – я буду идти впередъ и впередъ.
«Что же это, думалъ я, ея сіятельство изволило устроить у себя въ Слободскомъ учебное заведеніе? мужа исправляютъ, меня просвѣщаютъ!»
Не знаю, куда бы меня завели злобныя мысли, еслибы графъ не взялъ меня за руку и не прошепталъ:
– Вамъ я глубоко благодаренъ за Наташу. На мою дружбу вы можете разсчитывать, какъ на каменную стѣну. Мнѣ этотъ ребенокъ особенно дорогъ. Вѣдь вы довольны ею?
– Очень, отвѣтилъ я добрѣе.
– И способности въ ней находите?
– Не особенно блестящія, по прочныя; учится она прекрасно и дѣвочка пресимпатичная.
Графъ трясъ мнѣ руку и глаза его были влажны.
Мнѣ стало его не на шутку жалко; врага я въ немъ не видалъ, но не могъ идти къ нему и въ друзья, даже еслибъ между нами и не легла пропасть обмана.
– Графиня, чуть слышно вымолвилъ онъ, строгонька къ ней и не особенно ласкова…. Тутъ есть причина… я не имѣю права объяснить ее… но причина есть. Я преклоняюсь передъ строгостью ея нравственныхъ началъ…
Фраза вышла у него до того искренне и горячо, что я чуть не фыркнулъ: очень ужь смѣшно мнѣ стало, и горько въ то же время, сопоставить ее съ тѣмъ, чему учила меня графиня ровно за пять сутокъ до этого разговора. Врядъ-ли въ состояніи былъ бы я выслушать еще нѣсколько фразъ въ такомъ вкусѣ; но «евангеліе» графа Платона Дмитріевича появилось въ дверяхъ кабинета и прервало нашу бесѣду.
Догадалась ли графиня о томъ, что графъ изливался мнѣ? Думаю, что нѣтъ. Онъ же не посмѣлъ сообщить ей этого.
Но въ ея присутствіи онъ еще разъ пожалъ мнѣ руку и обращаясь къ ней сказалъ:
– Вотъ нашъ вѣрный другъ, Barbe. Чувствую, что мы съ нимъ скоротаемъ нашъ вѣкъ.
Слѣдовало бы мнѣ провалиться на мѣетѣ; но я вынесъ, даже глазомъ не моргнулъ! Наставницѣ не мѣшало похвалить меня за выдержку.
XXXVIII.
Ничего не измѣнилось въ моемъ днѣ. Даже занятія съ графиней пошли по-старому. Графъ зналъ объ нихъ изъ писемъ жены и настаивалъ на томъ, чтобы я продолжалъ учиться. Въ то время, какъ я бралъ уроки въ залѣ или боскетной, мужъ запирался въ кабинетѣ и писалъ тамъ разныя записки.
За уроками графиня вела себя, какъ ни въ чемъ не бывало, т.-е. такъ, какъ и безъ графа. Подъ конецъ учебнаго вечера, она говорила мнѣ двѣ-три фразы – не больше, добродушныя и невозмутимый. До дальнѣйшихъ объясненій она не допускала меня.
– Мы ѣдемъ около Рождества въ Москву, объявила она мнѣ заблаговременно; не хотите ли теперь отправиться въ вашъ первый объѣздъ, чтобы потомъ быть свободнымъ до весны.
Умъ этой женщины работалъ неутомимо; она вполнѣ поняла, что мнѣ необходимо исчезнуть хоть на время. Даже и въ этомъ она меня предупредила.
Я уѣхалъ черезъ два дня, напутствуемый сладостями графа. Никакого особаго прощанья съ нею не было. Съ пріѣзда мужа она не выходила изъ роли наставницы, вѣроятно, чтобъ успокоить сколько-нибудь мою «студенческую совѣсть».
Выпалъ снѣгъ, и я, засѣвши въ кибитку, началъ шнырять по восьми уѣздамъ двухъ губерній. Имѣнья графа были крайне разбросаны, и я нашелъ въ нихъ порядочную безтолочь, хотя мужику жилось почти вездѣ настолько хорошо, насколько можно было при крѣпостномъ правѣ. Графъ позволялъ обкрадывать себя; но живодерства и грабительства крестьянъ не любилъ. Мнѣ пришлось распоряжаться диктаторски съ разными бурмистрами, прикащиками, земскими и старостами. Съ глазу на глазъ съ крестьянской нуждой я нашелъ въ себѣ прежнюю стойкость хуторскаго отшельника, и разжалобить меня не удалось ни одному шельмѣ-писарю. Не смутился я тѣмъ, что на меня полетѣли жалобы къ его сіятельству. Мужикамъ я говорилъ вездѣ одно и тоже: «воля не за горами; но сумѣйте дождаться ея; я вашъ заступникъ и выхлопочу вамъ все, что только могу». Въ одномъ торговомъ селѣ оказалось, что вся почти осѣдлость была куплена крестьянами еще у стараго барина, т. е. у отца графа Платона Дмитріевича; но останется ли она за ними безъ выкупа – они сильно сомнѣвались. Я ихъ обнадежилъ, и тутъ обратился мысленно къ своей союзницѣ. Внутренній голосъ говорилъ мнѣ:
«С ней ты этого добьешься; только будь умникъ, не смущайся вздоромъ».
Но молодость брала свое. Я ни одного дня не провелъ безъ думы объ ней, безъ тоски но ней, – и все-таки съ каждымъ днемъ зрѣло во мни новое рѣшеніе: «обманомъ жить нельзя». Время летѣло очень быстро въ разъѣздахъ, ревизіяхъ, сходкахъ, разбирательствахъ и диктаторскихъ переворотахъ; но я считалъ каждый день и зналъ, что онъ приближаетъ меня къ разрыву, къ смертной операціи, къ самой смерти. Да, я не лгалъ себѣ. Я могъ тогда сгибнуть отъ такого исхода, а все-таки шелъ на него.
Переписки между нами не завязалось. Меня оставляли успокоиться, и самъ я не писалъ. И что могъ я писать? Пришли только въ разныя мѣста моихъ стоянокъ два письма графа. Онъ извѣщалъ, что волю ждутъ къ Новому году, или много много къ масленицѣ, и что онъ собирается въ Петербургъ ненадолго, а меня ждетъ въ Москву въ январѣ. Мѣсто члена отъ правительства въ одной изъ губерній, гдѣ онъ помѣщикъ, – за нимъ, и его предложеніе принято министромъ съ заявленіемъ особаго удовольствія.
Онъ былъ переполненъ «событіемъ» гораздо больше меня, и это удвоило мою рѣшимость. Послѣднія два имѣнія я обревизовалъ наскоро, разсчитывая начать съ нихъ весной и какъ фельдъегерь мчался въ Москву.
На этотъ разъ я остановился въ гостиницѣ Шевалдышева. Графиня могла черезъ мужа знать, что я пріѣду около Новаго года; но я попалъ только послѣ Крещенья. Въ нумерѣ я не спѣша разложился, отдохнулъ, съѣздилъ позавтракать въ Лоскутный и тогда только велѣлъ извощику везти себя на Садовую. На меня напалъ особаго рода столбнякъ, и я свиданія нисколько не боялся. Мнѣ даже смѣшно было вспомнить, съ какимъ волненіемъ подъѣжалъ я въ кибиткѣ къ розовому дому, съ колоннами и графскимъ гербомъ.
Лакеи съ удивленіемъ посмотрѣли на меня, и одинъ изъ нихъ, ходившій за мною въ Слободскомъ, съ очень глупой миной сказалъ:
– А вѣдь для васъ, сударь, антресоль приготовленъ. Вотъ ужь которую недѣлю отапливаютъ.
Я ничего не замѣтилъ на это, но видъ хранилъ отмѣнно-суровый.
– Графиня дома? отрывисто спросилъ я.
– Никакъ нѣтъ-съ, уѣхали съ визитами.
– Барышня дома? продолжалъ я такъ же.
– Барышня учится, и мамзель дома.
Наташу я нашелъ въ классной и при ней дѣвицу – «кандидатку», замѣнившую меня не части русской грамоты. И миссъ Уайтъ мнѣ обрадовалась. У меня что-то не хватило духу сказать имъ, что я не буду жить съ ними въ одномъ домѣ.
Съ Наташей на колѣнахъ (кандидатка удалилась) застала меня графиня.
Мы оба вскочили. Графиня стояла предо мной въ бѣлой шляпкѣ, въ темно-малиновомъ бархатномъ платьѣ, съ улыбкой, нѣсколько удивленная. Отъ нея пахло воздухомъ и зимой, щеки чуть-чуть порозовѣли. Она была удивительно хороша.
– Что за сюрпризъ? спросила она, подавая мнѣ руку такъ, чтобы я ее поцѣловалъ.
– Сегодня только прибылъ, доложилъ я.
– А написать трудно было. Пожалуйте-ка за мной.
Она вышла изъ классной, Наташа выпустила мою руку и жалобно поглядѣла на меня.
Мы не дошли до угловой. Въ гостиной графиня остановилась и выговорила вполголоса
– Обрадовать васъ новостью?
– Какой? хмуро откликнулся я.
– Вы – отецъ…
Я отскочилъ, а она, приблизившись ко мнѣ, взяла меня за руку и, тономъ серьезной, спокойной жены, совершенно какъ и быть слѣдуетъ, продолжала:
– Вотъ у васъ еще цѣль: будете воспитывать вашего ребенка, не говоря уже о Наташѣ. Не сердитесь на меня: я невиновата.
Она улыбнулась и громко сказала:
– Вы не думаете ли въ трактирѣ жить? Я сейчасъ пошлю за вашими вещами. Пойдемте въ угловую.
XXXIX.
Отецъ! Кто не дѣлался имъ въ моей кожѣ, тотъ не знаетъ, какой ударъ нанесло мнѣ это двухсложное слово. Я даже не рѣшился его выговорить. Что-то смѣшное, не то радость, не то отчаяніе, не то ужасъ, не то умиленіе – овладѣло мною. На эти состоянія не даютъ отвѣта никакіе психологи. Послѣ, читая Бэна, Маудсли, Спенсера, я старался раціонально выяснить ощущенія моего родительства; но ничего не нашелъ подходящаго. Пришлось повторять простую мужицкую прибаутку: «про то знаютъ грудь да подоплека».
По мать не думала смущаться. Негодовать на нее было тоже не за что. Она относилась ко мнѣ, какъ къ близкому человѣку, самому близкому изъ всей ея обстановки. Въ ея тонѣ не чувствовалось ни напряженности, ни сухости, ни особенной нѣжности. Преобладала совершеннѣйшая серьезность и искренность, такая искренность, что она производила бы пожалуй впечатлѣніе великаго цинизма. Каждое ея слово, каждое ея обращеніе ко мнѣ говорило:
«Бери меня такою, какова я есть: я тобой занимаюсь и помогаю тебѣ въ хорошемъ дѣлѣ. Ты стоишь для меня на самомъ первомъ планѣ. Я рада, что сдѣлалась матерью, и предоставлю тебѣ полныя права на твоего ребенка: можешь мнѣ вѣрить».
Меня понесла волна, неспѣшная, но могучая и неудержимая. Въ Москвѣ, кромѣ выѣздовъ и театра, пошла, почти іота въ іоту, такая же жизнь, какъ и въ Слободскомъ: тѣ же занятія, то же пѣніе, тѣ же педагогическіе разговоры. Графиня очень мало выѣзжала, и къ молодымъ людямъ выказывала спокойное презрѣніе. Они буквально для нея не существовали. Менѣе тщеславія и такъ-называемаго кокетства я потомъ не видалъ ни въ одной женщинѣ. Она ни мало не дорожила «свѣтомъ». Ея разсказы и замѣчанія проникнуты были язвительнымъ юморомъ. Про всю дворянскую Москву она иначе не выражалась, какъ «нашъ Арзамасъ». Ни передъ чѣмъ рѣшительно она не преклонялась, и ужь конечно никого и ничего не боялась. Смѣлость – ея коренной «видовой» признакъ, какъ выразился бы натуралистъ.
Я смирился: не предавался безсонницамъ, не ковырялъ себя, не являлся къ ней съ сумрачной физіономіей, не хныкалъ, и тому, что случилось, больше не удивлялся. Я ждалъ: вотъ настоящее слово, ждалъ событій, сознавая ежеминутно, что я связанъ съ этой женщиной серьезной, безповоротной связью, безповоротной до тѣхъ поръ, пока она «беретъ нотой выше».
Поэтому я успокоился и могъ, безъ всякаго трагизма, вести съ графиней бесѣды о самыхъ жгучихъ вопросахъ.
Чуть не наканунѣ возвращенія графа изъ Петербурга, я сказалъ ей въ угловой – Вы довольны мной?
– Да, кротко отвѣтила она, вы возмужали. И чѣмъ же вамъ не житье, Николай Иванычъ? весь рискъ, вся темная сторона – на моей отвѣтственности. Вы теперь живете, и живите себѣ. Будетъ слишкомъ трудно бросить меня; но, право, я этому не вѣрю.
– Не вѣрите? спросилъ я съ усмѣшкой.
– Не вѣрю. Какъ же вамъ бросить меня? Надо будетъ все говорить графу, вы этого не сдѣлаете; а безъ причины вы не нарушите вашего условія: вы обязались три года заниматься его крестьянами.
– Это точно, проговорилъ я, какъ-бы про себя.
– Вы можете прекратить ваши отношенія ко мнѣ и остаться на службѣ у графа. Но развѣ это искупитъ вашу вину предъ нимъ, если вы считаете себя виновнымъ? Нимало. Живите – вотъ и все; вы будете благодѣтелемъ нѣсколькихъ тысячъ душъ крестьянъ, и воспитателемъ вашего друга – Наташи.








