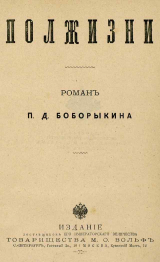
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Петр Боборыкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Впервые познакомился я съ тоской ожиданія; я началъ молча, тупо, сосредоточенно страдать…
XXVIII.
Ровно черезъ мѣсяцъ привозятъ мнѣ письмо изъ города, помѣченное «Москвой». Адресъ былъ написанъ неизвѣстною рукою, твердой и крупной, но тонкой, не мужской; пакетъ запечатанъ графской гербовой печатью.
Письмо начиналось словами: «Добрѣйшій Николай Ивановичъ», и кончалось собственноручною подписью: «Графъ Платонъ Кудласовъ». Но все, кромѣ этой подписи, было писано ея рукой.
Въ началѣ графъ извинялся, что самъ не можетъ писать по болѣзни и диктуетъ женѣ. Письмо было гораздо менѣе любезно и многорѣчиво, чѣмъ обыкновенно графскія посланія. Но все, что въ немъ стояло лестнаго для меня, отзывалось новой, серьезной симпатіей. Я видѣлъ другія слова и прозрѣвалъ другую личность, которая находила выраженія для мыслей, и подъ самый конецъ письма вдругъ, безъ всякаго предисловія ея собственное обращеніе ко мнѣ, шутливое и ободряющее.
Я чуть не десять разъ перечелъ эти строки:
«Хорошенько готовьтесь, писала она, и забудьте до лѣта Москву и Садовую. Графъ и спитъ, и видитъ сдѣлать васъ своимъ сотрудникомъ. Отъ васъ зависитъ все остальное. Не хотите ли для великопостнаго чтенія нѣсколько вещицъ презираемаго вами Бальзака? Я бы прислала. Вы очень понравились моей дочери – поздравляю васъ. За то, что не пришли проститься – не сержусь: понимаю вашу благородную дикость. Вѣдь вамъ не было же стыдно? Вы только не хотите показывать, какая у васъ натура… Все равно, рано или поздно прорвется. До свиданія».
Я задыхался отъ радости. По отвѣчать я не захотѣлъ. Черезъ графа – вышло бы пошло; прямо ей – она мнѣ не позволяла. Правда, она спрашивала меня: не прислать ли Бальзака, но это – простая шутка. Да я бы, можетъ быть, не захотѣлъ писать ей, еслибъ даже она и намекнула на это. Для меня слаще было сохранить впечатлѣніе ея неожиданной ласки, совершенно такъ, какъ я лелѣялъ свое чувство, послѣ сцены въ голубой комнатѣ, и не пошелъ прощаться.
Ясно было, что графъ не прочитывалъ письма продиктованнаго имъ. Она бы не стала обращаться ко мнѣ въ самомъ письмѣ мужа, за нѣсколько строкъ до конца, до подписи его. Что-то новое, неизвѣданное мною, зашевелилось у меня внутри: ощущеніе запретнаго плода, смутное сознаніе сообщничества.
Я ничего и не отвѣтилъ графинѣ; ограничился въ письмѣ къ графу общими заявленіями своей признательности за их ласковое гостепріимство. Чего мнѣ было торопиться? Я вѣдь зналъ, что чрезъ три, много четыре мѣсяца сдѣлается по-моему. Такъ сказала она – стало, что-жь тутъ волноваться? На меня напало какое-то блаженное состояніе духа. Что бы я ни дѣлалъ, я повторялъ фразу графини: «Все равно, рано или поздно – прорвется». Что прорвется – я не спрашивалъ; моя ли натура, какъ она писала, или та напряженность, которую я такъ грубо выказалъ въ Москвѣ. Прорвется, и конченное дѣло! Мной, моей натурой занималась она, а я, идя въ первый разъ въ угловую, боялся, что она скажелъ мнѣ, какъ управителю изъ вольноотпущенныхъ: «Какъ у васъ, братецъ, тамъ на хуторѣ?» Она дѣлаетъ мнѣ конфиденціальныя сообщенія, шутитъ со мною, понимаетъ меня, занимается мной, точно я не Николай Ивановичъ Гречухинъ, а особа изъ Бальзаковскаго романа.
Сладки эти минуты мужскаго упоенія! Устоять передъ ними нельзя никому: ниже Муцію Сцеволѣ или Катону, Робеспьеру или Сенъ-Жюсту; но что лучше: идти безъ рогатины на Мишку, или очертя голову на ласку такой женщины, какую я увидалъ, впервые, у камина – этотъ вопросъ рѣшаютъ только глядя прямо въ глаза смерти, тамъ тѣлесной, тутъ нравственной.
Однако чѣмъ ближе подходила весна, тѣмъ угрюмѣе становился я… Я точно чуялъ, что меня ждетъ въ селѣ Сдободскомъ. Ужь не воображеніемъ только, а въ заправду прощался я съ одинокой, чистой жизнью хутора, съ моими смѣшноватыми и честными порываніями, съ моей дикостью, упорствомъ, задоромъ и рѣзкостью разночинца. Меня ждала высшая школа, о какой не мечталъ ни одинъ худородный сынъ магистратскаго секретаря.
XXIX.
Но прошло почти все лѣто, а въ Слободское я еще не попадалъ. Графъ по возвращеніи изъ Москвы ѣздилъ въ Петербургъ, прожилъ тамъ долго, писалъ мнѣ оттуда нѣсколько разъ, и все о крестьянскомъ дѣлѣ. Поелѣднее письмо было довольно-таки язвительное. Онъ чувствовалъ себя обиженнымъ за дворянское сословіе, говоря, что представителемъ «онаго» пришлось отправляться восвояси «не солоно хлѣбавши». Это вульгарное выраженіе стояло въ письмѣ его сіятельства. Онъ какъ-бы сбирался пуститься въ нѣкотораго рода оппозицію и «умыть руки», ожидая, «чѣмъ все это кончится». Меня письмо серьезно мучило. Я ждалъ чего-нибудь отъ графини, но она молчала. Докладывать ей письменно, что его сіятельство изволитъ черезчуръ огорчаться «за дворянское сословіе», я считалъ совершенно неблаговиднымъ, хотя она и объявила себя моей вѣрной союзницей.
По хутору лѣтомъ скопилось больше дѣла, чѣмъ въ рабочую пору прошлаго года. Я цѣлые дни проводилъ въ полѣ и загорѣлъ, какъ головешка. У насъ безъ устали дѣйствовали бутеноповскія молотилки и соломорѣзки, сѣялки и вѣялки; но кругомъ, въ крестьянствѣ, все ждало, затаивъ дыханіе, и по лютости, съ какой иные помѣщики драли барщину, не трудно было видѣть, что наступила послѣдняя минута рабовладѣльческаго приволья.
И я тоже притаилъ дыханіе. Весь хлѣбъ былъ убранъ, ранніе посѣвы покончены, осень зарумянила лѣсъ, пришелъ управительскій досугъ. Незадолго до Покрова, въ большомъ и очень сладкомъ письмѣ графа, я нашелъ приглашеніе пожаловать къ нему въ Слободское – отдохнуть отъ тяжкихъ трудовъ «страднаго времени». Самъ же графъ не могъ, по нездоровью, пріѣхать на хуторъ. Приписки не было; но я читалъ это словообильное письмо, точно его писала моя союзница.
На этотъ разъ я увезъ съ собой все свое добро: и книги, и ружье, и даже химическую посуду. Съ Капитономъ Ивановымъ и моей экономкой я расцѣловался и ничего не отвѣтилъ на вопросъ Фелицаты:
– Когда прикажете ждать васъ, батюшка Миколай Иванычъ.
Седо Слабодское отъ хутора было всего въ ста съ небольшимъ верстахъ, но въ другой губерніи. Ѣхалъ я въ тарантасѣ и на сдаточныхъ. Къ вечеру того же дня добрались мы до графской усадьбы. Памятны мнѣ эти высокіе, побурѣвшіе хоромы, съ зеленой крышей и краснымъ бельведеромъ. Какъ теперь вижу ихъ, изъ-за пожелтѣвшей гущи липовыхъ аллей сада, на фонѣ осенняго заката. И тогда у меня сильно забилось сердце, и теперь не могу совсѣмъ совладать съ собою, переживая въ памяти, что случилось въ этихъ барскихъ хоромахъ.
Мнѣ, видно, на роду было написано – не заставать графа дома. И на этотъ разъ онъ отсутствовалъ. Тотъ же выѣздной лакей доложилъ мнѣ, что «его сіятельство нзаоънъм поѣхать верхомъ на водяную мельницу, а ея сіятельство – вз боскетной».
Я сразу-то и не понялъ хорошенько, что это за штука «боскетная». Но такой я набрался смѣлости, что попросилъ провести меня къ графинѣ. Весь я былъ грязный, н хотя въ передней меня немного обчистили щеткой и вѣничкомъ, но на лицѣ и въ бородѣ сидѣло нѣсколько фунтовъ пыли. На все это я вниманія не обратилъ.
Повели меня черезъ большую длинную столовую въ угловую тоже комнату, расписанную садомъ, съ «горкой» въ углу, покрытой всякими камешками и раковинами. Вотъ здѣсь-то и была «боскетная». Графъ поддерживалъ эту отдѣлку александровскаго времени.
У окна, въ старинномъ креслѣ, пользуясь послѣдними отблесками заходящаго солнца, нагнулась надъ столикомъ графиня и выводила что-то карандашомъ. Я увидалъ знакомую мнѣ красную кацавейку, шитую золотомъ.
– Здравствуйте графиня! вскрикнулъ я грудью и шумно подошелъ къ ней.
Мнѣ протянули руку. Я поцѣловалъ быстро, горячо и робко. Когда я поднялъ голову, то встрѣтилъ мгновенную улыбку, за которой слѣдовало тотчасъ-же такое строгое выраженіе лица, что у меня индо сердце екнуло.
– Ждала васъ съ часу на часъ, заговорила она дѣловымъ, нѣсколько тревожнымъ тономъ. Садитесь и выслушайте.
Я не смѣлъ ее перебить вопросомъ и молча, какъ послушный мальчикъ, присѣлъ къ окну. Глаза мои разглядѣли мимоходомъ работу графини: она срисовывала по прозрачной бумагѣ какой-то узоръ.
– Я знаю, продолжала она, выводя рисунокъ узора, что графъ писалъ вамъ. На него тамъ въ Петербургѣ повліяли разные разговоры… Онъ обидѣлся за свое сословіе.
Улыбка проскользнула по ея губамъ.
– Это чувство понятное, точно поправилась она; только оно вамъ съ вами невыгодно. Я говорю: намъ съ вами – я вѣдь ваша союзница… Но теперь, въ эту минуту, графъ успокоился. Онъ желаетъ только одного, чтобы кто-нибудь, кого онъ очень уважаетъ, напримѣръ вы, поддержалъ его. Ему надо пойти въ члены отъ правительства, какъ только будетъ объявлена воля. Онъ конфузится, повторяетъ фразы, что нужно занять независимое положение… Но все это вздоръ. Вотъ въ чемъ дѣло, Николай Иванычъ; я была вамъ вѣрной союзницей и прошу васъ: не тянуть, не деликатничать…
– Въ чемъ же? вырвалось у меня.
– Какъ только графъ предложитъ вамъ другое мѣсто, какое бы ни было, берите его. Вамъ надо сдѣлаться его правой рукой, – помните нашъ московскій уговоръ. Если даже роль ваша ограничится тѣмъ, что вы будете вводить золю въ его имѣніяхъ, и то тутъ, для человѣка какъ вы, нѣтъ мѣста лишнимъ деликатностямъ, тутъ дѣло пдетъ эбъ нѣсколькихъ тысячахъ душъ. Не правда ли?
Вопросъ этотъ былъ предложенъ такъ внушительно, что я прошепталъ только:
– Такъ, такъ.
Тѣмъ объясненіе и покончилось. Обо мнѣ она ничего не разспросила и встала съ мѣста. Точно будто мы свидѣлись, чтобы заключить контрактъ и тотчасъ-же разойтись въ разныя стороны для дальнѣйшихъ дѣйствій. Я не смѣлъ оглядѣть ее хорошенько, обратиться къ ней, какъ къ доброй знакомой, отыскать въ ней чарующую женщину московской угловой комнаты. Она опять меня держала въ рукахъ; но совсѣмъ иначе, строго, почти сухо, повелительно.
Вѣроятно она увидѣла въ окно, что графъ подъѣхалъ къ крыльцу. Вставъ, она вышла въ столовую и отправилась на-встрѣчу ему, – даже заторопилась, что меня нѣсколько удивило. Она ушла къ нему въ переднюю, а меня оставила въ залѣ, покрытой сверху до низу фамильными портретами. Я всталъ противъ какого-то прадѣдушки въ пудренномъ парикѣ и красномъ мундирѣ и не могъ воздержаться отъ вопроса: «А зачѣмъ-же она выбѣгаетъ на встрѣчу мужа?»
Общаго разговора втроемъ у насъ не вышло, и она скрылась, сдавши меня съ рукъ на руки графу. Онъ разумѣется, увлекъ меня въ кабинетъ своихъ праотцевъ, съ очень неудобной мебелью, обитой мѣдными гвоздиками, и на этотъ разъ изливался до поздней иочи. Графиня не обманула меня. Онъ только того и ждалъ, чтобы я поддержалъ его въ либеральныхъ замыслахъ – стать рѣшительно на сторону власти и крестьянъ. Проникнуть поглубже въ его сіятельство я не захотѣлъ, потому что онъ собственно очень мало меня интересовалъ. Чувствовалъ я только, что онъ черезчуръ ужь меня ублажаетъ, словно ему хотѣлось войти мнѣ въ душу и сравняться со мной въ добродѣтели. Его тонъ напоминалъ мнѣ немного Мотю.
Стрѣчкова, хотя все это прикрывалось барскимъ неглиже. Я дѣйствовалъ по инструкціямъ графини, и когда онъ громко заявилъ, что «двухлѣтняя моя хуторская дѣятельность даетъ мнѣ право на болѣе крупную роль», я тутъ-же бухнулъ ему:
– Готовъ служить всякому честному дѣлу!
– А какое-же дѣло, восторженно вскричалъ онъ, честнѣе и выше теперь, какъ не освобожденіе милліоновъ?
«Хорошо ты, братецъ заряженъ», не безъ злобности подумалъ я, и на другой день считался уже «главноуправляющимъ» имѣніями его сіятельства. Графиня сказала мнѣ одно только слово, съ глазу на глазъ:
– Поздравляю.
XXX.
Все пошло, какъ по маслу. Черезъ недѣлю графъ и спалъ, и видѣлъ, какъ бы ему поскорѣе сдѣлаться вѣрнѣйшимъ исполнителемъ «воли, дарующей человѣческое достоинство милліонамъ». Онъ собрался въ губернскій городъ, а потомъ и въ Петербургъ, чтобы «ощупать почву». Я еще тогда замѣтилъ, что онъ смотрѣлъ на меня вовсе не какъ на молодаго мужчину, а какъ на добродѣтельнаго любомудра, не вылѣзающаго изъ управительской кожи. Его, дѣйствительно, тѣшило то, что такой «стоикъ» и «радикалъ», какъ я дѣлается, его сотрудникомъ, раздѣляетъ его великодушныя порыванія.
– Графиня такъ цѣнитъ ваши достоинства, чуть не каждый день повторилъ онъ мнѣ.
Графиня настаивала на томъ, чтобы я какъ можно скорѣе вступилъ въ исполненіе моихъ обязанностей и заключилъ съ графомъ формальное условіе. Онъ самъ мнѣ это предложилъ, но я хорошо видѣлъ, откуда идетъ его предложеніе. Условіе было написано на три года. Я получалъ по три тысячи рублей въ годъ жалованья. Графъ расчувствовался, когда я ему замѣтилъ, что это слишкомъ большое содержаніе. Моему надзору и руководительству онъ поручалъ не только техническую сторону всего своего хозяйства, но главнымъ образомъ «высшій распорядокъ», введеніе такого «режима» въ барщинскихъ и оброчныхъ имѣніяхъ, который бы «упреждалъ великое событіе». Его сіятельство не только на бумагѣ, но и на словахъ любилъ выражаться высокимъ слогомъ. Онъ далъ мнѣ полную довѣренность и просилъ, составить родъ проекта мѣръ, «упреждающихъ великое событіе», къ его возвращенію изъ Петербурга. Обсудивъ съ нимъ этотъ проектъ, я долженъ былъ начать объѣздъ всѣхъ имѣній. Конторскія бумаги и вѣдомости предоставлялись въ мое полное распоряженіе.
Мнѣ становилось совѣстно, глядя на то, какъ графъ увлекался моей личностью. Случаю угодно было, чтобы это увлеченіе поднялось еще на нѣсколько градусовъ.
День отъѣзда графа въ губернскій городъ былъ уже назначенъ. Передъ обѣдомъ, я пошелъ побродить съ ружьемъ въ ближайшихъ островкахъ, не подвернется-ли гдѣ бѣлячекъ – благо лѣсъ уже совсѣмъ почти оголился. Бѣлячка я не повстрѣчалъ, а подстрѣлилъ одну какую-то несчастненькую пичужку, такъ что совѣстно было и въ сумку класть. На возвратномъ пути проходилъ я мимо пруда, обставленнаго двумя рядами старыхъ кленовъ. Красножелтые листья густо покрывали выгорѣвшій дернъ. Осенній свѣтъ игралъ по сучьямъ деревьевъ, съ торчавшими кое-гдѣ листьями. Мѣстечко такъ показалось мнѣ, что я присѣлъ подъ единъ изъ кленовъ и закурилъ папиросу. У самаго пруда что-то бѣлолѣсь. Я воззрился по-охотничьи и увидѣлъ дочь графини – Наташу. Она гуляла съ гувернанткой; но миссъ поотстала, и ее чуть видно было изъ-за толстыхъ стволовъ.
Дѣвочка двигалась въ моемъ направленіи. Я ей поклонился. Она улыбнулась и, поравнявшись со мною, остановилась: на лицѣ ея я прочелъ и смущеніе, и желаніе заговорить.
– Васъ зовутъ Наташей? спросилъ я ее.
– Наташа, повторила она точно съ какимъ иностраннымъ акцентомъ.
– Правда-ли, продолжалъ я, разсматривая ея блѣдное, бѣлокурое, необычайно-мягкое личико, что вы меня полюбили?
Вопросъ этотъ вырвался у меня безъ всякаго приготовленія. Дѣвчурку мнѣ стало жаль. Я видѣлъ, что и здѣсь, въ деревнѣ, мать не была съ ней нѣжнѣе. Ея рѣзкое несходство съ нею еще разъ меня поразило.
Наташа вспыхнула: и уши, и за ушами – все покрылось алой краской.
– Да, прошептала она и стала ко мнѣ бокомъ.
– Ну, такъ будемъ друзьями, сказалъ я весело и взялъ ее за руку.
Она обернулась быстро. На большихъ ярко-голубыхъ глазахъ блистали двѣ слезинки. Я ее поцѣловалъ и чувствовалъ, какъ горячо ея губки прильнули къ моей мохнатой щекѣ. Ребенокъ размягчилъ меня чуть не до слезъ.
– Вы хорошій, шептала она, отдѣлившись отъ меня пугливымъ движеніемъ.
Я видѣлъ, что она затрудняется говорить по-русски.
– Васъ много учатъ? спросилъ я.
– Миссъ Уайтъ учитъ.
– А по-русски?
– Мама начала.
– Вы боитесь мамы?
– Да, прошептала она и даже поблѣднѣла.
Меня это непріятно кольнуло, и я воздержался отъ дальнѣйшихъ разспросовъ.
«А что бы тебѣ заняться съ ней?», промелькнуло въ моей головѣ.
– У меня станете учиться? вслухъ выговорилъ я.
– О, да! вздохнула радостно дѣвочка.
Я всталъ и подалъ ей руку. Мы пошли къ дому и у воротъ повстрѣчались съ графомъ.
Онъ издали видѣлъ насъ и особенно крѣпко пожалъ мнѣ руку, ни съ того съ сего.
– Вы друзья? спросилъ онъ, обращаясь къ намъ обоимъ.
– Да, смѣло вскричала Наташа и потянулась обнять графа.
Онъ поднялъ ее на руки и нѣсколько разъ горячо поцѣловалъ. Вѣтерокъ раздувалъ ея песочные локоны, щечки раскраснѣлись. Дѣвочка была прехорошенькая.
Подоспѣла англичанка и увела ее.
– Золотое у васъ сердце, сказалъ мнѣ графъ, съ дрожью въ головѣ. Ему какъ будто хотѣлось объ чемъ-то излиться, но надо было идти обѣдать.
Мы всѣ—и онъ, и я, и Наташа – присмирѣли, отправляясь предъ особу ея сіятельства.
XXXI.
Но отъѣздъ графа затянулся. Я не могъ понять, почему. Онъ каждое утро просилъ меня къ себѣ въ кабинетъ поздно, часовъ въ одиннадцать. Лицо его казалось мнѣ осунувшимся и голосъ слабѣе и хриплѣе обыкновеннаго. Я не считалъ умѣстнымъ разспрашивать его о здоровьѣ. Съ графиней я тоже не вдавался въ разговоры: дѣла по кочторѣ нашлось не мало, да и сама графиня не поощряла меня къ пріятельскимъ бесѣдамъ. Это даже коробило меня нѣсколько.
Хоромы въ Слободскомъ устроены съ такими же антресолями, какъ и графскій домъ на Садовой. Посрединѣ идетъ темный коридоръ, откуда витая, темная же, лѣстница поднималась въ мое помѣщеніе. Сойдя съ нея, налѣво, въ углу коридора, дверь ведетъ на площадку, отдѣляющую кабинетъ графа отъ спальной и уборной графини.
Я собрался совсѣмъ спать у себя наверху, проси дѣвъ долго надъ книжкой журнала. Въ домѣ всѣ ужь улеглись. Только изъ залы доносился тяжелый стукъ маятника въ старинныхъ часахъ, приставленныхъ къ углу.
Мнѣ захотѣлось испить квасу. У меня въ комнатѣ его не случилось. Задумалъ я спуститься тихонько внизъ, въ туфляхъ дойти до буфета и отыскать тамъ графинъ съ квасомъ. Я захватилъ съ собою спички и свѣчку; но зажечь ее сбирался только въ буфетѣ, чтобы не испугать кого свѣтомъ.
Спустился я, благополучно добрался до буфета, зажегъ тамъ свѣчу, открылъ шкафъ, досталъ графинъ съ квасомъ и, напившись, тѣмъ же путемъ двинулся назадъ, задувъ опять свѣчу.
Я уже добрелъ до столба витой лѣстницы и занесъ было ногу, какъ вдругъ изъ двери, ведущей на площадку, показался свѣтъ, и я ясно увидалъ двѣ фигуры на темномъ фонѣ стѣны. То, что я разсмотрѣлъ и о чемъ мгновенно догадался, такъ на меня подѣйствовало, что я, притаивъ дыханіе, совсѣмъ замерь и еще съ мчнуту не могъ двинуться послѣ того, какъ видѣніе уже скрылось.
Вотъ что я увидалъ: графиня, въ бѣломъ узкомъ пеньюарѣ, въ «убрусѣ» (какъ она потомъ называла его мнѣ), со свѣчей въ рукѣ, вела мужа своего нзъ кабинета въ спальню, поддерживая его подъ-мышки. Я говорю вела, но слѣдовало бы сказать: тащила. Графъ волочился, съ мертвеннымъ лицомъ, закатившимися глазами и волосами на лбу.
Сомнѣнія не могло быть никакого: графиня влекла мертвецки-пьянаго человѣка. Я водился съ испивающими товарищами, и ошибиться мнѣ было трудно.
Тутъ же, какъ только я сказалъ самъ себѣ, что онъ безчувственно пьянъ, я сейчасъ и припомнилъ все: и случай на хуторѣ, и встрѣчу въ передней московскаго дома, и наконецъ этотъ болѣзненный видъ и позднее вставанье за послѣдніе пять-шесть дней. Не жалость, а злорадство, брезгливость, надменное омерзѣніе овладѣли мной, какъ только прошелъ первый моментъ изумленія. Вторая моя мысль обратилась къ ней. Ея образъ строгій, прекрасный, съ печатью скорби, пронесся предо мной опять совершенно такъ, какъ онъ прошелъ мимо меня по площадкѣ къ рамкѣ узкой коридорной двери. Я, взобравшись къ себѣ наверхъ, всплеснулъ руками и съ умиленіемъ прошепталъ:
– Святая мученица!
Я бросился бы къ ея ногамъ, еслибъ она стояла предо мною. И какъ я грозно каралъ самого себя, вспомнивъ, что кинулъ ей прямо въ глаза дерзкій, нахальный намекъ. Она, навѣрно, помнила просьбу: перевести поточнѣе французскую фразу: femme à crime. Не подозрѣвать ее, а преклоняться передъ ея горемъ, передъ гордой нравственной мукой, передъ тайнымъ униженіемъ, которымъ отравляется ея супружеская жизнь – вотъ что я долженъ былъ дѣлать.
И всѣмъ этимъ я преисполнился за одну ночь. Сходя утромъ внизъ, я чувствовалъ въ себѣ не безсловеснаго раба ея, но благоговѣйнаго союзника, страдающаго за нее каждымъ біеніемъ своего пульса. Не будь у меня никакой иной цѣли, я только для того остался бы въ этомъ домѣ, чтобы охранять ее, чтобы быть всегда наготовѣ броситься туда, куда она прикажетъ.
Цѣлый день я молчалъ и всматривался исподлобья въ то, что творилось вокругъ меня. Графъ показался только къ обѣду. Она была невозмутима, и я не смѣлъ глядѣть на нее пристально. На весь вечеръ я ушелъ въ контору и ночью жадно прислушивался къ малѣйшему шуму; но ничто не шелохнулось внизу, на площадкѣ.
Когда, на слѣдующій день, графъ позвалъ меня къ себѣ въ кабинетъ, я съ замѣтной брезгливостью подалъ ему руку и много-много процѣдилъ два-три слова; а онъ разглагольствовалъ битыхъ три часа, вводя меня въ свои высшія идеи. Я несказанно обрадовался одному: услыхалъ изъ устъ его сіятельства, что отъѣздъ его назначенъ черезъ два дня безотлагательно.
Чрезъ два дня онъ дѣйствительно уѣхалъ.
XXXII.
Мы очутились вдвоемъ. Я съ трудомъ скрывалъ свою радость. Должно быть, лицо мое такъ неприлично сіяло, что графиня въ первое же послѣ-обѣда замѣтила мнѣ:
– Погода начала хмуриться, но это на васъ нисколько не дѣйствуетъ!.. Завидный у васъ характеръ, Николай Иванычъ!
Мы бесѣдовали въ боскетной. Эта древняя хоромина замѣнила графинѣ ея голубую комнату на Садовой.
Тутъ только я дерзнулъ взглянуть на нее. Въ моемъ взглядѣ она, навѣрно, прочла все мое безпредѣльное преклоненіе передъ ея личностью, все сочувствіе ея тайному горю, внезапно открытому мною.
Она тоже поглядѣла на меня какъ будто строго; но въ ея зеленыхъ, глубокихъ глазахъ я прочелъ не строгость, а что-то, бросившее меня въ краску. (Краснѣть я и теперь еще не отучился совсѣмъ.)
– Вы ужь подружились съ Наташей? вдругъ спросила она.
– Не знаю какъ она, графиня, выговорилъ я глуповатымъ тономъ, но я бы очень хотѣлъ попасть въ ея друзья: она такая славная у васъ.
Чуть-замѣтная гримаса проскользнула по ея губамъ.
– Ее бы надо учить русской грамотѣ, да у меня терпѣнья нѣтъ, небрежно промолвила она.
– У васъ-то?! вскричалъ я невольно.
Она улыбнулась и отвѣтила съ удареніемъ:
– На другое найдется, но на это нѣтъ.
– Что-жь, графиня, обрадовался я, мнѣ приводилось не разъ учительствовать, терпѣнье у меня есть… вы бы меня осчастливили…
– Слишкомъ что-то сладко, Николай Иванычъ, счастье небольшое: моя дочь, кажется, не съ очень быстрой головой… Начните, если у васъ достанетъ времени.
И тотчасъ же она перешла къ дѣловой темѣ, какъ бы желая показать мнѣ, что не слѣдуетъ забывать про главную цѣль, стоящую выше всякихъ Наташъ.
Она мнѣ сообщила, что графъ уѣхалъ, совершенно довольный мною, и готовъ безусловно одобрить всѣ мои распоряженія.
Пришлось докладывать ей, какъ я думаю повести дѣло постепеннаго уничтоженія барщины и подготовлять крестьянскую общину къ волѣ и пользованію земельными угодьями. Я не побоялся даже сразу закинуть надежду, что, быть можетъ, графъ подаритъ имъ кое-какую землицу не въ счетъ выкупа, о которомъ тогда уже толковали, а то такъ и просто откажется отъ выкупа.
– Приведите его къ этому, сказала графиня сдержанно, что-нибудь онъ сдѣлаетъ. Я не-прочь подѣлиться съ крестьянами въ моихъ имѣньяхъ.
Я вопросительно поглядѣлъ на нее.
– Вамъ извѣстно, Николай Иванычъ, что графъ поручилъ вамъ только свои имѣнья. Я въ сторонѣ. Мнѣ, какъ вашей союзницѣ, не пристало пользоваться вашими услугами. Но все, что вы сдѣлаете, какъ распорядитель имѣній графа, то пригодится и моимъ крестьянамъ.
Я тогда не совсѣмъ понялъ эту деликатность; но полный смыслъ ея словъ вскорѣ открылся.
Мое главноуправительство получило для меня двойную цѣну: идти прямымъ путемъ къ самой лучшей цѣли, какую только могъ имѣть человѣкъ въ моемъ положеніи, и сближаться этимъ самымъ съ женщиной, предъ которой я такъ всепѣло преклонялся.
Вечеромъ того же дня, возвращаясь изъ конторы, я остановился въ коридорѣ передъ дверью въ залу. Оттуда неслись звуки рояля. Играла графиня. Въ Москвѣ я ни разу не слыхалъ ея игры, не обращалъ даже никакого вниманія на инструментъ, стоявшій въ залѣ. Музыка была для меня до той минуты terra incognita, а порыванія къ ней таились во мнѣ, даже въ предѣлахъ моего убогаго пѣвчества.
На цыпочкахъ вошелъ я и прислонился въ стѣнѣ, за печкой, бросавшей длинную тѣнь на полъ полуосвѣщенной залы. Звуки, выходившіе изъ-подъ пальцевъ графини, защекотали меня неиспытаннымъ еще ощущеніемъ. Въ нихъ было что-то милое, игривое, точно какой задушевный разговоръ, прерываемый шуткой и тихимъ смѣхомъ, гдѣ-нибудь въ уютномъ уголку, зимнимъ или осеннимъ вечеромъ. Пьеса скоро оборвалась. Графиня перевернула листъ тетради, сдѣлала небольшую паузу и заиграла совсѣмъ другое, – тихое, широкое, уносившееся неизвѣстно куда, безконечную какую-то грезу, въ которой звуки переливались чуть слышно и тонули въ дрожаніи неопредѣленныхъ и сладкихъ отголосковъ.
У меня защемило на сердцѣ, и небывалый слезы выступили нежданно-негаданно на глазахъ. Я закрылъ ихъ. Смолкли звуки и больше не возобновлялись.
– Кто тамъ? окликнулъ меня знакомый голосъ, отъ котораго я чувствовалъ каждый разъ внутреннюю дрожь.
Я вышелъ изъ своего теинаго угла.
– Это вы, Николай Иванычъ? Какъ притаились! Вы охотникъ до музыки?
На эти вопросы я только отвѣтилъ:
– Что вы такое играли, графиня?
– Это – Шуманъ.
Для меня имя Шумана было тогда – пустой звукъ.
– А самая-то пьеса, что такое?
– Первая называется «am Kamin» – у камина.
– Такъ и есть! обрадовался я заглавію.
– А вторая называется «Träumerei.»
– Грезы, перевелъ я вслухъ.
– Вы по-нѣмецки знаете?
– Маракую.
Съ чистосердечіемъ ребенка сознался я графинѣ, что въ музыкѣ – круглый невѣжда; а теперь увидалъ, какъ она на меня сильно дѣйствуетъ. Не скрылъ я ей и комическаго эпизода моего пѣвчества.
XXXIII.
Пѣніе повело за собою и другіе уроки. Графиня нашла, что мнѣ слѣдуетъ познакомиться съ итальянскимъ языкомъ, хоть настолько, чтобы читать тексты романсовъ и аріи. За итальянскимъ пошелъ и французскій. Меня заставили прочитать вслухъ нѣсколько строкъ изъ какого-то романа. Произношеніе у меня было убійственное. Я выговаривалъ почти всѣ буквы словъ и съ носовыми звуками, въ родѣ «on», никакъ не могъ совладать. По учительница моя съ невозмутимымъ лицомъ поправляла меня и доказывала, что я до тѣхъ поръ не выучусь порядочно языку, пока не образую свой слухъ.
Я долженъ былъ съ ней безусловно согласиться.
Наташа оказалась совсѣмъ не такая тупица, какъ предваряла меня графиня. При урокахъ моихъ обыкновенно присутствовала и миссъ Уайтъ. Она тоже пожелала заниматься со мною по-англійски, должно быть по распоряженію графини. По крайней мѣрѣ главная моя учительница, проэкзаменовавъ меня по части англійской литературы, въ которой я оказался крайне невѣжественъ, заявила то мнѣніе, что учиться языку никогда не поздно. Я и съ этимъ согласился.
Всѣ мои вечера были биткомъ набиты уроками, какъ у самаго прилежнаго школьника; утромъ я училъ Наташу и съ полудня до обѣда сндѣлъ въ конторѣ. Съ графиней мы проводили цѣлые вечера; но я ея все-таки не видалъ. Со мной занималась старшая сестра-воспитательница, показывающая мнѣ азы; но женщина, мать, жена, чувствующее и страдающее существо не открывалось мнѣ ни въ одномъ звукѣ, ни въ одномъ жестѣ, ни въ одномъ намекѣ.
Черезъ недѣлю я задыхался отъ этой жизни съ глазу на глазъ, гдѣ все время шло на обученіе меня пѣнію и французскому прононсу. Каждую ночь я, ворочаясь въ постели, спрашивалъ съ плачемъ въ голосѣ:
«Ho зачѣмъ же эта женщина затаиваетъ такъ свое горе и униженіе? Къ чему эти молчаливыя, гордыя страданія? Развѣ бы ея не было легче, еслибъ она хоть однимъ словомъ приблизила къ себѣ человѣка, которыя чуть не молится на нее?»
Потомъ я упрекалъ самого себя въ тупости, въ неумѣніи обращаться къ нея съ живою рѣчью, затронуть въ нея симпатичную струну. Но упреки эти ни къ чему не вели. Она такъ наполняла всѣ семь часовъ осенняго вечера, что было бы совсѣмъ некстати прерывать наши занятія какимъ-нибудь постороннимъ вопросомъ. Отъ графа писемъ не приходило, стало-быть и этотъ сюжетъ не стоялъ еще на очереди.
Наступилъ восьмой день нашего уединеннаго житья въ слободскихъ хоромахъ. Только-что кончился урокъ итальянскаго чтенія. Графиня пошла въ залу черезъ темную гостиную, а я остался въ боскетной, гдѣ тускло горѣла лампа подъ абажуромъ. Мнѣ слѣдовала двинуться за учительницей, такъ какъ должны были начаться мои вокальныя упражненія, но я не шелъ. Я сидѣлъ на жесткомъ старинномъ диванчикѣ, свѣсивъ голову и кусая ногти: признакъ высшаго душевнаго разстройства моей деревянной особы. Въ залѣ раздались раскаты аккордовъ. Проиграна была цѣлая прелюдія, а я все не двигался.
Меня окликнули изъ залы. Я не двигался.
Это не было озорство или предумышленная тактика – нѣтъ: я слишкомъ преклонялся тогда передъ графиней. Но я рѣшительно не могъ идти въ залу, становиться за ея табуретомъ и начинать голосить: ре-ми-фа-ре-соль-си-ля!
Раздались шаги и шелестъ платья. Я не поднималъ головы. Съ порога меня спросили:
– Что съ вами, Николай Иванычъ? Вы развѣ забыли про урокъ?
Я молчалъ, и только длинная борода моя вздрагивала на груди отъ тяжелаго и учащеннаго дыханія.
– Что съ вами? повторила она, подходя къ диванчику и вглядываясь въ мое лицо. Вамъ дурно?
– Простите, графиня, выговорилъ я полушепотомъ, я этакъ не могу.
– Не можете – чего? изумленно переспросила она.
– Вы страдаете, заговорилъ я тверже, поднимая голову; я знаю, какова ваша доля. Конечно, я не стою еще вашего довѣрія; но я не хочу и васъ обманывать.
Она вся вздрогнула и стремительно перебила меня:
– Я вамъ очень довѣряю, Николай Иванычъ. Развѣ вы не видите, какъ мы съ вами скоро сошлись? Я знаю, – у меня сухая манера; но вы не обращайте на нее вниманія, – прошу васъ.
Въ голосѣ заслышались почти нѣжные звуки. Я испугался своей выходки, но настолько овладѣлъ собою, что всталъ и совершенно твердо выговорилъ:
– Есть такія минуты, графиня, когда самый прилежный ученикъ оттягиваетъ часъ урока, – извините меня.
Она ничего не отвѣтила и только пристально поглядѣла на меня. Я выдержалъ этотъ взглядъ: въ немъ я ничего не прочелъ.
Весь урокъ пѣнія она не промолвила ни слова.
XXXIV.
Слѣдующіе два дня прошли очень напряженно. Графиня обходилась со мною все такъ же, но я чувствовалъ себя виновнымъ. Оправдываться я не сталъ. Сцена въ боскетной вышла, по-моему, такъ нелѣпа, что лучше было и не намекать на нее.
На третій день, графиня не явилась къ обѣду; прислала сказать горничную, что у ней болитъ голова, но что «если мнѣ угодно», то я могу придти заниматься в ъя уборную.
Если мнѣ угодно!.. мнѣ и за обѣдомъ-то кусокъ не шелъ въ горло, хотя Наташа занимала меня своей милой болтовней, а англичанка старательно переводила мнѣ по-англійски каждое названіе кушаній и каждую вещь на столѣ. Горничную я тотчасъ же попросилъ доложить ея сіятельству, что я боюсь ее утомить, но явлюсь, съ ея позволенія, узнать о здоровьѣ.








