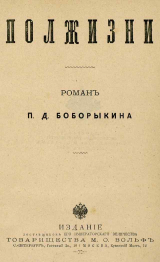
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Петр Боборыкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
КНИГА ПЕРВАЯ
Личные итоги.
I.
Графиня такъ кончаетъ:
«Довольно вамъ, мѣдвѣжатникъ, сидѣть въ своей берлогѣ. Лѣтомъ вы должны двинуться. Можете даже и раньше. Я собираюсь на воды. – И вамъ бы немного полѣчиться… отъ суровой морали и разныхъ другихъ недуговъ. Вы знаете теперь, какъ мы съ Колей живемъ здѣсь. – Въ моихъ письмахъ все можно найти, хотя я и рѣдко пишу, а въ вашихъ ничего не видно. Наташу вы неумѣренно расхваливаете. Не къ лицу намъ съ вами такая сантиментальность.
«Ну, прощайте же. Жму вашу руку и прилагаю свою старую физіономію, сдѣланную весьма курьезнымъ фотографомъ Анджьолини. Вообразите: онъ, вмѣсто солнечнаго свѣта, пускаетъ въ дѣло стеариновую свѣчу.
«Ваша В»
Поѣду-ли я? Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы не бѣгать отъ жизни? Теперь я врядъ-ли чего боюсь и въ прошломъ, и въ будущемъ.
Оставшись безъ нихъ одинъ, я совсѣмъ застылъ, и сдается мнѣ, что въ эту-то минуту и надо бы начать подводить итоги, хоть для памяти, на всякій случай, коли не для болѣе возвышенныхъ цѣлей.
II.
Будь я сочинитель, я бы уже началъ заѣдать чей-нибудь чужой вѣкъ. Гдѣ-то читалъ я, что средняя жизнь русскаго сочинителя—35 лѣтъ; а мнѣ,—вотъ уже второй мѣсяцъ пошелъ, какъ стукнуло цѣлыхъ тридцать шесть. Подбираюсь къ сорока годамъ; а тяжести ихъ все еще не чувствую, точно будто съ юныхъ лѣтъ водплъ мазурки на балахъ, и ничего иного не испытывалъ, кромѣ пріятной испарины.
Оттого, что живу-то я, что называется живу – не больше десяти-двѣнадцати лѣтъ. И какой же я былъ вьюнецъ, когда у меня за плечами уже сидѣла четверть вѣка! Пріятно даже вспомнить..
А между тѣмъ, всегда я былъ старше возраста. Отецъ продержалъ меня цѣлыхъ три года въ приходскомъ училищѣ, и въ уѣздное попалъ я уже куда какимъ верзилой, первымъ силачемъ считался и по наукамъ угодилъ бы во второй классъ: да родительская воля изрекла свое самодержавное слово, и засѣлъ я въ первый, чуть не за букварь. Такъ первымъ ученикомъ и просидѣлъ три года. Послѣ того и въ гимназіи-то такимъ же точно манеромъ. Первокласники были – мелюзга-мелюзгой; а я и рожей, и складомъ смахивалъ чуть не на «богослова» изъ семинаріи. Ну, да тутъ особая причина была: латыни не зналъ. Такъ я и студентомъ-то очутился опять-таки на возрастѣ, лѣтъ двадцати безъ малаго. Одно слово – не торопился и успѣлъ-таки вобрать въ себя всякую казенщину. Отъ меня за три версты отдавало гимназистомъ. Это, въ мое время, особый былъ запахъ: онъ и въ университетѣ не пропадалъ совсѣмъ-то.
По «недостаточности» попалъ я на второмъ же курсѣ въ пѣвчіе, хотя басу у меня никакого и въ поминѣ не было, а фигура только имѣлась басистая.
И вотъ какъ это вышло: въ казенныя я угодить не могъ потому, что факультетъ выбралъ дворянскій… въ камералисты пошелъ. Тогда этотъ разрядъ былъ вновѣ. Сдѣлалъ я такъ изъ форсу, а думалось мнѣ въ ту пору, что не всѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, въ лекаря идти, надо кому-нибудь и хозяйствомъ заниматься, благо у насъ, на Руси, земля обильная. Ну, и поступилъ въ «камералы», какъ ихъ въ шуточку называли и медики, и юристы. Между своими-то я смотрѣлъ, опять-таки, богословомъ, который перешелъ ужь и «великовозрастіе», какъ семинаристы говорятъ. А камералисты были всѣ жиденькіе, малолѣтки, франтики, въ тоненькихъ въ обтяжку штанишкахъ, въ золотыхъ очкахъ, сюртукахъ ниже колѣнъ (такая тогда офицерская мода была), съ красной подкладкой подъ рукавами; совсѣмъ убогій народецъ по части «занятій», какъ говорятъ гимназисты.
Немудрено, что между ними я сталъ выше всѣхъ головой, и въ прямомъ, и въ переносномъ смыслѣ. И программа-то перваго курса подходила подъ калибръ слушателей. Всего два главныхъ предмета стояло въ ней; а остальное – такъ, всякое дрянцо: французскому языку даже опять чуть не съ азовъ обучали. Сдалъ я экзаменъ. «на пять съ плюсомъ». Инспекторъ замѣтилъ меня. Тогда такіе порядки были, что передъ инспекторомъ велѣно было на улицѣ стоять безъ фуражки въ будни, и съ рукой у кокарды треуголки – въ праздничные дни. И мнѣ приводилось такъ вытягиваться. Должно быть эта «свинья въ ермолкѣ», какъ его звали студенты, осталась отмѣнно довольна моимъ внушительнымъ и вмѣстѣ благонамѣреннымъ видомъ, больше, я полагаю, чѣмъ плюсами моего перваго экзамена.
Говоритъ онъ мнѣ съ благосклонностью, отпуская на вакацію:
– Вы не имѣете казеннаго обѣда?
– Нѣтъ, отвѣчаю.
– Нѣтъ ли у васъ голоса?
– Не пробовалъ.
– Поступайте въ пѣвчіе: они пользуются квартирой… и столомъ, во вниманіе къ успѣхамъ и хорошему поведенію…
Мнѣ это было на-руку.
III.
Первый годъ я, съ свидѣтельствомъ о бѣдности, пробился на сто-двадцать серебряныхъ рублей, предоставленныхъ мнѣ родителемъ. Попробовалъ искать уроковъ; но по необщительности ли характера, или потому, что много было въ городѣ и безъ меня охотниковъ получать купеческіе и чиновничьи полтинники – ничего я на первомъ курсѣ не нашелъ.
Дома, на вакаціи, мнѣ просто зазорно стало отцовскихъ денегъ. Онъ, по родительскому самодовольству, лѣзъ изъ кожи, сколачивая мнѣ сто-рублевую стипендію. А у него отъ мачихи родился третій бутузъ; да моихъ «единоутробныхъ» было цѣлыхъ пять штукъ. Жалованья магистратскому секретарю въ уѣздномъ городѣ, хоть и съ «благодарностями», на такую ораву не хватитъ.
За пѣвчество я и схватился обѣими руками, сталъ сейчасъ же у соборнаго регента нотамъ учиться и на скрипицѣ пилить, чтобы хоть слухъ-то свой немного оболванить.
– Вытяну-ли я хоть что-нибудь? спрашивалъ я неоднократно у регента.
– Больше вы, сударь, желудкомъ забираете; но когда нотамъ обучитесь, то, можетъ статься, и октаву себѣ нагудите.
Ну, я и нагудѣлъ.
Когда, по пріѣздѣ съ вакацій, явился я къ университетскому регенту, коренастенькому медику-четверокурснику, изъ семинаристовъ, онъ, испробовавъ меня, сейчасъ же безъ запинки и выговорилъ:
– Весьма удовлетворительно-съ для второй октавы.
«Вторую октаву» помѣстили на государственные харчи въ пѣвческой комнатѣ и предоставили ей, кромѣ того, обѣдъ за студенческимъ столомъ, казенную баню и казеннаго цирюльника.
Пѣвчіе въ то время жили въ университетскомъ зданіи особнякомъ, «съ прохладцей», какъ про нихъ выражались студенческіе дядьки. И въ самомъ дѣлѣ имъ было житье. Инспекторъ, по разъ заведенному обычаю, имъ покровительствовалъ, а стало быть и экономъ ублажалъ ихъ. Мерзостный былъ это человѣчишко, но такъ и лѣзъ намъ въ душу, завтраками угощалъ въ «двунадесятые» праздники, пуншами поилъ, доставлялъ на иодержаніе казенные мундиры, даже въ комнатахъ приказывалъ не смолкой, а аптекарскимъ порошкомъ курить. Дишканты и альты набирались у насъ изъ учениковъ уѣзднаго училища. Такъ и ихъ экономъ всячески ласкалъ, точно они были подъ особымъ благоволеніемъ начальства.
Пѣвчему студенту жилось совсѣмъ не такъ, какъ казенному: онъ не зналъ помощниковъ инспектора, приходилъ ночью, когда хотѣлъ, спалъ у себя въ комнатѣ, а не въ общихъ спальняхъ, сидѣлъ дома въ халатѣ, а не въ вицъ-мундирѣ, въ церковь шелъ въ» разстегнутомъ мундирѣ, безъ шпаги и шляпы. И на всякія его провинности смотрѣли сквозь пальцы. Поэтому казевные насъ и не долюбливали, считали даже ябедниками и чуть не «тайными іезуитами», во всякомъ случаѣ «ханжами» и «семинарскимъ отребьемъ».
А на самомъ-то дѣлѣ я нашелъ въ своей комнатѣ четверыхъ такихъ же ябедниковъ и ханжей, какимъ и я былъ. Двое изъ нихъ дѣйствительно были семинаристы. Во второй комнатѣ жилъ регентъ и два тенора: онъ семинаристъ – они изъ гимназіи. Наша «басовая» комната зажила очень дружно. Въ семинаристахъ я распозналъ сразу двухъ кряжей, «зубрилъ-мучениковъ», но не тупицъ и не пошляковъ. Ужь коли семинаристъ, безъ гроша въ карманѣ, добьется университета – въ немъ побольше пороху, чѣмъ въ любомъ первомъ ученикѣ гимназіи. Мы сходились туго; но никакого вздору, забіячества, фанфаронства у насъ и въ поминѣ не было. Когда же приглядѣлись, то стали другъ друга подталкивать.
IV.
Каждый изъ насъ уже созналъ тогда, съ какимъ головнымъ убожествомъ «отмахали» мы нашъ университетскій вступительный экзаменъ. Хвалиться другъ передъ другомъ было рѣшительно нечѣмъ: одинъ ругалъ семинарію, другой гимназію – большаго разнообразія въ выводахъ не замѣчалось. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ вспомнить: какз и чему насъ учили, и, право, чудно становится, что мы еще вышли кое-какъ грамотнымъ народомъ. Я, напримѣръ, въ гимназіи не сходилъ съ перваго мѣста первой «парты», и въ моей студенческой конторкѣ лежалъ футляръ съ золотой медалью, выданной: «преуспѣвающему». Но въ чемъ же я преуспѣлъ двадцати безъ малаго лѣтъ отъ роду? Кромѣ тупыхъ учебниковъ и русскихъ «образцовыхъ» писателей, я почти-что ничего не читалъ. Книги, въ родѣ «Космоса», рѣдко попадали въ наши руки изъ рукъ учительскихъ, а брать журналы въ единственной городской «библіотекѣ для чтенія» было не на что. Подъ литературными впечатлѣніями того, что перепадало иногда отъ знакомыхъ и товарищей, и начала голова немного работать. Въ то время «Отечественный Записки» и «Современника для чтенія гимназистамъ не выдавались; и это не очень давно, всего какихъ-нибудь двадцать лѣтъ. Я еще куда не старикъ, а при такихъ-порядкахъ учился. Объ какихъ же нибудь стремленіяхъ, гражданскихъ чувствахъ, смѣломъ протестѣ, серьезности труда и уваженіи личности – смѣху подобно и говорить! У насъ инспекторъ товарища моего, изъ шестаго класса, такого же «вѣликовозрастнаго», какъ и я, поставилъ въ соборной на колѣна, передъ цѣлой гимназіей и, ходя мимо взадъ и впередъ мелкими шажками, плевалъ на полъ вокругъ него, а потомъ заставлялъ его ладонью вытирать на полу. И за что? За то, что онъ «обидѣлъ» какого-то барченка изъ втораго класса, т.-е. просто пихнулъ его, чтобы тотъ не приставалъ и не кричалъ ему (его звали Макаръ Сусликовъ):
«Ѣхалъ отецъ Макарій
«На кобылѣ карой!
Сусликовъ былъ изъ цеховыхь и не ушелъ отъ солдатства, по неимѣнію увольнительнаго свидѣтельства.
Такъ какія же тутъ «гражданскія идеи?» Накоплялась только злость въ тѣхъ, кто покрѣпче, а остальные привыкали ко всему, и въ головахъ ихъ дули вѣтры полнѣйшаго безмыслія. Мнѣ же, какь «старшему», въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ приходилось держать себя въ какомъ-то казеиномъ футлярѣ. Такую я себѣ физію суровую состроилъ, да такъ и остался съ нею, точно затѣмъ, чтобы гудѣть впослѣдствіи «вторую октаву». Кто попадаетъ волей-неволей въ первые ученики – знаетъ, что отъ этого счастья остается-таки осадочекъ въ характерѣ. Стоишь ты особнякомъ, чтобы тебѣ не ябедничали, или зря не задирали тебя. Въ маленькихъ классахъ не мудрено привыкнуть давать волю рукамъ, а въ старшихъ приходится отгрызаться отъ остряковъ, прозывающихъ тебя: «старшой».
Такъ вотъ съ какимъ чемоданомъ всякаго развитія водворился я въ пѣвческой комнатѣ, перешагнувши во второй курсъ. Первый годъ я только присматривался, училъ лекціи, рѣшилъ со втораго курса заняться вплотную химіей – безъ нея какой же бы я быль техникъ и агрономъ? – и, увидѣвъ отсутствіе русскихъ учебниковъ, принялся за французскіе и нѣмецкіе азы. Въ гимназіи и первому ученику нельзя было, хоть какъ ни на есть, мараковать по новымъ языкамъ.
Случилось такъ, что остальные мои сожители были: одинъ филологъ, другой медикъ, третій естественникъ, четвертый юристъ. Понятно, каждый о своемъ говорилъ; читалъ вслухъ лекціи, разсказывалъ про то, что его особенно возбудило, хвалилъ или «обзывалъ» профессоровъ. Началось незамѣтно взаимное обученіе, въ родѣ ланкастерскаго. Взяло свое и чтеніе.
Помню, – былъ часъ пятый. Стояли въ нашей комнатѣ полусумерки поздней осени. Кто-то посапывалъ на кровати, уписавши двѣ тарелки щей и большущій, но таки порядочно безвкусный казенный пирогъ «съ леверомъ». Изъ другаго угла раздавались басовыя рулады:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-о-о!
А потомъ тихимъ густымъ шепотомъ:
Снишелъ еси въ преисподнюю земли! – я сокрушилъ еси вереи вѣчныя.
Я только-что вернулся изъ лабораторіи, гдѣ уже работалъ каждый день. Зажегъ я сальную свѣчу (лампы не полагалось) и пошелъ зачѣмъ-то къ конторкѣ сожителя моего – филолога. Онъ отличался, кромѣ необычайной памяти (выучилъ наизусть лексиконъ Кронеберга), удивительной каллиграфіей и списывалъ цѣлыя книги собственноручно. Его не было дома. Вижу – лежитъ на конторкѣ какая-то рукописная тетрадь. Заглавный листокъ разрисованъ всякими росчерками. Вычурными красивыми буквами выведено: «С того берега». Я развернулъ первую страницу, посмотрѣлъ потомъ подпись автора, да такъ и просидѣлъ до десяти часовъ, пока всего не кончилъ. Вокругъ меня ходили, изъ сосѣдней пѣвческой раздавались возгласы регента, обучавшего мальчиковъ, кто то звалъ меня куда-то, – я ничего не видалъ и не слыхалъ, забылъ про чай и про куренье. Голова все разгоралась, въ виски било, страницы мелькали, дыханіе спиралось нѣсколько разъ. Потомъ это бурное волненіе смѣнилось какимъ-то небывалымъ холодомъ, легкой нервной дрожью по спинѣ и какъ-бы стягиваніемъ кожи наголовѣ… Послѣ я узналъ, что это рефлекторные признаки великаго умственнаго наслажденія…
– Экъ вы зачитались! разбудилъ меня надъ тетрадкой филологъ, именно разбудил, потому что я былъ точно въ забытьи.
– Откуда у васъ это? опросилъ я его, чуть не дрожащимъ голосомъ.
– Вонъ вы чего куснули… и я-то хорошъ гусь тоже… ушелъ, да и оставилъ на конторкѣ такую тетрадь… вы, небось, видали чья?
– Видел, видел…
– Мнѣ ее на подержанье дали. Я ночи въ двѣ перепишу….хорошо еще, что вамъ попалась на глаза; а тотутъ къ намъ всякій народъ шляется… надо опаску имѣть.
«Тетрадь» озарила меня.
V.
Филологъ переписалъ ее. Я у него купилъ экземпляръ за два серебряныхъ рубля. И когда я вспомнилъ, что та же подпись, какую я нашелъ подъ тетрадью, принадлежала автору «Кто виноватъ» и «Записокъ доктора Крупова» – я кинулся въ университетскую библіотеку. Гимназистомъ я читалъ Крупова, читалъ и романъ; но такъ, зря, не понимая того, что тогда не договаривалъ авторъ. Въ университетской библіотекѣ журналовъ, запрещенныхъ для гимназистовъ, не выдавали и студентамъ. Но я досталъ все, что можно было – достать и печатнаго и рукописнаго… Весь второй курсъ прошелъ у меня, какъ продолженіе того вечера, когда я увидалъ красивыя фигурныя слова: «Съ того берега». Никогда потомъ, на протяженіи всего моего житейскаго маячанья, всей моей умственности, не испытывалъ я такого мозговаго толчка: точно подвели меня къ сильнѣйшей батареѣ и пустили въ обѣ руки весь зарядъ элекрнчества. Ни лекціи Фейербаха, добытыя въ студенческое – же время въ литографированныхъ листкахъ, ни лиловая книжка Бюхнера, ни томы Бокля, ни Милль, ни Спенсеръ, ни Прудонъ, ни «Система» Конта – ничто уже не потрясало такъ. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ продѣлывалось «подведеніе къ одному знаменателю» всего, что я прочелъ, пережилъ и передумалъ; но завѣса разодрана была у конторки пѣвческой комнаты.
Въ пѣвческой комнатѣ можно было все-таки задохнуться безъ такого удара. Университетъ никуда впередъ не тянулъ, кромѣ окончанія курса, а за нимъ какихъ-нибудь харчей повкуснѣе. Наука совсѣмъ и не выдѣлялась изъ-за мелкихъ клѣтокъ студенческихъ занятія; въ массѣ товарищей – мальчишество, пустой задоръ, сдаванье экзаменовъ, а то – такъ безпробудное шелопайничанье, ухарство и пьянство…
Какъ-же «стихійнымъ-то силамъ» было всего удобнѣе прорываться? У кого-же было общество, у кого были впечатлѣнія, дающія встряску, или очищающія тебя отъ казенщины гимназиста?.. Человѣкъ десять барчуковъ изъ моихъ камераловъ ѣздили къ губернаторшѣ и въ «хорошіе» дома. Остальная братія пробавлялась кое-чѣмъ, или промежду собою убивала время въ запойномъ кутежѣ. Да чего, – у насъ, въ пѣвческой, были ребята все степенные, народъ работящій и бѣдный, безъ всякихъ барскихъ нарываній къ разнымъ нѣжностямъ, а ихъ брала-же хандра сѣраго житьишка, и имъ хотѣлось чѣмъ-нибудь встряхнуть себя. Чѣмъ-же? Извѣстно чѣмъ: посылался «унтеръ» за четырьмя бутылками мѣстной откупной наливки и двумя полуштофами горько-шпанской, и производилась попойка. Зачѣмъ? Такъ… требовали того нервы. Другую реакцію отыскать было черезъ-чуръ трудно для нашего брата. Дѣлалось это ни съ того, ни съ сего, въ какіе-нибудь неподходящіе часы, иногда даже утромъ часто при полномъ безденежьи. И никто не протестовалъ противъ того, что «выпить нужно». Это чувствовалось всѣми, точно было оно въ воздухѣ, точно забиралось въ кости, въ мышцы, какъ ломота и ревматизмъ. Принесутъ бутылки и полштофы, сядутъ въ кружокъ, примостившись къ какой-нибудь кровати, пойдетъ осушеніе стаканчиковъ; потомъ, когда заберетъ всѣхъ, начнется болтовня, слюнявая или бранчивая, цѣлуемся или чуть не деремся, а то такъ запоемъ что-нибудь, иной разъ и «партесное». Если случится подъ вечеръ, особливо зимой, то на послѣднія деньжонки – трое татарскихъ пошевней, и валяй за рѣку Булакъ!.. про которую сложена была пѣсня…
Тамъ, въ одной «избушкѣ на курьихъ ножкахъ», я уже въ концѣ третьяго курса чуть не очутился Гоголевскимъ художникомъ изъ «Невскаго проспекта». Женщинъ я другихъ, кромѣ забулачныхъ, не зналъ. Ну, прокралась вдругъ какая-то жалость. Я не на шутку струхнулъ! Переломить себя было такъ трудно, что я хотѣлъ лечь въ больницу; но переломиль-таки и безъ больничнаго халата. И съ тѣхъ поръ зажилъ уже совсѣмъ монахомъ.
Такъ вотъ въ какихъ «волнахъ жизни» купались мы. А никто изъ нашей пѣвческой комнаты не вышелъ ни пьяницей, ни развратникомъ.
VI.
Сошелся со мной изъ моихъ однокурсниковъ нѣкій Стрѣчковъ, матушкинъ сынокъ, сонный, придурковатый; но хорошій степнячекъ. Такъ онъ ко мнѣ, что называется, и прплипъ: больно ужь онъ меня уважалъ за мою ученость. Я объ эту пору считался не только у камераловъ, но и у естественниковъ, первымъ химикомъ и взялся писать на медаль кандидатскую диссертацію. Ученость моя состояла, по правдѣ-то, въ томъ, что я свободно читалъ нѣмецкіе учебники и заглядывалъ въ «Àпnalen der Chemie und Physik»; но всѣ меня прочили въ магистры, въ томъ числѣ, кажется, и профессора.
У Стрѣчкова было большое имѣнье на Волгѣ. Онъ жилъ «съ своими лошадьми», и ими только, въ сущности, и занимался въ сласть, да охотой. Подошли экзамены изъ третьяго курса въ четвертый. Стрѣчковъ запросилъ меня съ нпмъ вмѣстѣ готовиться. Я этого школьнаго способа не долюбливалъ, но онъ такъ меня упрашивалъ, что я согласился. Безъ меня-то онъ врядъ-ли бы перешагнулъ въ четвертый: такой онъ, Богъ съ нпмъ, былъ первобытный обыватель. За то онъ и ублажалъ-же меня: перетащилъ къ себѣ на квартиру, поилъ и кормилъ, возилъ кататься, купилъ шкапъ съ дождемъ и поставилъ его у меня въ комнатѣ, для утреннихъ вспрыскиваній. – Жилъ онъ одинъ, въ «барской» квартирѣ, и мнѣ его обстановка казалась совершенно даже неприличной для молодаго малаго, а роскошь-то ея въ сущности заключалась въ томъ, что въ ней было три грязноватыхъ комнаты, кромѣ передней, и въ спальнѣ висѣли по стѣнамъ ружья на персидскихъ коврахъ. Цѣлыхъ двѣ своры лягавыхъ и гончихъ наполняли ее запахомъ настоящей псарни.
Къ концу экзаменовъ сталъ меня Стрѣчковъ упрашивать поѣхать съ нимъ «на кондицію» къ нему, въ деревню, давать уроки ариѳметики, и «тамъ чего хочешь» его двумъ сестренкамъ. Онъ былъ единственный сынъ у матери-вдовы и заправлялъ всѣмъ, какъ наибольшій. Плату онъ мнѣ посулилъ чрезвычайную, но тогдашнему времени: двѣсти рублей за вакацію на всемъ готовомъ. Я, разумѣется, не сталъ упираться, хотя мнѣ не совсѣмъ нравилось учительство въ барскомъ домѣ. Но приходилось подумать о томъ, съ чѣмъ останешься по окончаніи курса; за мою вторую октаву казна не обязана была «строить» мнѣ сюртучную пару и какое ни-на-есть бѣльишко.
Поплыли мы со Стрѣчковымъ внизъ по Волгѣ, и приплыли къ его «Хомяковкѣ» – усадьбѣ на самомъ береговомъ юру, въ прекрасной мѣстности. Меня «обласкали» и предоставили полнѣйшую свободу бездѣльничества; объ урокахъ было упомянуто больше для блезиру и такимъ тономъ, что «дескать въ іюньскій жаръ деликатно-ли васъ и безпокоить насчетъ этихъ пустяковъ». Мать Стрѣчкова оказалась еще не старой, худой и кислой барынькой, бывшей больше все въ лежачемъ положеніи. Какъ она могла выносить въ своей утробѣ такого байбака, какъ ея Мотя – я недоумѣвалъ. Дѣвчурки были въ нее: зеленыя и малорослый. При нихъ – гувернантка изъ московскихъ француженокъ. Сладости мадамъ Стрѣчкова была всякую мѣру превышающей. Съ ея устъ только и слетали ласкательный и уменьшительныя, относившіяся не къ однимъ дѣтямъ, но и къ прислугѣ: Мотя, Мака, Саня, Аннушка, Сеня, Костинька… А Костинькѣ—дворецкому было, навѣрняка, лѣтъ подъ шестьдесятъ. Глядя на нее и слушая ея медоточивыя рѣчи, тогдашняя «крѣпость» казалось гнусной выдумкой враговъ святой Руси! Слаще такого житья, безобиднѣе и миндальнѣе, и придумать было невозможно. Да, и въ самомъ дѣлѣ, мадамъ Стрѣчкова ничего не знала, что твой младенецъ, ни во что «не входила», боялась только собственныхъ немощей и всякаго громкаго слова избѣгала, не меньше запаха чеснока и баранины. Я сначала записалъ ее въ «презрѣнныя притворщицы»; но очень скоро убѣдился въ томъ, что никакого притворства тутъ не было. Она жила себѣ, какъ евангельскій <кринсельній»; а такъ жить давала ей тысяча душъ, изъ которыхъ половина ходила по оброку, половина спдѣла на барщинѣ. Прикащикъ «Флорушка» вѣдалъ всѣмъ этимъ, а мадамъ Стрѣчкова возила насъ въ длинныхъ дрогахъ на сѣнокосъ и жнитво, раздавала дѣвкамъ пояски и мѣдныя сережки, а парнямъ – ситцевые платки. Я руку отдамъ на отсѣченье, что въ мозгу мадамъ Стрѣчковой ни разу до той минуты, когда заговорили «объ ней», т. е. «о волѣ», не проползла мысль: на какихъ правахъ держится ея исторически-рабовладѣльческое бытіе? Словомъ, экземпляръ былъ отмѣнный, и онъ освѣтилъ для меня всю картину барскаго приволья. Дни плыли, какъ уточки въ дѣтскихъ игрушкахъ, изъ одной деревянной башенки въ другую, и съ такой-же музыкой: вставали, купались, пили чай, ѣли, опять купались, опять ѣли, катались, пили чай, ѣли, купались, ѣли. Въ моемъ городишкѣ, въ купеческихъ семьяхъ, я видалъ почти то же; а это были крупные бары. Но сами купцы сидѣли все-таки въ лавкахъ, маклачили, плутовали, несли повинности, получала медали «за трудолюбіе и искусство», а тутъ – какое-то сказочное блаженство, богоподобное питье барской браги.
VII.
Слово «обломовщина» тогда еще не было найдено. Я въ первые дни возмущался; но выдержать не могъ: мнѣ стало просто смѣшно, когда я окунулся выше головы въ эту стоячую зыбь крѣпостнаго блаженства.
На товарища моего любо-дорого было смотрѣть, такъ просто онъ всему этому «вистовалъ». Потомъ, года черезъ три, онъ стоялъ за «эмансипацію», и его записали даже въ «красные», когда онъ служилъ посредникомъ; но все это случилось такъ, здорово живешь, по одному природному добродушно. Теперь-же онъ зналъ-себѣ гонялъ на кордѣ заводскихъ жеребцовъ, да «закатывался» на охоту, куда и меня бралъ.
– Ты хочешь самъ заниматься хозяйствомъ, когда кончишь курсъ? спросилъ я его разъ, лежа около него на опушкѣ лѣса, гдѣ мы закусили.
– Извѣстное дѣло, чего-же мнѣ въ службу лѣзть… Я – степнякъ.
Я сталъ ему слегка внушать, что пора-бы и теперь присмотрѣться къ норядкамъ управителя Флорушки.
– На какого-же чорта ты въ камералахъ пребываешь?
Онъ чуть-ли не въ первый разъ, какъ слѣдуетъ, вспомнилъ, что камералъ значитъ – агрономъ и технологъ, и не безъ паѳоса вскричалъ:
– И въ самомъ дѣлѣ, на какого чорта!.. Вѣдь я какъ лихо отхваталъ билетъ о компостахъ, а самъ только собакъ гоняю!..
Должно быть, тятенька его былъ хозяинъ; только въ моемъ Стрѣчковѣ съ того самаго разговора вдругъ заиграла помѣщичья жилка. Жеребцовъ своихъ и собакъ онъ не забылъ; но сталъ бѣгать въ поле, почитывать камеральныя книжки и безпрестанно совѣтоваться со мной.
Откуда-то объявилась у него и сметка, и даже своего рода любознательность. Онъ добился-таки отъ меня разныхъ «мнѣній» по тому: что можно было-бы устроить въ усадьбѣ и какіе новые порядки завести въ будущемъ году, когда онъ вступитъ въ управленіе всѣмъ имѣніемъ. Мнѣ эта практика была сильно на-руку, да и на совѣсти сдѣлалось легче. Я не задаромъ, по крайней мѣрѣ, взялъ свои двѣсти рублей, а то уроки ариѳметики и «чего хочешь» шли изъ-рукъ-вонъ плохо.
Управитель Флорушка былъ торжественно уличенъ Стрѣчковымъ въ плутовствѣ. Мадамъ Стрѣчкова расплакалась, но почувствовала къ сыну сильное почтеніе, такое-же, какое онъ ко мнѣ. Меня онъ произвелъ въ Либиха на подкладкѣ агронома Тепфера, и потребовалъ отъ родительницы немедленной затраты двухъ тысячъ рублей на машины и образцовый сѣмяна. За столомъ мнѣ просто становилось зазорно: объ чемъ-бы ни шла рѣчь, сейчасъ-же Стрѣчкоиъ говорилъ во всеуслышаніе:
– Не знаю, что скажетъ Николай Ивановичъ.
Такимъ мудрецомъ и звѣздочетомъ сдѣлался я какъ разъ къ той порѣ вакацій, когда въ Хомяковку пріѣхалъ погостить дня на три родственникъ мадамъ Стрѣчковой, графъ Кудласовъ. Онъ ѣхалъ за своей женой на Сергіевскія воды и высадился, какъ и мы, прямо съ парохода.
Я въ первый разъ въ жизни очутился въ обществѣ настоящаго «всамдѣлишнаго» графа. Мы тамъ у себя, въ пѣвческой, называли «аристократами» всѣхъ губернскихъ баръ… да чего тутъ баръ!.. всякаго, кто ѣхалъ въ собственныхъ крытыхъ дрожкахъ или носилъ пальто-пальмерстонъ отъ портнаго Мельникова! Барыньки, дѣвицы и старушенціи, являвшіяся къ намъ въ университетскую церковь, тоже обзывались «аристократками», коли стояли поближе къ начальству и одѣвались почище. Про титулованныхъ господъ мы слыхали, но въ городѣ водились только князьки татарскаго рода; а графовъ съ звонкими именами что-то не водилось. Все, что пахло аристократіей въ нашемъ вкусѣ – раздражало насъ; мы и не желали разсуждать, а сквозь зубы цѣдили только: «сволочь!» Когда я пожилъ у Стрѣчковыхъ и увидалъ, что такое эти аристократы (а вѣдь другихъ у насъ въ городѣ и не было), то сталъ надъ собой подтрунивать; меня и животненность-то ихъ не могла уже возмущать какъ слѣдуетъ: такъ она была достолюбезна.
Увидавши графа, я подобрался, и во мнѣ что-то екнуло сердитое: я тотчасъ-же распозналъ, что это аристократъ не Стрѣчковскаго подбора. Графу казалось на видъ лѣтъ подъ тридцать. Лицо у него было какъ есть русское, но точно его кто обчистилъ и обточилъ для барскаго обихода. Надѣть на него цвѣтную шелковую рубаху – онъ смахивалъ-бы на красиваго полового, какихъ я потомъ пріятельски знавалъ въ московскомъ заведеніи Турина: кудрявые темные волосы, подслѣповатые бойкіе каріе глазки, скулы и носъ крупные, но не мужицкіе, усики и бородка (тогда только-что пошла воля насчетъ бородъ). Ростомъ онъ инѣ подходилъ чуть не подъ-мышку; но широкія плечи и легкая походка точно поднимали его на цѣлую четверть, и всякій-бы его назвалъ виднымъ мужчиной. Почему-то я ждалъ гвардейца, но оказался штатскій, весь въ желтоватой парусинѣ и соломенной шляпѣ.
VIII.
Стрѣчковъ озаботился немедленно моимъ представленіемъ графу, котораго онъ звалъ «дядя».
Графъ съ перваго-же разговора обошелся со мной такъ внимательно и точно даже вкрадчиво, что я еще сильнѣе разсердился; но тутъ-же обозвалъ себѣ болваномъ и къ вечеру уже смотрѣлъ на него спокойно. Я только и остался спокойнымъ въ домѣ, а всѣ остальные были до самаго отъѣзда графа въ волненіи. Мадамъ Стрѣчкова рядилась цѣлыхъ три дня и то-и-дѣло упрашивала своего дворецкаго Костиньку, «чтобы все было прилично!» Меня удивляла такая суматоха: правда, графъ былъ другаго полета птица, но никакихъ претензій не заявлялъ, велъ себя простымъ родственникомъ и даже за обѣдомъ садился между молодежью.
Стрѣчковъ объяснилъ мнѣ, когда мы пошли спать въ первый день, причину общей передряги.
– Мать-то моя, ты видишь, съ норовомъ, и не хочетъ себя выказать степной помѣщицей… Дядя – человѣкъ хорошій; но супружница-то его – ухъ, какая!..
– Да вѣдь ея здѣсь нѣтъ, такъ не все ли вамъ равно?
– Она его вотъ какъ держитъ (онъ сжалъ кулакъ) и все у него выспроситъ… Мать, не знаю изъ какого шута, и спитъ и видитъ, чтобы та къ ней въ гости пріѣхала… Вотъ за этимъ и пялится…
– Ты тетеньку-то не долюбливаешь? спросилъ я такъ, зря, собираясь ложиться.
– Я всего разъ ее видѣлъ. Бабецъ, я тебѣ доложу…
Онъ не нашелся, какъ опредѣлить ея качества. Прибавилъ только:
– Мраморная– одно слово. Не очень-то я желалъ бы принимать ее въ Хомяковкѣ… Она все на парле-франсе.
Засыпая, онъ сказалъ мнѣ:
– Ты что думаешь, – дядя-то вѣдь георгіевскій кавалеръ; офицерскій крестъ имѣетъ.
Онъ успѣаъ уже наговорить графу съ три короба о моей учености и геніальности. На другой день съ ранняго утра мы втроемъ ходили по хозяйству. Графъ, кажется, пріѣаааъ больше за тѣмъ, чтобы купить на Стрѣчковскомъ заводѣ трехъ матокъ и пары двѣ хорошихъ «коньковъ». Онъ былъ какъ слѣдуетъ хозяинъ тогдашняго времени: не очень-то свѣдущій, но сильно наклонный къ «агрономіи». Слыхалъ онъ, что такое Гогенгеймъ, гдѣ наши баричи 40-хъ годовъ обучались разной агрономической премудрости у виртембергскихъ нѣмцевъ. Раза два произнесъ фразу «вольный трудъ» и что-то разсказалъ про заведенный имъ въ глуши хуторъ. О Стрѣчковскомъ хозяйствѣ и разныхъ «улучшеніяхъ» онъ все разспрашивалъ меня, такъ что я поневолѣ долженъ былъ высказывать передъ нимъ всѣ мои «высшія соображенія».
Графъ слушалъ меня съ отмѣнно-ласковой улыбкой. Этакъ улыбаются молодые губернаторы на гимназическихъ актахъ, когда вручаютъ (за отсутствіемъ архіерея) золотую медаль ученику. Говорилъ онъ для меня совсѣмъ по новому, съ легкой, чисто графской картавостью, и безпрестанно повторялъ:
– Прекрасно, я съ вами совершенно согласенъ, вы стоите за настоящую, раціональную агрономію.
Слово «раціональный» смутило меня. Я никакъ не могъ сообразить, изъ каких былъ графъ, и даже, опять на сонъ грядущій, разспросилъ Стрѣчкова: что такое его дядя, – штатскій или военный, и почему у него Георгій, а онъ слова употребляетъ изъ книжекъ?
Стрѣяковъ всего доподлинно не зналъ, но умѣлъ-таки разсказать мнѣ:
– Дядя, видишь ли, учиться началъ въ Москвѣ, въ университетѣ, да какъ въ турецкій походъ пошли, въ волонтеры поступилъ юнкеромъ, тогда знаешь всѣхъ тамъ шагистикѣ учили… Ну, тоже отвага у него явилась. Подъ Силистріей чинъ получилъ, а потомъ и подъ Севастополемъ дѣйствовалъ, тамъ и Геогрія ему повѣсили. Какъ только миръ заключили – онъ сейчасъ въ отставку и женился: очень ужь онъ былъ «втюримшись». Съ тѣхъ поръ все хозяйничаетъ.
Мнѣ этого довольно было, я ужь больше не удивлялся студенческимъ словамъ графа; но и на другой день не могъ признать въ немъ бывшаго студента. Наша пѣвческая комната – и онъ! Даже мои франтики-камералы были другаго совсѣмъ калибра. Сойтись съ такимъ человѣкомъ «по душѣ» было для нашего брата немыслимо. Но я на него не злобствовалъ. Онъ мнѣ даже нравился или, лучше сказать, очень занималъ меня.
– Ну, братъ, шепнулъ мнѣ Стрѣчковъ, когда мы шли позади графа по узкой тропкѣ между полосой тимоѳеевки и другой, засѣянной образцовой рожью – вазой, дядя въ тебя совсѣмъ влюбился, говоритъ: не видалъ еще въ жизнь такихъ дѣльныхъ студентовъ.








