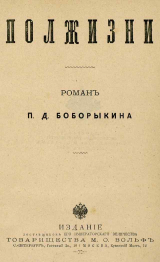
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Петр Боборыкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Я слегка покраснѣлъ, разумѣется отъ удовольствія, замѣтилъ это, пристыдилъ себя и промолчалъ. Съ графомъ простился я гораздо суше, чѣмъ онъ со мной.
Послѣднія его слова были:
– Если вамъ вздумается, по окончаніи курса, приложить на практикѣ ваши познанія – буду весьма радъ предложить вамъ поле дѢятѣльности.
Я только промычалъ что-то; а Стрѣчковъ бросился цѣловать дядю, должно быть за меня. Мадамъ Стрѣчкова прослезилась.
IX.
Вернулись мы изъ Хомяковки, гдѣ я запасся кое-какимъ агрономическимъ опытомъ (какъ я тогда важно выражался). Ученики мои не дошли со мной и до тройнаго правила. Весь четвертый курсъ промчался на почтовыхъ. Такъ всегда бываетъ въ студенческомъ быту, когда на рукахъ диссертація, да еще на медаль, и какой ни на есть, хоть бы и камеральный, экзаменъ. У насъ, на четвертомъ курсѣ, всѣ норовили въ кандидаты – и обѣтованной землей была технологія, по выбору темъ для диссертацій. Даже мой Мотя Стрѣчковъ взялся мастерить что-то изъ «хвои» и пачкался весьма усердно въ одномъ изъ чулановъ, игравшихъ роль «залъ» технической лабораторіи. Разумѣется, и онъ узрѣлъ себя въ числѣ кандидатовъ.
Моя диссертація была на медаль по сельско-хозяйственной химіи – моему любимому предмету. Я ее кончилъ раньше срока, и медаль была у меня все равно, что въ карманѣ, потому что и соперниковъ-то не имѣлось. Всѣ были увѣрены, что меня оставятъ при университетѣ, и звали съ усмѣшкой «адъюнктомъ».
Начался долбежъ къ экзамену. Стрѣчковъ опять перетащилъ меня къ себѣ. Прошелъ у насъ первый экзаменъ – статистики, гдѣ допускалось вранье въ цифрахъ до пятисотъ тысячъ включительно.
Получаетъ при мнѣ Сгрѣчковъ письмо и тотчасъ же подаетъ мнѣ.
– Это что? спрашиваю я удивленно.
– Прочти, прочти, до тебя касается!
Письмо было отъ графа Кудласова и дѣйствительно касалось меня, даже исключительно меня, такъ какъ у племяничка пожималась только рука.
Графъ дѣлалъ мнѣ, чрезъ него, формальное предложеніе: управлять однимъ изъ его хуторовъ, тотчасъ-по окончаніи курса. Расписано все было отмѣннымъ штилемъ и съ такими деликатностями, что я просто диву дался. На меня смотрѣли, какъ на молодаго «ученаго», которому необходимо предоставить «широкое поле для экспериментовъ», а потому графъ и полагалъ, что его предложеніе отвѣчаетъ этой, такъ сказать, «идеѣ». Мнѣ будутъ предоставлены: полнѣйшая свобода дѣйствій и всевозможныя средства, по разнымъ отраслямъ хозяйства. Все на хуторѣ будетъ «отбываться вольнымъ трудомъ», и графъ, конечно бы, и не рѣшился предложить мнѣ заняться имѣніемъ съ крѣпостнымъ трудомъ. Жалованъя полагалъ онъ тысячу двѣсти рублей съ полнымъ содержаніемъ и «тройкой лошадей», и десять процентовъ съ чистаго барыша «эксплуатаціи».
Читалъ я письмо цѣлыхъ четверть часа, хотя почеркъ у графа – англійскій, точно у какой конторщицы въ Сити.
– Ну что-жь отвѣчать-то? нахмурившись спросилъ меня Стрѣчковъ.
– Расписано сладко…
– Насчетъ этого будь покоенъ: дядя не надуетъ; что выговорено, все получишь… Только на какой-же ты шутъ засядешь въ этой берлогѣ, когда ты на виду у факультета и въ магистры норовишь?
Стрѣчковъ точно огорчился, хотя ему видимо пріятно было, что онъ такъ отрекомендовалъ меня графу Кудласову.
Я молчалъ и перебиралъ разныя «pro» и «contra» въ головѣ; а Стрѣчковъ началъ шагать изъ угла въ уголъ, разсуждая вслухъ, что показывало, что онъ былъ сильно возбужденъ за меня.
– Знаю вѣдь я эту сторонушку. Хлябь непроходимая… мордовское царство… лѣсъ одинъ да медвѣжьи пансіоны устроены… Помѣщики…
– А ты вотъ что лучше скажи, перебилъ я его: хуторъ-то толково заведенъ?
– Не знаю я доподлинно; слыхалъ, что всякую штуку тамъ дядя затѣялъ… И скотоводство хорошее… У него чуть-ли не тиролецъ былъ выписанъ – учить, какъ съ скотиной обходиться. Денегъ онъ не жалѣетъ; больше, кажется, изъ охоты и хозяйничаетъ-то.
– Это не худо, закончилъ я.
Въ головѣ у меня рѣшеніе уже было готово, и я тутъ-же сказалъ Стрѣчкову, чтобъ онъ извѣстилъ графа о моемъ согласіи.
Отговаривать меня Стрѣчковъ больше не сталъ, онъ увидалъ, что я не с бухты-барахты согласился. Въ пользу хутора было, въ самомъ дѣлѣ, слишкомъ многое: обезпеченное содержаніе, личная независимость, свобода труда, настоящая практическая школа и большія средства для «экспериментовъ», какъ изволилъ выразиться его сіятельство. А что могъ мнѣ дать университетъ? Оставить при факультетѣ могли, конечно, но оставятъ либо нѣтъ – это еще вопросъ. Вакантной каѳедры не предвидѣлось. Что же я сталъ бы дѣлать съ моимъ магистерствомъ? Или пошелъ бы въ ученые чиновники, или началъ-бы лить стеариновыя свѣчи у какого-нибудь почетнаго гражданина изъ казанскихъ «князей».
Дѣло съ графомъ оформилось мигомъ. Вмѣстѣ съ золотой медалью, получилъ я отъ него и проектъ контракта на два года, который и подписалъ. Одинъ профессоръ сулилъ мнѣ, правда, протекцію; но вѣрнаго ничего не указывалъ, а другой поздравилъ меня съ «отличнѣйшимъ» мѣстомъ.
– Пріѣдете на магистра держать, сказалъ онъ, такъ намъ всѣмъ носъ-то утрете.
X.
Добрякъ Стрѣчковъ снарядилъ меня въ путь, точно мать сынишку, идущаго въ «некруты». Денегъ я не взялъ, (графъ выслалъ мпѣ жалованье за треть года впередъ); но отъ разныхъ дорожныхъ вещей не могъ отказаться – вплоть до татарскихъ тебетеекъ и золоченыхъ ящиковъ съ яичнымъ мыломъ.
Путь мой лежалъ сперва вверхъ по Волгѣ, а тамъ отъ Василя-Сурска на перекладныхъ въ глухую мѣстность, гдѣ, действительно, значилось «медвѣжье царство». Но, кромѣ лѣса, есть тамъ и не дурная земля. Ее пртомъ въ «Положеніи» окрестили «второй черноземной полосой». Меня на хуторѣ ждалъ самъ графъ. Я нашелъ, что онъ немного точно постарѣлъ, со мной обошелся еще ласковѣе, чѣмъ въ Хомяковкѣ, но за то и проще. Въ обхожденіи его прокрадывалось что-то смахивающее на пріятельскій тонъ. Впрочемъ, ынѣ некогда было заняться спеціально личностью его сіятельства. Мы провели вмѣстѣ на хуторѣ всего двое сутокъ. Они ушли на сдачу мнѣ всего по инвентарю и обзоръ разныхъ «частей» съ приличными случаю теоретическими и практическими соображеніями, и съ той, и съ другой стороны. Хуторомъ управлялъ до меня агрономъ изъ учениковъ Горыгорецкой школы. Графъ нашелъ его «несостоятельнымъ» и далъ ему другое мѣсто, попроще, на своемъ винокуренномъ заводѣ, въ сосѣдней губерніи.
На прощанье (я тогда уже замѣтилъ, что графъ все торопится уѣзжать), мы довольно, кажется, искренно пожали другъ другу руку.
– Я васъ здѣсь оставлю до будущаго лѣта, сказалъ мнѣ улыбаясь графъ, и даже письмами не стану безъ нужды безпокоить… Просидите въ этой берлогѣ годикъ, тогда мы поговоримъ съ вами о результатахъ. Н, пожалуйста, не бойтесь бить меня по карману.
Ну, и засѣлъ я въ берлогѣ. Подъ меня отвели только-что отстроенный изъ сосноваго лѣса флигелекъ, гдѣ такъ славно пахло смолой, мхомъ и звѣробоемъ. Кругомъ стояли на-половину бревенчатыя, на-половину кирпичныя хуторскія строенія. Мѣстность была плоская, «потная»; въ одну сторону тянулись пашня и луговины, съ другой – застилалъ небо ьемностній боръ.
Тутъ я высидѣлъ свой первый годъ, и, право, не взвидѣлся какъ онъ проползъ. Такъ я уже потомъ никогда не жилъ. И дѣло, и люди, и природа – все это охватило молодую натуру и словно затягивало въ какую прохладную чащу, не взирая на усталось и скуку долгой ходьбы.
Позналъ я лѣсъ, «заказный», почти нетронутый людской рукой, съ его медвѣжьимъ и пчелинымъ дѣломъ. Любви моей къ нему не охладили годы всякихъ, совсѣмъ ужь городскихъ передрягъ. Его звуки и краски крѣпко залегли во мнѣ; съ первыхъ дрожаній зари вплоть до густаго душнаго сумрака все мнѣ въ немъ стало вѣдомо и любезно. И стоитъ мнѣ теперь, когда схватитъ тебя за горло надсада, вспомнить хуторской боръ… и вдругъ кашкой повѣетъ, и сосны заманятъ на свою мураву.
Идешь, идешь – часъ-два, и глазамъ твоимъ открывается «поляшка», вся залитая нежаркимъ солнцемъ. Къ краю ея пріютился обширный пчельникъ. Тутъ сидитъ сиднемъ и сбирается начинать свою вторую сотню лѣтъ старикъ Иванъ Петровъ, лицомъ точно тотъ апостолъ, что видѣнъ на правомъ концѣ «Тайной Вечери» Леонардо да-Винчи. Сѣдая, тонкая борода потряхивается, и острые, ясные глаза такъ и бѣгаютъ, оглядывая свое вѣковѣчное «бортное ухожье». Онъ и не шамкаетъ: губы еще крѣпки и голосъ чистый и высокій, точно бывало у нашего пѣвчаго альта – Павлуши.
– Роится? спросишь у старины, зайдя подъ его навѣсъ, гдѣ у него и малина разведена и подсолнечникъ.
– Нѣшто, отвѣтитъ онъ съ тихой торжественностью, точно онъ тутъ священно дѣйствуетъ, какъ жрецъ, среди таинствъ природы.
Послѣ шатанья съ ружьемъ у него же и соснешь, хлебнувши ковшикъ степнаго бѣлаго кваску… Проснешься, и отовсюду несутся къ тебѣ сладкіе запахи лѣсныхъ цвѣтовъ и пчелиный гулъ обволакиваетъ тебя кругомъ, щехочетъ ухо и наводитъ на неспѣшныя, здоровыя думы. Тѣни показались тамъ-и-сямъ, небо засинѣло, пора и въ путь.
Иванъ Петровичъ – первый медвѣжатникъ по всей волости. У него кременное ружьишко и собаченка Шевырялка. Но онъ и съ ружьемъ ходитъ рѣдко. Рогатина въ его сухихъ рукахъ еще грозное оружіе въ борьбѣ съ «Михалъ-Иванычемъ». Съ нимъ и я пошелъ впервые на медвѣдя.
Стоитъ мягкій морозный день. Въ лѣсу – тишь, такая тишь, что индо хватаетъ тебя за сердце. Ни единаго звука, ни свѣтотѣни, ни вѣтерка, доносящаго до тебя какой-нибудь запахъ. Лыжи скользятъ по твердому брильянтовому снѣгу. Вотъ обошли берлогу, разбудили пріятеля. Ждешь его не то съ замираніемъ, не то съ закоренѣлостыю звѣринаго азарта, въ которой люди полагаютъ всю сладость охоты и смертельной опасности. Затрещали мерзлые сучья, переваливается не спѣша Ми-халъ-Иванычъ. Если голова промежду лапъ – дѣло дрянь! Тутъ на рогатину его не скоро поднимешь; тутъ нужны такіе герои, какъ Иванъ Петровъ. Не страшно имъ и въ ту минуту, когда древко рогатины летитъ, расщепленное напоромъ звѣриной туши. Вы не взвидитесь, какъ съ ревомъ желтобурая масса рухнется подъ ударомъ дряннаго сапожнаго ножишка, увлекая въ своемъ паденіи бѣлаго, въ нагольномъ полушубкѣ, дрожащаго отъ нервной силы, столѣтняго старика…
Началъ я съ ружья, а кончилъ рогатиной и ножемъ; испыталъ и я затаенную страсть скряги, укрывающаго свои мѣшки; наслѣдишь, что твой ехидный мужичонко, берлогу, и никому не скажешь; одинъ пойдешь на лѣсное чудище съ Шевырялкой или съ Жучкой, и – не ровенъ часъ! – сгребетъ тебя Миша въ лапы и обдеретъ лучше всякаго азіатскаго хана. Мнѣ сначала думалось, что я ужасный храбрецъ, а потомъ, какъ я обжился да узналъ, какіе водятся тутъ медвѣжатники, такъ мнѣ и самое-то слово «храбрость» показалось до крайности нелѣпымъ. Любой невзрачный старичекъ, «цокая» на мордовскій манеръ (такой въ томъ краю говоръ), разскажетъ тебѣ подробности, отъ которыхъ у городскаго обывателя мурашки по кожѣ поползутъ; а онъ и не думаетъ рисоваться: он привыкъ ев дѣтства, вот и все!
Тутъ я, быть можетъ въ первый разъ, позналъ ту истину, (а она мнѣ пригодилась), что ко всему можно привыкнуть, и никакое геройство не сравнится съ привычкой.
XI.
Лѣсъ лѣсомъ, но надо было производить и «агрономическіе эксперименты». Это оказалось потруднѣе, чѣмъ ходить съ рогатиной и пырять Мишку ножомъ, рискуя очутиться въ пушистыхъ объятіяхъ отвратительной смерти.
Графъ не худо сдѣлалъ, что оставилъ мнѣ на помощь нарядчика изъ мѣстныхъ государственныхъ крестьянъ, курьезнѣйшую личность, наивную и плутоватую. Капитонъ Ивановъ – такъ его звали – выработалъ себѣ какой-то особый «деликатный» разговоръ, читалъ романы Зряхова и слагалъ собственнымъ умомъ куплеты; но рутинное хозяйство зналъ и никакихъ грубыхъ упущеній не допускалъ, докладывая мнѣ «на случай упустительности, или запамятованія» все, что могло произвести большой недочетъ въ доходахъ хутора, который онъ называлъ «хверма».
Я не рванулся сейчасъ-же «умничать»; но не сразу разглядѣлъ, что о раціональномъ хозяйствѣ «по книжкамъ» нечего и думать, даже и на вольнонаемномъ хуторѣ. А – тогда «вольный трудъ» былъ модной игрушкой. Въ немъ чувствовалось предверіе эмансипаціи. Иные изъ фанфаронства, другіе изъ боязни торопились заводить хутора.
Кругомъ дѣло это не было уже вновѣ. Ближайшими сосѣдями моими оказались тоже «агрономы», каждый въ особомъ типѣ: ругательномъ и благожелательномъ. Ругательный типъ изображалъ отставной гусарскій майоръ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лессингъ. Мужчина онъ былъ круглолицый, ростомъ почти съ меня, моложавый, стройный. Ходилъ онъ лѣтомъ въ славянофильскомъ платьѣ собственнаго изобрѣтенья, т. е. въ розовой рубашкѣ, бѣлыхъ штанахъ въ сапоги и въ коротенькомъ парусинномъ пальтецѣ. Говорилъ онъ высокимъ теноромъ, рѣзко, громко, всегда почти ругательно. Лессинга – настоящего, онъ конечно не читалъ, но въ корпусѣ заглядывалъ въ учебники геометріи, почему и вообразилъ себя великимъ механикомъ и изобрѣтателемъ. Все онъ строилъ и устроивалъ «по-своему», и даже изобрѣлъ собственную соломорѣзку. Дѣло у него, однакожь, спорилось, потому что онъ хоть и въ гусарахъ служилъ, а все-таки былъ «изъ нѣмцевъ». Хутора свои (ихъ было у него цѣлыхъ три) онъ заводилъ щеголевато, на широкую ногу, хотя и не считался денежнымъ человѣкомъ. Разумѣется, всѣхъ своихъ сосѣдей обзывалъ онъ дураками и неучами; а меня съ перваго-же знакомства сталъ звать презрительно: «этотъ студентъ». Сосѣдъ онъ былъ отвратительный: завистливый, мелочной, забіяка и ненавистникъ. Отъ него не раздобылся бы я гарнчикомъ овсеца на посѣвъ, еслибъ былъ въ крайней нуждѣ.
Благожелательный сосѣдъ, Павелъ Павловичъ Шутилинъ, ходилъ тоже въ русскомъ ополченскомъ нарядѣ, изъ себя былъ сѣдоватый степенный баринъ, съ овальнымъ лицомъ и ласковыми карими глазами. Говорилъ тихо, успокоительно и дѣлалъ все, не то что исподтишка, а «подъ шумокъ». Онъ въ механики не лѣзъ, но почитывалъ учебники политической экономіи, «слѣдилъ за идеями» и хозяйничалъ исподволь, толково, держась навыковъ хорошаго мужицкаго хозяйства. Меня онъ началъ навѣщать и бесѣдовать объ университетахъ. Въ его «себѣ на умѣ» было что-то пріятное, своего рода барская гуманность, или по крайней мѣрѣ разсудительность и тактъ. Онъ не-прочь былъ дать «добрый совѣтъ» и подшучивалъ-таки надо мной, когда я въ первую-же запашку закобянился сначала насчетъ «рутинныхъ» посѣвовъ, а кончилъ тѣмъ, что внялъ резонамъ Капитона Иванова.
Эти два агронома подмывали меня, и ихъ сосѣдству я обязанъ тѣмъ, что черезъ годъ всякія сомнѣнія во мнѣ улеглись, и я пришелъ къ точнымъ выводамъ насчетъ того: чего дѣлать не слѣдуетъ. Но ихъ общество, ихъ жены и дочери меня ни мало не привлекали, да и когда мнѣ было разъѣзжать «на тройкѣ», поставленной графомъ въ наше условіе? И лѣто, и осень, и зима, и новая весна прошли такъ, какъ они проходятъ въ дѣятельномъ одиночествѣ молодаго человѣка, впервые столкнувшемся съ жизнью народа. Мужики (хоть я и орудовалъ вольнымъ трудомъ) всего больше меня наполняли.
Сторонушка выдавалась дремучая, по дикости, почти невообразимой. Въ двухъ верстахъ отъ меня дѣвки и бабы до смерти забивали всякаго мужика, который встрѣтится имъ, когда онѣ опахиваютъ деревню сохой. Изъ колдуновъ, напустившихъ «глазъ», выпускали «весь духъ», вѣря въ то, что больной, испорченный имъ, мигомъ выздоровѣетъ. И среди этихъ-то туземцевъ «Огненной Земли» находилъ я моихъ героевъ-медвѣжатниковъ, простыхъ и добродушныхъ, какъ малыя дѣти. Я поставилъ себѣ задачей: знать, какъ «Отче нашъ» весь годовой обиходъ му-жидкаго хозяйства со всѣми «его ужасами», какъ нынче говорятъ о западномъ пролетаріи, и узналъ его. Этимъ я обязанъ графскому хутору, гдѣ я ничего не изгадилъ, но ничего и не «усовершенствовалъ», а нашелъ, напротивъ, что все было заведено слишкомъ по-барски и въ такихъ размѣрахъ, что порядочнаго доходу давать не могло. Надѣясь на графа, какъ на порядочнаго человѣка, я смѣло ждалъ его пріѣзда, чтобы изложить ему мои отрицательные результаты. На хуторѣ я готовъ былъ просидѣть хоть еще пятъ лѣтъ; но не сталъ бы затѣвать съ графомъ дѣла, еслибъ онъ, вопреки контракту, прогналъ меня и послѣ перваго года. Кромѣ мужика и медвѣдя съ ихъ берлогами, я на хуторѣ же узналъ и того звѣрька, который сидѣлъ еще и во мнѣ самомъ. Не свѣтская дикость моя меня разсердила, а моя городская наивность, книжный формализмъ и самодовольство школьника, глупый задоръ «оберъ-офицерскаго сына», воображавшаго, что онъ «красный», потому что читаетъ тайкомъ рукописные листки «Колокола», и сердцемъ не думавшаго никогда о томъ, какъ взять за рога чудище народной дрёмы и мужицкаго горя, какъ растолковать своимъ героямъ-медвѣжатникамъ, что колдуна Акима колошматить бревномъ гнусно и нелѣпо, ибо тетушку Маланью не перестанетъ отъ этого бить «лихоманка».
XII.
Къ Петрому дню дождался я графа. Онъ опять измѣнился противъ прошлогодняго: кудерьки на вискахъ кое-гдѣ блестѣли сѣдымъ волосомъ, по обѣимъ сторонамъ носалегли рѣзкія черты; но вообще-то оиъ былъ все тотъ же видный баринъ, смахивающій на ярославца, и я нашелъ въ немъ даже большую юркость, чѣмъ въ первыя наши встрѣчи. Должно быть мой отчетъ очень понравился ему своей откровенностью, а лучше сказать, – онъ уже тогда началъ свое «самосовершенствованіе»; только, вмѣсто того, чтобы отказать мнѣ, онъ разразился въ похвалахъ и сталъ упрашивать меня не покидать его хутора.
– Какой у васъ умъ! повторялъ онъ, ходя со мною по полямъ, я просто въ восхищеніи! Я, признаюсь, боялся, что вы, какъ молодой студентъ, занесетесь, а вы меня же удерживаете!..благодарю васъ! Совершенно съ вами согласенъ: первое дѣло знать – чего не слѣдуетъ затѣвать. Я готовъ на всякую жертву; но глупо лѣзть изъ кожи и пересаживать Англію въ наше медвѣжье царство.
Ему (какъ я тогда еще замѣтилъ) хотѣлось, прежде всего, выставить себя гуманнѣйшимъ русскимъ «сквайромъ», готовымъ насаждать всякій прогрессъ вплоть до личнаго освобожденія крестьянъ. На эту тему мы съ нимъ обширно не толковали, но онъ самъ заговорилъ, что «если дѣйствительно изъ этого что-нибудь выйдетъ», то онъ никому не уступитъ въ великодушіи и выкажетъ себя «дворяниномъ въ высокомъ значеніи слова».
Помню, когда онъ выговорилъ эту фразу я опустилъ голову: въ голосѣ его заслышались какіе-то «офицерскіе» звуки, какъ я ихъ опредѣлилъ впослѣдствіи. Я ихъ слыхалъ и потомъ, но подъ другой формой, когда графъ уже стыдился употреблять въ серьезъ слово: «дворянинъ». Въ этотъ же пріѣздъ прорывалась и его, тоже офицерская, простота обращенія. Онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, началъ мнѣ разсказывать, какъ онъ славно воевалъ подъ Силистріей и подъ Севастополемъ; осада, съ ея бойней, выходила у него чуть не балетомъ, съ заманчивой перемѣной декорацій, со стеклышкомъ ярмарочной панорамы, въ промежутокъ кутежей и пьяныхъ вспышекъ глупой отваги. Но фанфаронства не слышно было; не слышно было и бездушія, а такъ что-то гвардейское, стихійное, дѣтское. И вдругъ онъ словно спохватится и скажетъ что-нибудь хорошее, но это хорошее взято точно совсѣмъ изъ другаго ящика, откуда-то имъ вычитано, или заучено съ голоса, или же надумано уже впослѣдствіи, когда нельзя было все переворачивать военныя картинки «райка».
На второй день своего пребыванія на хуторѣ, графъ, условившись со мною ѣхать на бѣговыхъ дрожкахъ, чѣмъ свѣтъ, смотрѣть всходы проса, что-то опоздалъ, такъ что я долженъ былъ его разбудить. Онъ ночевалъ, по собственному выбору, въ передбанникѣ, на сѣнѣ, покрытомъ ковромъ. Подхожу къ двери и стучусь. Дверь заперта на внутреннюю задвижку. Слышу, – вскакиваетъ онъ врасплохъ, окликнулъ меня хриплымъ голосомъ и не сразу отворилъ дверь; я дожидался минуты двѣ-три. Вхожу – и меня тотчасъ-же озадачило лицо графа. Онъ успѣлъ уже наскоро одѣться и облить всю голову водой. Лицо отекло и глаза смотрѣли воспаленно, щеки покрыты были особой блѣдностью, какой я у него не замѣчалъ до того. Поздоровался онъ со мною пріятельскимъ тономъ, но словно стѣснялся чѣмъ-то. На полу, около того мѣста, гдѣ онъ спалъ, стоялъ раскрытый погребецъ. Мнѣ показалось, что одинъ изъ граненыхъ графинчиковъ (безъ пробки) былъ пустъ, отъ графа, какъ-будто, шелъ запаха рома. Я подумалъ тутъ-же: – «Неужели онъ испиваетъ втихомолку?»
Графъ наскоро докончилъ туалетъ и чрезъ нѣсколько минутъ вошелъ въ свою обычную тарелку; дорогой много и очень гладко говорилъ и о трехпольномъ хозяйствѣ, и о мельчаніи дворянскаго сословія, и опять объ «ней», т. е. крестьянской волѣ. Онъ собирался дѣйствовать въ губернскомъ комитетѣ и развивалъ мнѣ на словахъ свои будущія «записки и мнѣнія». Я больше отмалчивался, видя, что онъ самъ блуждаетъ въ какомъ-то лже-либеральномъ туманѣ, а за свои «земельныя права» держится не хуже гусара Лессинга, который мнѣ уже отрѣзалъ разъ:
– Мнѣ, батенька, чортъ ихъ подери, всѣ эти души-то хрестъянскія; я и съ хуторами не пропаду – иди они на всѣ четыре стороны, никакихъ я обязательныхъ отношеній знать не хочу!
А годика черезъ три, сказать мимоходомъ, и онъ пошелъ въ посредники, учуявъ плохо-лежащія полторы тысячи рублей; да еще въ красныхъ очутился. – Графъ все говорилъ; а я, нѣтъ-нѣтъ, да и вспомню про утренній расплохъ и запахъ рома.
«Неужели, думалъ я, трясясь позади его на осяхъ бѣговыхъ дрожекъ, у этого кровнаго аристократа (такимъ я тогда считалъ его) есть какое-нибудь ядовитое горе, и онъ заливаетъ его водкой, что твой послѣдній хуторской батракъ?»
Мнѣ казалось въ ту пору, что у такого благовоспитаннаго человѣка, говорившаго о севастопольской войнѣ языкомъ изящнаго и бойкаго адъютанта, не можетъ быть никакихъ затаенныхъ вещей: порока-ли, страсти, зазнобы или хронической душевной хандры.
XIII.
Графъ опять заторопился; всѣ мои хозяйственный предложенія на слѣдующую осень и зиму безусловно одобрилъ и на прощанье сказалъ мнѣ:
– Вы, однако, добрѣйшій Николай Ивановичъ, подумайте немножко о себѣ. Вамъ нужно освѣжиться хоть недѣльку-другую. На Святки пріѣзжайте погостить къ намъ. Мы проведемъ зиму въ Москвѣ. Графиня будетъ весьма рада съ вами познакомиться.
Вотъ все, что я отъ него слышалъ о женѣ. Несмотря на свою словоохотливость, онъ до сигъ поръ не касался ни своего семейства, ни даже своихъ личныхъ житейскихъ испытаній. Онъ только разсказывалъ или резонировалъ, но не изливался. Изліянія пришли гораздо позже. Онъ даже ни разу не намекнулъ мнѣ на то, что и онъ учился въ университетѣ, и о своемъ Георгіѣ не упоминалъ. Меня это изумляло. Я думалъ: «полно, не совралъ-ли Стрѣчковъ?» Но Стрѣчковвъ не вралъ, и графъ былъ дѣйствительно георгіевскій кавалеръ.
«Вотъ, говорилъ я про себя, проводивши своего «патрона», какую выдержку имѣютъ эти «господа»; не то, что нашъ братъ. Вѣдь поживи здѣсь графъ лишній денекъ, я бы, навѣрняка, сталъ съ нимъ разглагольствовать о собственной особѣ; а моя особа нисколько не занимательнѣе его особы».
Приглашеніе пріѣхать въ Москву какъ-будто смутило меня. Вернулся я къ своему флигельку, оглядѣлъ дворъ, навѣсъ амбара, гдѣ я подъ-вечеръ бесѣдовалъ съ Капитономъ Ивановымъ, избы рабочихъ. Кухарка моя Фелицата вышла на заднее крылечко, собираясь идти доить «Пестренушку». Черезъ частоколъ виднѣлось облако пыли, взбитой стадомъ; овцы блеяли, пастухъ щелкалъ своимъ веревочнымъ арапникомъ. Картина куда невзрачная, а меня схватило за сердце: точно я прощался со всѣмъ этимъ.
И отчего? Оттого, что графъ пригласилъ меня на Святки въ Москву. Слова: «графиня будетъ весьма рада съ вами познакомиться» – все еще звучали въ ушахъ. Я даже разсердился на себя. А между тѣмъ впечатлѣніе сидѣло во мнѣ – я это чувствовалъ. «Что-же, я боюсь что-ли этой графини?» спросилъ я, входя къ себѣ въ рабочую комнату и садясь у окна, хотя мнѣ нужно было идти на скотный дворъ дворъ распорядиться насчетъ годовалыхъ бычковъ.
Вспомнилъ я тутъ разговоръ со Стрѣчковымъ о его тетенькѣ. Мнѣ такъ ясно представился жестъ Стрѣчкова, когда онъ сжалъ кулакъ, желая показать, какъ она держитъ въ рукахъ его дядю. Я даже повторилъ вслухъ его возгласъ – «Мраморная»!
Заходящее солнце заглянуло въ комнату красноватымъ отблескомъ и разлилось по большому некрашеному столу. На немъ у меня стояли разныя сткляночки и горшечки, вся моя немудрая лабораторія, гдѣ я смастерилъ кое-какіе анализы почвъ. На стѣнѣ висѣла такая-же некрашеная этажерка съ книгами. Тутъ я просидѣлъ столько зимнихъ вечеровъ, одинъ, при свѣтѣ экономической ламночки, слушая храпъ Фелицаты, доносящійся изъ кухни. Это было единственное женское существо моего ежедневнаго обихода. И вдругъ я отъ общества Фелицаты, обрусѣлой мордовки, лѣтъ подъ пятьдесятъ, перейду въ общество графини! Почему-то я началъ вспоминать, съ какими женщинами водилъ бесѣду, и оказалось, что кромѣ Гоголевской исторіи за Булакомъ, у меня не было никакихъ, самомалѣйшихъ столкновеній съ женщинами. Па мадамъ Стрѣчкову я какъ-то особенно посмотрѣлъ, больше какъ на курьезный экземпляръ. У сосѣдей моихъ я могъ наткнуться на женское общество, и особаго смущенья и робости я не чувствовалъ, когда попадалъ къ нимъ. Жена гусара-механика лежала въ диванной, по разслабленному состоянію, и я до нея и не доходилъ совсѣмъ; а у благожелательнаго сосѣда значилась цѣлая орава старыхъ дѣвъ-сестеръ, дѣтей и гувернантокъ, такъ что я за обѣдомъ ни на кого и вниманія-то не обращалъ: очень ужь ихъ много было. Жена его сидѣла въ концѣ стола и только разъ послѣ обѣда спросила меня:
– Вы клубничное варенье предпочитаете, или малиновое?
Я предпочелъ клубничное.
Послѣ того и не былъ больше у Шутилина.
Съ крестьянскими дѣвками «медвѣжьяго пансіона», гдѣ я завелъ столько пріятелей между мужиками, я непрочь былъ балагурить, приглашалъ ихъ всегда самъ «на помочь», или полоть просо, разсчитывался тоже самъ, у себя на дворѣ, и немало у насъ случалось смѣху, но особаго знакомства ни съ одной не сводилъ. Моя Фелицата даже начала тужить за меня, и, бывало, остановится въ дверяхъ, когда я пишу что-нибудь или читаю у большаго стола, постоитъ-постоитъ и начнетъ вздыхать:
– Все-то въ книжку читаетъ, скажетъ наконецъ, все-то въ книжку; хоть-бы на посидѣлки поѣхалъ…. или денегъ жаль на пряники дѣвкамъ? Да и такъ любая прибѣжитъ.
Я посмѣюсь молча; она махнетъ рукой и завалится спать.
А въ Москвѣ ждала меня настоящая графиня, поди болѣе настоящая, чѣмъ ея супругъ. Такъ я объ этомъ задумался, что просидѣлъ до сумерекъ у окна, и спохватился только тогда, когда Капитонъ Ивановъ, кашлянувъ въ руку, пришелъ спросить:
– Какъ въ разсужденіи завтрашней сѣнной разметки, въ случаѣ, иаче-чаянія, дождливаго ненастья, полагать изволите?
Въ Москву эту я, въ концѣ-концовъ, могъ и не ѣхать. Меня никуда еще не тянуло съ хутора; но слишкомъ по-мальчишески было-бы отказываться отъ поѣздки потому только, что тамъ сидитъ какая-то «мраморная» бука.
«Ну ужь это-то его сіятельство соврать изволилъ, рѣшилъ я, что она весьма рада со мною познакомиться. Она, я думаю, и знать-то не знаетъ, – какой-такой на хуторѣ управитель». Въ первый разъ эта кличка слегка покоробила меня; и въ первый разъ-же я ее примѣнилъ къ себѣ.
XIV.
Шесть мѣсяцевъ прошли до Рождества все въ той же обстановкѣ, но уже съ другой внутренней работой. Запахло-чѣмъ-то свѣжимъ оттуда, сверху, изъ Петербурга.
«Она» была уже на чеку, приближалась, какъ чудище въ зловѣщемъ туманѣ—для рабовладѣльцевъ, какъ-яркое солнышко въ радужномъ сіяніи – для сермяжныхъ зипуновъ. И мои медвѣжатники загудѣли, стали ко мнѣ-подсылать ходоковъ:
– Взаправду, аль нѣтъ, Миколай Иваныч, баютъ воля будетъ?
Было что-то крѣпкое, возбуждающее въ воздухѣ, точно его переполнили озономъ. Впереди блестѣла какая-то общая радость, нѣчто слагающее обузу грязи и неправды даже и съ тѣхъ, кто и не думалъ выходить изъ сословія душепріобрѣтателей, какъ я напримѣръ. Это уже не была мечта, блажь, либеральное мальчишество; чувствовалось, что «она» станетъ, не черезъ годъ, такъ черезъ два-три года, правдой и былью.
Чѣмъ-же передъ этимъ «мірскимъ» дѣломъ показалось мнѣ мое хуторское хозяйство? Пустѣйшей забавой, или поблажкой барской широкой мошнѣ! И то и другое – не стоило честнаго труда и головной натуги. Ну, какія тутъ «соломорѣзки» и «зерносушилки», когда милліоны народа стояли на порогѣ своей скотоподобной крѣпости, когда у каждаго человѣка съ душой дрожалъ внутри вопросъ: пустятъ-ли эти милліоны на всѣ четыре стороны, какъ желаетъ того майоръ Лессингъ, «безъ кола, безъ двора» или дадутъ имъ клочекъ земли, утвердятъ и закрѣпятъ въ ихъ вѣковой жизни общину?
Послѣ крестьянскаго двора, я обнюхалъ и то, чѣмъ держится вся финансовая машина нашей Руси православной., безъ чего ни одинъ питомецъ «народнаго просвѣщенія», въ родѣ меня, никогда-бы не выкарабкался. Искренно, безъ слезливой сантиментальности, я почувствовалъ себя должникомъ сермяжныхъ зипуновъ. По цѣлымъ днямъ, поздней осенью и ранней зимою, толковалъ я съ моими медвѣжатниками, рискуя даже возбудить въ уѣздныхъ властяхъ всякія подозрѣнія. Свободнаго времени у меня всегда на это хватало. Графскій хуторъ отошелъ на самый задній планъ: я смотрѣлъ на него, только какъ на средство жить среди народа и участвовать лично на великомъ праздникѣ его освобожденія…
Теперь, когда я это записываю, слова мои кажутся мнѣ если не книжными, то по крайней мѣрѣ, черезчуръ торжественными. Десять-двѣнадпать лѣтъ сдѣлали свое, и то, что теперь творится, вовсе не то, о чемъ тогда думалось; Но въ ту минуту никакое слово не казалось слишкомъ громкимъ; тогда слѣдовало начинивать себя такими словами, чтобы не слыхать зубовнаго скрежета, раздававшагося отовсюду. Русскіе журналы и книги получили для меня новый смыслъ. Я зачитывался статьями, гдѣ впервые раздалось слово за мужицкую душу «съ надѣломъ», гдѣ защищали мужицкую общину отъ набѣговъ ученыхъ профессоровъ политической экономіи. Перечелъ я «Записки Охотника» и понялъ, что и у нашихъ литературныхъ отцовъ не было ничего выше и живѣе «этого дѣла>. Только мы, хоть и не умѣемъ писать, ближе стоимъ къ зипунамъ. Они – добрые господа»; а мы – строптивые, но потянувшіе-таки лямку разночинцы. На насъ какой-нибудь «Антонъ Горемыка» наводилъ ужь тошноту: – а вѣдь и въ немъ тоже мужичекъ обсахаренъ на славу и сотни душепріобрѣтательскихъ женъ проливали надъ нимъ слезы, гдѣ-нибудь на Женевскомъ озерѣ или въ Сорренто.
Даже въ письмахъ графа звучала нота особой тревоги. Онъ собирался «дѣйствовать» не на шутку и объ хуторѣ почти меня не спрашивалъ. Въ первыхъ числахъ декабря онъ повторилъ свое приглашеніе – пріѣхать погостить въ Москву. Вызывалъ онъ меня не только для того, чтобы «развлечься», но и потому еще, что въ настоящее время, когда «близится такое крупное событіе, когда мы такъ двинулись впередъ, было-бы особенно отрадно подѣлиться съ вами взглядами, да и вамъ самимъ будетъ дышаться здѣсь другимъ воздухомъ».
Да, воздуху тогда всѣ хотѣли, и объ воздухѣ всякій толковалъ. Я поѣздки не только не испугался, но обрадовался ей. Мнѣ нужно было хватить собственной грудью того, что наполняло наши столицы. Я съ нѣкоторымъ душевнымъ сокрушеніемъ вспомнилъ, что ничего-то я не видалъ, кромѣ двухъ губернскихъ городовъ, гдѣ я жилъ школьникомъ, сперва съ краснымъ, потомъ съ голубымъ воротникомъ.








