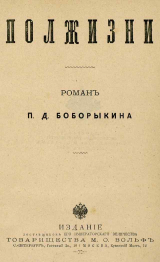
Текст книги "Полжизни"
Автор книги: Петр Боборыкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Я молчалъ; меня что-то стянуло къ горлу. Быть можетъ, своего рода globus histericus. Я только широко раскрывалъ ноздри и вдыхалъ въ себя воздухъ этой голубой комнаты, гдѣ все было переполнено ею. И жаръ камина, и свѣтъ лампы, и темные углы, откуда выглядывали широкіе листья растеній, и главное, запахъ, тонкій, но проникающій всюду, запахъ фіалки обдавалъ меня, дразнилъ и щекоталъ. Когда она, съ чашкой въ рукахъ, обратилась ко мнѣ всѣмъ своимъ торсомъ, и глаза, кажущіеся вечеромъ совсѣмъ черными, прошлись по мнѣ, я долженъ былъ сдѣлать сознательное и напряженное усиліе надъ собой: зрѣніе у меня заволокло и я близокъ былъ, пожалуй, къ чему-то въ родѣ обморока.
– Вы съ лимономъ? повѣялъ на меня холодкомъ вопросъ графини.
Я, съ чуть замѣтной дрожью въ пальцахъ, принялъ чашку, и долженъ былъ вынуть платокъ и провести имъ по лбу.
– Пожалуй, хоть съ лимономъ, отвѣтилъ я, а въ глазахъ у меня все еще искрилось.
– Неужели вы подъ такимъ впечатлѣніемъ спектакля? спросила она, присаживаясь къ тому углу диванчика, гдѣ я сидѣлъ.
– Нѣтъ, сказалъ я, овладѣвъ уже собою; сегодня я недоволенъ Малымъ театромъ. Ни пьесой, ни игрой.
– А вообще вы, кажется, увлечены нашей сценой?
Она сказала фразу съ улыбочкой. Меня это раззадорило и я горячо заговорилъ о томъ новомъ мірѣ, какой открывался мнѣ съ театральныхъ подмостковъ. Графиня слушала меня внимательно, опустивъ нѣсколько голову, но продолжая тихо улыбатьси. Ни разу она меня не перебила, ни возраженіемъ, ни жестомъ, ни восклицаніемъ.
Когда я закончилъ и залпомъ выпилъ свою остывшую чашку чаю, графиня покачала головой и тихо выговорила:
– Это вамъ такъ кажется на первыхъ порахъ.
– Однако, что-же вы можете возразить, рѣзко замѣтилъ я, противъ глубокой правды этихъ народныхъ драмъ!
– Ахъ, Николай Ивановичъ, какъ вы мудрено выражаетесь… Говорите со мною попроще, я вѣдь женщина, а не студентъ.
Она при этомъ улыбнулась улыбкой снисходительной сестры, говорящей: «ты не кипятись очень-то, вѣдь я не глупѣе тебя».
Я смирился немного и съ любопытствовіъ ждалъ дальнѣйшихъ разсужденій «женщины, а не студента».
– Вы говорите: народная драма… Полноте, какая-же тутъ драма?.. Ну, вотъ эта пьеса, гдѣ Косицкая-то все плачетъ цѣлыхъ два акта, какъ бишь она называется?
– «Не въ свои сани не садись», съ неудовольствіемъ подсказалъ я.
– Да, такъ… что это за женщина, что это за страсть, какая это борьба! Ничего тутъ нѣтъ, кромѣ сантиментальное™ дурнаго тона и жалкаго рабства.
– Какого же-съ? вскричалъ я.
– Будто вы его ие замѣчаете? Ее увозятъ отъ ея «тятеньки» – оиа ѣдетъ; потомъ гонятъ, оиа хнычетъ, возвращается домой, тятенька третируетъ ее, вы знаете какъ… она продолжаетъ хныкать; беретъ ее замужъ тутъ-же какой-то… какъ бишь его зовутъ?
– Ваня Бородкинъ, еще сумрачнѣе подсказалъ я.
– Да, Ваня Бородкинъ; она пдетъ за него въ тотъ-же день… и все хнычетъ; а подъ конецъ объявляетъ всѣмъ намъ, что она сохраніитл… свою невинность! Тошно смотрѣть!
– Но если такова настоящая жизнь? вопросилъ я.
– Не знаю, можетъ быть и точно такая, но зачѣмъ-же это драмой называть? Ужь и въ жизни-то только и видишь, и въ мужчинахъ и въ женщинахъ, трянокъ и хныкалокъ, а тутъ еще героинь намъ изъ нихъ дѣлаютъ.
XXII.
Я взглянулъ на нее въ эту минуту. Она выпрямилась и смотрѣла куда-то вдаль. Лицо у ней было строгое, почти грозное, такъ что я не захотѣлъ больше возражать.
– Или вотъ еще другая комедія… гдѣ такъ хороша Лаврова-Васильева. Вы ее вндѣлн на той недѣлѣ – «Бѣдная невѣста». Я ужь не говорю, какъ это мѣстами длинно и скучно. Мнѣ она все-таки больше нравится, чѣмъ всѣ эти купеческія кривлянья, но опять к-акия… размазня!
Графиня злостно разсмѣялась и прибавила:
– Вы видите, Николай Ивановичъ, что я съ вами не пускаюсь въ литературный споръ… и позволяю себѣ даже такъ безцеремонно выражаться…
– Сдѣлайте милость, не стѣсняйтесь, глухо вымолвилъ я, каждый воленъ въ своихъ мнѣніяхъ.
– Покорно благодарю, послышался спокойно-насмѣшливый отвѣтъ графини. Исторія этой бѣдной невѣсты навѣрно очень похожа на житейскую правду… какъ вы выражаетесь; но развѣ стоитъ сочувствовать и волноваться изъ-за такихъ пстерическихъ дѣвъ, которыя продаютъ себя для маменекъ, наигравшись въ любовь съ какими-то франтами изъ Замоскворѣчья?.. Или вотъ еще та пьеса, гдѣ тэкъ хорошъ Васильевъ… въ ямщикѣ, изъ мужицкаго быта. Что это такое?! Во всѣхъ четырехъ дѣйствіяхъ онъ пьянъ… до гадости, до отвращенья!
– Это очень честная народная драма! вскричалъ я.
– Вы все народная! Далось вамъ это слово, Николай Ивановичъ, и вы хотите имъ все оправддаь… Въ балаганѣ, для мастеровыхъ, исторія, какъ сынъ съ отцомъ утаили потерянныя деньги и какъ сынъ дошелъ до того, что замахивается топоромъ на отца… въ балаганѣ это очень«.. душеспасительно; но зачѣмъ же насъ-то заставлять смотрѣть на то, какъ прекрасный актеръ до гадости хорошъ и даже ужасенъ въ припадкахъ пьянства?
– Кого-же это насъ? уже грубовато спросилъ я.
– Какъ кого? меня, васъ, каждаго, кто способенъ иначе думать, иначе чувствовать, иначе жить.
– Вамъ, стало-быть, угодно аристократическихъ пьесъ?
– Ахъ, полноте, Николай Ивановичъ, позвольте васъ отъучить отъ словъ аристократъ, аристократка, аристократическій… У насъ, въ Россіи, нѣтъ никакихъ аристократовъ. Есть общество пообррзоовннѣе… состоитъ оно больше изъ помѣщиковъ, изъ благородныхъ, изъ тѣхъ, у кого есть крѣпостные. Такъ до сихъ поръ велось; а вотъ когда ваши друзья изъ медвѣжьяго пансіона очутятся на волѣ… будетъ по другому; но все-таки останется общество получше и общество похуже.
– Я буду тамъ, гдѣ похуже, уже мягче отозвался я.
– Напрасно… Вамъ никто не запрещаетъ попасть туда, гдѣ получше… Вы учились въ университетѣ, передъ вами широкая дорога, вамъ очень не трудно сдѣлаться вполнѣ образованнымъ человѣкомъ, испытать все, чѣмъ красна жизнь, искать самыхъ сильныхъ впечатлѣиій, рѣшаться на самыя высокія дѣла.
Голосъ ея все крѣпчалъ и крѣпчалъ, глаза разшири-лись и движеніемъ руки она точно что отводила отъ себя… Я просто заслушался, и повторялъ про себя: «какъ говоритъ, какъ говоритъ!»
– Когда вы поживете такъ, продолжала она, вы тоже найдете, что куда не занимательно смотрѣть на всѣ эти народный пьесы. Ну, чѣмъ вы мнѣ докажете, что въ жизни людей, которыхъ вы называете аристократами, меньше матеріаловъ для комедіи и драмъ, чѣмъ у купцовъ, мелкихъ приказныхъ и ямщиковъ?
– Тутъ страсти проще и есть борьба съ нуждой. Нѣтъ такой испорченности.
– Извините меня, даже этотъ патріархх… котораго играетъ Садовскій, хоть онъ и сладко говоритъ, но третируетъ свою дочь хуже вещи. А это еще идеалъ! Что же остальные?.. Я вѣдь, Николай Иванычъ, не въ журналахъ вычитала то, что говорю вамъ теперь; я до этого своимъ умомъ дошла – не прогнѣвитесь…
– Что же тутъ дѣлать! перебилъ я, никто же не виноватъ, что въ вашемъ обществѣ нѣтъ писателей, изображающихъ высокія чувства и мысли?!
– Есть, Тургеневъ. Да никого и не обвиняю, но, признаюсь, только одно «Горе отъ ума» и считаю хорошимъ спектаклемъ.
Это заключеніе она произнесла такимъ тономъ, что «довольно-молъ, выпей, если хочешь, еще чашечку чайку, да и убирайся».
Я попросилъ еще чаю; мнѣ не хотѣлось уходить, «не солоно хлѣбавши». Умъ графини, ея языкъ, смѣлость, – все это раздражало меня несказанно, и въ головѣ опять запрыгала французская фраза черномазенькой дѣвицы.
XXIII.
Подавая мнѣ вторую чашку, графиня, уже другимъ, нѣсколько утомленнымъ голосомъ, сказала:
– Я, быть можетъ, дурно дѣлаю, что отнимаю у васъ иллюзію… Теперь въ такой ыодѣ восхищаться полушубками.
Тутъ я не выдержалъ и, поставивъ на столъ чашку, отрѣзалъ:
– Такъ по вашему, графиня, надо зачитываться Дю-масами и Бальзаками?
Я ожидалъ чего-нибудь по носу; но меня преспокойно спросили:
– А что вы читали изъ Бальзака?
Лгать я не хотѣлъ и очень хорошо помнилъ, что по-французски не прочелъ ни одного романа Бальзака. Въ переводѣ читалъ когда-то одну повѣсть, еще гимназистомъ, въ старой «Библіотекѣ для чтенія» Сенковскаго. Къ счастію, я не забылъ русскаго заглавія.
– Читалъ-съ, отвѣтилъ я съ увѣренностью, «Старика Горіо».
– Какъ?.. переспросила она. Вы вѣрно по-русски читали?
– Да-съ.
– Этотъ романъ называется «Le рёге Goriot»…
Если вы его со вниманіемъ прочли, вы не можете не согласиться, что это – прекрасная вещь. Вотъ вамъ драма!.. Вы больше ничего не читали?
– Нѣтъ, я по-французски читаю только научныя вещи.
– А сейчасъ такъ грозно обошлись съ Бальзакомъ. Полноте, Николай Иванычъ, зачѣмъ все дѣлать изъ себя юнаго студента? Вы гораздо старше этого. Увѣряю васъ. Вы повѣрили какому-нибудь русскому критику?
– Я привыкъ вѣрить Бѣлинскому.
– Слыхала о немъ; но не помню, читала-ли. Если онъ ставитъ Бальзака на одну доску съ Дюмасами, какъ вы называете, то онъ просто не заглядывалъ въ него. Вотъ когда-нибудь пріѣдете къ намъ въ Слободское – я вамъ дамъ нѣсколько томиковъ. Да припомните и Горіо. Развѣ тамъ одни аристократы? Самъ онъ старый аферистъ, дочери его – des parvenues… вы понимаете?..
– Понимаю-съ, злился я.
– Одинъ только молодой Растиньякъ – дворянинъ; а остальные – студенты, старухи, полицейскіе… Но все это живетъ… видишь все это отсюдд… Я готова просидѣть цѣлую ночь надъ такимъ романомъ! А ужь ѣхать во второй разъ смотрѣть на Васильева въ пьяномъ ямщикѣ – извините!
Графиня встала. Было уже поздно. Она протянула мнѣ руку; такъ протягиваетъ ее великодушный побѣдитель юному, но смѣлому побѣжденному.
Я пожалъ и, не выпуская ея руки, посмотрѣлъ на нее очень пристально и выговорилъ, насколько могъ просто:
– Позвольте узнать, графиня… вы по-французски-то сильнѣе меня… какъ слѣдуетъ перевести фразу: «femme à crime»?
Выговорилъ я эти три слова по-нашему, по-гимназически… Графиня не стала улыбаться моему произношенію и спокойно, но съ блескомъ въ глазахъ, спросила:
– Почему вамъ пришла на умъ эта фраза?
– Слышалъ я ее сегодня… и затруднился перевести какъ слѣдуетъ по-русски.
– Мнѣ кажется, выговорила она, чуть-чуть сжимая брови, можно перевести на два манера: женщина, сдѣлавшая преступленіе, или такая, которая способна на него.
– А!., значитъ мой переводъ былъ въ сущности вѣренъ?
– А какъ вы перевели?
– «Женщина-душегубка».
– Ха-ха-ха!., глухо разсмѣялась она и отдернула руку… вы все хотите въ народномъ стилѣ…
– Благодарю васъ, громко выговорилъ я и откланялся.
Она отпустила меня поклономъ, и когда я уже быть въ дверяхъ, окликнула:
– Николай Иванычъ!
– Что прикажете?
– Вы услыхали эту фразу сегодня въ театрѣ?
– Да-съ, сзади меня какія-то барышни мѣшали французское съ нижегородскимъ.
– Больше ничего?
– Больше ничего-съ.
– Прощайте.
Мнѣ захотѣлось оглянуться на нее ещз разъ; но я этого не сдѣлалъ. По моимъ внутренностямъ разлилось злорадное довольство: теперь я одержалъ побѣду. Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ казалось. Я смутилъ ее неожиданностью.
Но не успѣлъ я выдти изъ гостиной въ залу, какъ вопросъ: «неужели она въ самомъ дѣлѣ – femme à crime?» засосалъ меня.
– А очень мнѣ нужно! чуть не выругался я, и опять явилось обидное сознаніе, что и сегодня, въ литературномъ диспутѣ, эта графиня взяла выше нотой. Все ея существо точно обволакивало меня и, какъ я ни бѣсился. тянуло куда-то.
Въ передней я наткнулся на графа въ ту минуту, когда сонный лакей снималъ съ меня шубу. Графъ былъ очень блѣденъ.
Мнѣ показалось, что эта блѣдность – неспроста.
– Покойной ночи, графъ… окликнулъ я его, проходя къ лѣсенкѣ моего антресоли.
– А! отозвался онъ и, уставивъ на меня точно стеклянные глаза, твердо, но глухо проговорилъ: покойной ночи!
Я шагая чрезъ три ступеньки, вбѣжалъ къ себѣ наверхъ.
– Неужели я былъ правъ на хуторѣ? громко спросилъ я себя, и мнѣ вдругъ сдѣлалось жаль ее, эту смѣлую, крупную, даровитую женщину. Она тутъ учила меня уму-разуму; а мужъ въ это время!.. Но я не вполнѣ еще увѣрился, что графъ былъ въ такомъ положеніи.
«Зачѣмъ мнѣ читать Бальзака? думалъ я, ворочаясь въ постели. Довольно съ меня и того, что я здѣсь увижув.
Тогда я разсуждалъ съ задоромъ посторонняго наблюдателя и обличителя, и мнѣ казалось, что я такъ чистъ духомъ, тѣломъ и помыслами… Я уже забылъ, что часъ передъ тѣмъ, скажи мнѣ графиня лишнее, ласковое слово, я бы, быть можетъ, какъ звѣрь кинулся на вее…
XXIV.
Меня влекло въ голубую комнату, но пособилъ графъ: пришла очередь его «запискамъ» и «мнѣніямъ», хранившимся въ бюро.
– Я буду смѣло стоять за крестьянина, заговорилъ онъ торжествено въ первый вечеръ, какъ мы засѣли въ кабинетѣ, вы можете мнѣ вѣрить.
– А за землю крестьянина? спросилъ я его въ упоръ.
Тутъ онъ не то, что смутился, а многословно началъ развивать, что нельзя-же признать безусловное право власти – отнимать у дворянъ землю, что это хотя и симпатично, но сильно отзывается революціонной диктатурой и соціализмомъ, «а соціализмъ, какъ хотите…»
Захотѣлось мнѣ тутъ-же оборвать его, но я удержался. Я сообразилъ, что лучше сначала хорошенько у него все вывѣдать, а потомъ уже и рѣшать: какъ съ нимъ обходиться. Во всякомъ случаѣ, онъ былъ еще одинъ изъ самыхъ мягкихъ сквайровъ, и черезъ него я узнаю: каково-то настроеніе разныхъ вожаковъ «столбоваго дворянства» въ Москвѣ-бѣлокаменной?
Такъ я и сдѣлалъ. Онъ развернулся предо мной и въ тожо время какъ-бы заискивалъ моего одобренія; каждое его слово и каждый жестъ точно будто говорили: «согласитесь, вѣдь для московскаго барина я, право, очень порядочный человѣкъ и съ каждымъ днемъ исправляюсь».
И дѣйствительно, онъ «исправлялся». Это чувствовалось. Онъ похожъ былъ на ученика съ выдержкой, которому зарубили на носу: «коли ты не добьешься такихъ-то отмѣтокъ, то слѣдующаго класса тебѣ не видать, какъ ушей своихъ».
Это «школѣ» я приписывалъ и его сдержанность, ь тактъ, и положеніе его въ домѣ. Я послѣ болтовни черно-мазенькой барышни, спросивъ себя: точно-ли графъ въ рукахъ жены своей безсловесная пѣшка и въ домѣ—нуль, долженъ былъ отвѣчать: нѣтъ, это неправда. Онъ былъ баринъ, какъ слѣдуетъ быть барину; но какъ мужъ, онъ что-то слишкомъ ужь былъ порядоченъ. Я этакихъ мужей только изъ англійскихъ романовъ зналъ.
Съ утра до поздней ночи онъ велъ себя точно въ гостяхъ у хорошихъ знакомыхъ. Прислуга исполняла службу неизвѣстно по чьему приказу. Все дѣлалось въ порядкѣ, чинно, тихо. Громкихъ приказаній, ни графъ, ни графиня почти что не отдавали: больше жестами довольствовались. Въ интимныхъ бесѣдахъ съ женой я его не заставалъ и, проживъ двѣ недѣли въ домѣ, не зналъ, въ какіе часы они оставались вдвоемъ. Опочивалъ онъ съ нею, – я заключилъ это изъ того, что въ кабинетѣ его не было никакого приспособленія для спанья. За столомъ, въ обѣдъ и завтракъ, онъ говорилъ не мало, гораздо больше жены, совершенно почти такъ, какъ со мной, только еще посдержаннѣе; хуторскаго-же «гвардейства» и въ поминѣ не было. Графиня обращалась къ нему тихо, просто, какъ къ родному, но очень рѣдко взглядывала на него. Они были на «ты» – даже по-французски. Онъ звалъ ее «Barbe» и въ русскомъ разговорѣ; она его съ русскимъ произношеніемъ – «Платонъ». Объ домашнихъ дѣлахъ они при мнѣ ни разу не разговаривали, и ни разу-же не вышло у нихъ ни малѣйшаго разногласія, не только что ужь спора.
«Что-же это такое? спрашивалъ я себя, равнодушіе, или ужь такая въ самомъ дѣлѣ аристократическая выправка?» Въ выправкѣ я не сомнѣвался; но отъ кого она шла? Отъ него или отъ нея? Мнѣ казалось, что отъ нея. Равнодушіе врядъ-ли вызывало эту великобританскую ровность обхожденія. Графъ при женѣ находился всегда въ возбужденномъ состояніи Я это подмѣтилъ въ первый-же день. Нѣтъ-нѣтъ да и поглядитъ на нее, и въ этихъ взглядахъ сидѣло далеко не равнодушіе. Они сильнѣе еще, чѣмъ его фразы со мною, говорили: «Достоинъ я одобренія, или нѣтъ»?
Вотъ что дали мнѣ наблюденія надъ супругами. Они не разнились ничѣмъ существеннымъ отъ моего перваго впечатлѣнія. Еще замѣтилъ я, что графъ гораздо нѣжнѣе съ дѣвочкой, чѣмъ графиня. Онъ то-и-дѣло послѣ обѣда возьметъ ее на колѣна, или уведетъ въ кабинетъ, откуда дѣвчурка выбѣжитъ всегда съ конфектами или съ крымскимъ яблокомъ. Графинѣ не очень-то нравилось это баловство. На дѣвочку она не кричала, но обращалась съ ней черезчуръ ужь ровно, чтобы не сказать сухо.
Эта дѣвочка со мной только раскланивалась. Разспросить ее я не могъ ни о чемъ, да и не захотѣлъ бы, еслибъ и могъ. Но ея поразительное несходство ни съ графомъ, ни съ графиней почему-то подмывало меня. Разъ я, ни съ того, ни съ сего, остановилъ графа и спросилъ его:
– У васъ дѣтей больше не было, кромѣ Наташи?
Онъ немного поежился какъ-то и отвѣтилъ:
– Это не моя дочь.
– Какъ не ваша? схитрилъ я.
– Наташа – дочь графини отъ перваго мужа, князя Дурова.
– А! вырвалось у меня.
Стало быть, въ болтовнѣ черномазенькой была правда.
– Ау васъ не было дѣтей? продолжалъ я свой допросъ.
– Нѣтъ, не было.
Больше я не допытывался, замѣтивъ, что его сіятельству это не особенно нравится: значитъ, я дотронулся до какой-нибудь раны.
Тогда объ Дарвинѣ еще слыхомъ не слыхали, а все-таки меня очень бы заинтересовалъ вопросъ наслѣдственности, глядя на дочь графини, еслибъ законнымз ея отцемъ былъ графъ. Съ другой стороны, его особенная нѣжность съ этой дѣвочкой показалась мнѣ подозрительной. Но будь графъ ея настоящій, хотя бы и не законный отецъ, откуда-же это полнѣйшее отсутствіе сходства?
Точно помогая моему дарвиновскому любоныству, графиня сама спросила меня разъ, переходя изъ столовой въ залу:
– Кто подумаетъ, что Наташа моя дочь?
– Да, подтвердилъ я. Сходства никакого.
– Но она и на отца своего ни мало не похожа.
– На графа? спросилъ я съ намѣреніемъ.
– Нѣтъ, выговорила она сухо, на моего перваго мужа, князя Дурова.
– А! протянулъ я, и какое-то злорадное чувство защекотало меня. Я въ эту минуту не далекъ былъ отъ черномазенькой барышни. Меня это огорчило, и я до отъѣзда положительно избѣгалъ угловой комнаты, чтобы не предаваться такой суетности.
XXV.
Мнѣ оставался всего денекъ до отъѣзда восвояси. Графъ свозилъ меня въ два дома, гдѣ каждый почти день толковали объ эмансипаціи. Одинъ домъ былъ славянофильскій. Все въ немъ показалось мнѣ курьезно: и хозяинъ въ купеческихъ сапогахъ, но съ французскимъ діалектомъ, и византійскія иконы, и стулья, раскрашенныя въ русскомъ вкусѣ, и языкъ, какимъ раздобаривали промежь себя эти бары. Что они бары, какъ слѣдуетъ, хотя всѣ почти распинались за «святаго мученика», т. е. за крестьянина, въ этомъ я убѣдился въ первыя десять минутъ, какъ послушалъ ихъ бесѣды. Хоть и то хорошо было въ этомъ всеславянскомъ гнѣздѣ, что въ немъ теоретически и красно отрицали самое слово «русскій дворянинъ» и не смѣли просить личнаго выкупа. Говорили всѣ очень велерѣчиво, точно они представляютъ на сценѣ именитыхъ бояръ въ парчевыхъ шубахъ. Насчетъ «боярской думы» тоже прохаживались. Ииъ, я думаю, всего больше и хотѣлось угодить въ бояре, потому они такъ злобно и дворя" ство-то уничтожали. Каждый не прочь былъ попасть и послѣ воли въ патріархи своей волости и, разумѣется, посѣкать при случаѣ «святаго мученика».
Какой-то пьяненькій и точно юродивый господинъ, рябой, въ потертой плисовой поддевкѣ и въ очкахъ отвелъ меня въ сторонку, гдѣ была приготовлена закуска, и пропуская одну рюмочку за другой, сказалъ:
– Вы, я вижу, вновѣ. Не вѣрьте имъ, это они – зря! Я у нихъ который годъ въ услуженіи, и во-о (онъ указалъ рукой) какое мѣсто всякаго дрянца имъ пособиралъ въ деревняхъ. Они – господа расейскіе, только больше все по нѣмецкимъ книжкамъ обучались.
Разсмѣялся я этой выходкѣ, такъ она мѣтко очерчивала весь ихъ скитъ. Я даже выпилъ рюмку водки съ любителемъ спиртного въ поддевкѣ.
Возвращаясь домой, его сіятельство изволилъ разъяснить мнѣ: какіе-такіе есть въ Москвѣ славянофилы, при этомъ точно будто подсмѣивался намъ ними; но чувствовалось, что онъ ихъ побаивается и считаетъ гораздо покраснѣе, чѣмъ себя напримѣръ. Онъ у нихъ прималчивалъ и выказывалъ такую напряженность въ лицѣ, слушая мудрую бесѣду, что мнѣ его даже жалко стало.
Я только моталъ себѣ на усъ и никакихъ замѣчаній не дѣлалъ. Такъ же повелъ я себя и послѣ «засѣданія» въ другомъ, уже западническомъ домѣ, или правильнѣе – салонѣ. Тутъ хозяина я не замѣтилъ, а орудовала всѣмъ хозяйка, узколицая, смуглая, худая, нестарая дама, изъяснявшаяся одинаково свободно и по-русски, и по-французски. Она точно предсѣдательствовала въ какомъ-то комитетѣ; говорила со всѣмм присутствующими и словами, и глазами, и движеніями головы. Въ этотъ вечеръ всѣхъ занималъ пріѣзжій изъ Петербурга модный чиновникъ, очень чопорный и напряженный, большой должно быть мастеръ докладывать; изъ его доклада значилось, что тамъ, наверху, «все уже рѣшено». Много его не разспрашивали, что это «все»; но мужчины какъ будто были рады, не тому, что рѣшено, а тому, что наконецъ чѣмъ-нибудь да это кончится.
Въ сторонкѣ я и тутъ выслушалъ, но уже не характеристику хозяевъ, а разговоръ двухъ старушекъ. Одна разсказывала все о митрополитѣ: какъ онъ утромъ того дня «чувствовалъ себя прекрасно, а за чаемъ скушалъ цѣлыхъ полъ-просфиры».
Западническій домъ показалъ мнѣ то же, что и славянофильскій; но меня это ни мало не смутило. И тамъ, и тутъ, всѣ уже помирились съ фактомъ, и даже взапуски гонялись другъ съ другомъ, чтобы отличиться своей гуманностью и гражданской доблестью.
Графъ и на этотъ разъ не добился отъ меня никакихъ разсужденій. Я, кажется, ввелъ его этимъ самъ въ недоумѣніе. Вѣроятно онъ сообщилъ его женѣ.
Наканунѣ отъѣзда моего, графиня сама пригласила меня къ себѣ «въ гости», какъ она выразилась. Я ея не видалъ почти цѣлую недѣлю. Мнѣ и обѣдать не привелось дома. Я уѣзжалъ за разными закупками «въ городъ» и обѣдалъ гдѣ-нибудь въ трактирѣ, а то такъ просто «въ сундучномъ ряду» кое-чѣмъ: мозгами, ветчинкой или пирожками съ капустой и малиновымъ вареньемъ. Не скажу, чтобы я намѣренно избѣгалъ графини, но я пользовался всякимъ случаемъ пораньше уходить со двора. Мнѣ не хотѣлось провѣрять своихъ впечатлѣній. «Какова бы ни была эта барыня – мнѣ съ ней не дѣтей крестить,» – вотъ что я тогда рѣшилъ, ограждая не то свое самолюбіе, не то свою душевную свободу; можетъ быть, и то, и другое.
Графиня не стала мнѣ пенять моей дикостью. Она приняла меня съ такимъ дѣловымъ выраженіемъ лица, что я тотчасъ же подумалъ:
«Ну, рѣчь пойдетъ о хуторѣ».
XXVI.
Но я ошибся.
– Николай Иванычъ, начала она, слегка наморщивая брови, ваши симпатіи по крестьянскому дѣлу я знаю. Вы не фразеръ, и я охотно вамъ вѣрю.
Я поклонился.
– Графъ вамъ читалъ свои записки. Вы знаете теперь къ чему онъ расположенъ; но по-вашему этого мало – не такъ-ли?
Я опять молча кивнулъ головой.
– Вотъ вамъ – дѣло по душѣ. Графъ богатый помѣщикъ… Разумѣется, сдѣлается такъ, какъ хотятъ тамъ. (И она подняла руку вверхъ); но лучше, чтобы и здѣсь дѣлалось по-вашему…
– Но что-жь я могу, графиня, перебилъ я.
– Выслушайте меня. Если вы дѣйствительно хотите служить вашей идеѣ – я постараюсь поставить васъ въ такое положеніе, гдѣ вы будете правой рукой графа и благодѣтелемъ всѣхъ его крестьянъ. Угодно вамъ?
Я раскрылъ широко глаза.
– Что-жь вы на меня такъ смотрите? съ улыбкой окликнула она.
– Не знаю, что вамъ сказать, отозвался я съ гадкой усмѣшечкой; это такъ заманчиво, графиня, и такъ смѣло…
Я запнулся.
– Полноте, продолжала она, что это вы все какъ-то увертываетесь, Николай Иванычъ. Четыре недѣли вы прожили у насъ, и до сихъ поръ не хотите стать со мною на равную ногу. Это право… обидно… за eacsl
Графиня какъ будто покраснѣла; но краска не выступила на щекахъ; потому я узналъ, что она краснѣть не умѣетъ.
– Помилуйте, графиня, началъ-было я…
Но она, не слушала меня, встала, прошлась по комнатѣ и, ни къ кому не обращаясь, говорила:
– Для умнаго человѣка съ характеромъ все равно какая внѣшность у женщины: графиня она, или простая мужичка. Если то, что она говоритъ и предлагаетъ – хорошо, надо брать безъ всякихъ заднихъ мыслей; иначе это мелкое самолюбіе: какъ смѣетъ, дескать, русская барыня раздѣлять наши идеалы!
Все это было выговорено не гнѣвно, даже не запальчиво, но сильно, не то съ грустью, не то съ упрекомъ. Голосъ остался тотъ же, и ни одинъ нервъ въ лицѣ не дрогнулъ.
Я былъ просто уничтоженъ. Тутъ ужь не было никакихъ чувственныхъ раздраженій. Разговоръ происходилъ не вечеромъ, а въ полдень, каминъ не топился, цвѣты не выглядывали изъ темнаго угла, не блистали предо мною благоухающія плечи… Предо мной вскрылась внезапно могучая женская натура, которую я оскорбилъ своимъ мѣщанскимъ умничаньемъ и упорствомъ, своей лакейской недовѣрчивостью. Такъ я показался самъ себя гадокъ и пошлъ въ эту минуту, что подбѣжалъ къ графинѣ, схватилъ ее за руки, нѣсколько разъ поцѣловалъ, какъ школьникъ, какъ преступникъ, какъ рабъ…
– Не гнѣвайтесь, шептали мои уже поблѣднѣвшія губы… Простите…
Не могу припомнить, какія были первыя слова, сказанный въ отвѣтъ графиней; только черезъ нѣсколько секундъ мы ужь очутились съ ней рядомъ на диванѣ, и моя рука продолжала держать ея руку.
Лицо ея, все такое же бѣлое и свѣтлое, глядѣло на меня съ довѣріемъ и ласкою. Глаза говорили, что нечего мнѣ просить прощенья, что меня понимаютъ лучше, чѣмъ я самъ себя разумѣю.
– О себѣ я вамъ ничего не скажу, вымолвила мнѣ она тихо и вдумываясь, точно въ каждое слово. Обо мнѣ рѣчь впереди. Мы вѣдь съ вами увидимся лѣтомъ.
– Приказывайте, приказывайте, повторилъ я, хоть сейчасъ же…
– Нѣтъ, перебила она меня, угадывая мою мысль, поживите на хуторѣ еще съ полголода, приготовьтесь хорошенько, изучите рѣшительно все, что вамъ нужно для успѣха великаго дѣла. Я – вашъ союзникъ. Только уговоръ лучше денегъ, – впередъ выставляться я не хочу.
Она встала, и аудіенція кончилась. Я вышелъ преисполненный радостью, упреками себѣ, вѣрой въ будущее, увлеченный въ самомъ заманчивомъ и опасномъ смыслѣ слова. Желая сохранить во всей свѣжести впечатлѣніе этой короткой бесѣды, чудной по неожиданности и содержанію своему, я чуть не тайкомъ скрылся изъ Москвы.
Вечеромъ я на-скоро простился съ графомъ, сказалъ ему, что хочу добраться на вторую ночевку до хутора, и выѣхалъ еще до-свѣта, въ пять часовъ утра. Я бы долженъ былъ сходить проститься съ графиней, но я этого не сдѣлалъ, собираясь тайно объясниться съ ней при свиданіи, а можетъ быть и написать ей объ этомъ. На мысли объ ней я заснулъ въ кибиткѣ, отъѣхавъ уже станцій пять отъ Бѣлокаменной. О графѣ я ни разу и не вспомнилъ. Никакого опредѣленнаго чувства не вызвала во мнѣ его личность за все мое житье на Садовой.
XXVII.
Хуторъ вдругъ сталъ для меня ссылочнымъ казематомъ. Въ первый же день, нанюхавшись угара (моя мордовская экономка угощала имъ черезъ день) и лежа со страшной головной болью, я дико осматривалъ бревенчатые углы моей избенки. Дѣло, то самое дѣло, на которое снарядила меня она, было тутъ, подъ бокомъ; но мнѣ точно не хотѣлось готовиться одному безъ нея. Да и къ чему я могъ приготовиться? Мужицкую нужду я зналъ, зналъ хозяйство крестьянина, зналъ, что для него воля, безъ земельныхъ угодьевъ, все равно что крѣпость. Большему я не научился бы на хуторѣ. Толковать зря, безъ толку съ «православными» – только смущать ихъ, подставлять ихъ, пожалуй, подъ исправничьи палки; изучать помѣщиковъ-сосѣдей въ этомъ же духѣ—рѣшительно не стоило: я видѣлъ на что способенъ майоръ Лессингъ и мягкостелющій Шутилинъ. Въ должностныя лица я не попаду; не придется мнѣ и бороться съ ними. Если я понялъ графиню, она, назначивъ меня «правой рукой» мужа, подчинитъ его моему вліянію. Онъ получитъ, быть можетъ, важное мѣсто по крестьянскому дѣлу. Его голосъ будетъ что-нибудъ да значитъ. И потомъ, у него три тысячи душъ, ихъ онъ можетъ обидѣть или щедро одѣлить; стало, если сдѣлаться его правой рукой, – все поведу я.
Да, я такъ ее понялъ, и теперь остается ждать, когда она скажетъ: – «пожалуйста, начинайте дѣйствовать». Но къ такой роли я былъ достаточно подготовленъ. Неужели она не замѣтила этого? Конечно не замѣтила, и виноватъ я самъ. Вмѣсто того, чтобы споритъ съ ней о литературѣ, я бы долженъ былъ разсказать ей: что я дѣлалъ въ медвѣжьемъ царствѣ, вошелъ ли я какъ слѣдуетъ въ мужицкую сермягу или нѣтъ?
Графское хозяйство опостылѣло мнѣ. Я велъ его какъ чиновникъ, но вовсе не какъ агромонъ. Спеціальныя книжки не привлекали меня, охота не тѣшила, въ разговорахъ съ пріятелями изъ крестьянъ я былъ до крайности сдержанъ – боялся слишкомъ ихъ обрадовать, да и не надѣялся вполнѣ на то, что, кромѣ собственной души, они унесутъ что-нибудъ изъ барскаго добра. Тѣло мое жило на хуторѣ, но воображеніемъ, мыслъю, порывомъ я оставался на Садовой, въ угловой комнатѣ, около той, кто меня такъ побила силой, блескомъ, правдой, обаяніемъ своей личности. Женщина являласъ предо мной ежедневно, и ея мраморный обликъ привлекалъ къ себѣ какъ нѣчто, почти невозможное на Руси, но тѣмъ не менѣе живое, существующее.
Вѣдь я видѣлъ её, эту графиню Кудласову, бившую княгиню Дурову, собственными глазами видѣлъ, ощущалъ её, знаю, какими духами она душится, какъ пьетъ чай, какъ куритъ папиросы; знаю, что у ней сѣрые чулки и туфли съ пунцовыми бантами, красная кацевайка и пуховая лебяжья мантилья. Мало того, я держалъ ее за прекрасные бѣлые пальцы, видѣлъ крупную бирюзу ея кольца, цѣловалъ руку и шепталъ слова прощенья; слышалъ этотъ грудной, вздрагивающій, мягкій и повелительный голосъ. Все это не мечта, не въ романѣ вычитано, а происходило въ Москвѣ, на Садовой, въ собственномъ доыѣ и даже не его, а ея сіятельства, какъ я самъ прочелъ на воротахъ.
Да, но все это было и исчезло. Предо мной же стоитъ Капитонъ Ивановъ и докладываетъ, что двадцать коровъ, десять телокъ и три бычка поставлены на барду «къ господину Шутилину».
Какъ я томился въ моемъ бревенчатомъ острогѣ, какою колоссальной глупостью казалось мнѣ мое бѣгство изъ Москвы! Развѣ я ие могъ оставаться сколько хотѣлъ, хоть до великаго поста? Графъ былъ въ восхищеніи: стоило только слушать чтеніе его записокъ. Но она меня отпустила. Она дала мнѣ прощальную аудіенцію, напутствовала и благословила. А виноватъ все-таки я самъ! Зарекомендуй я себя полнѣе, вѣрнѣе, обстоятельнѣе, она удержала бы меня при графѣ. Изъ этого круга упрековъ и соображеній я не могъ выбраться. Мнѣ тогда ни мало не совѣстно было того рабства, въ какое я вдругъ, по доброй волѣ, окунулся. Точно будто моей личности совсѣмъ и не существовало, а была только она, и никто ни выше, ни ниже, ни вокругъ, ни около. Такъ сильны были нравственные удары, нанесенные этой женщиной самомнѣнію самоучки-студента, считавшаго себя и отмѣнно умнымъ, и отмѣнно краснымъ, и отмѣнно суровымъ по части аристократовъ.
«Взяла нотой выше» – вотъ что звучало безпрестанно въ ушахъ; а кровь, нервы двадцати-шестилѣтняго медвѣжатника додѣлывали остальное вмѣстѣ съ обаяніемъ такого изящества, такой женской смѣлости, такихъ просвѣтовъ въ мірѣ красоты и неожиданности, о которыхъ и не снилось пѣвчему университетскаго хора, хуторскому управителю «изъ ученыхъ», оберъ-офицерскому сыну, не бравшему въ жизнь свою за руку ни одной благообразной дѣвицы, хоть для того только, чтобы протанцовать съ ней контрадансъ.








