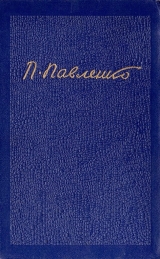
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Они молчат. Зина пробует заговорить:
– Костя… Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело… Слишком резко Яков выступил сегодня.
Миронов раздраженно перебивает ее:
– Яков – бурбон! Да, да, бурбон, самодур! Видите, он желает управлять… Возомнил себя государственным деятелем.
Зина гладит руку Миронова, она ищет слова, которые бы его не задели.
– Предположим, что Яков неправ, но… но, Костя, милый, прав ли ты, ты подумай.
Миронов резко выдергивает руку:
– Оставь свои дурацкие вопросы, Зина… – Он идет и бормочет почти про себя: – Нет… теперь только в армию. В армии мы поговорим по-другому…
Зина тихо возражает:
– Но тебя могут не пустить в армию…
Миронов яростно отвечает:
– Пусть попробуют! Меня потребует Троцкий… Поеду на Украину, там будет иной стиль работы…
Они опять идут молча. Миронов продолжает бормотать:
– Интересно все же, кто это наябедничал на меня Якову? Неужели Трофимов?.. А я, дурак, столько времени потратил, чтобы обтесать этого хама…
Зина не выдержала:
– Как не стыдно, Костя! При чем тут Трофимов?.. Трофимов преданный большевик…
Миронов опять перебивает ее:
– Преданный холуй! Я знаю, он был у Якова перед отъездом в армию… Он, наверное, шпионит за нами…
Зина вздрогнула.
– За нами? За кем это – за нами?
Миронов со сдержанной досадой:
– А ты не старайся понять все сразу, Зина. Когда придет время, я тебе сам все объясню. – Он даже берет ее под руку.
– Хорошо, Костя, ты требуешь от меня подчинения, я подчиняюсь тебе… Я хочу верить тебе… Но мне кажется за последнее время, что я вдруг оглохла, ослепла. Мне кажется, что ты о многом умалчиваешь, Костя.
Миронов закуривает папиросу и, то ли случайно, то ли нарочно, ничего не отвечает Зине. Они подходят к беседке, знакомой нам по ярмарочному гулянью. Переплет ее поломан, вместо скамьи торчат полусгнившие остатки, а от статуэтки амура осталось лишь некое облупленное подобие…
Миронов останавливается у обшарпанной колонны, он чиркает одну за другой спички, стараясь прикурить на ветру.
Зина входит в беседку. Перед ней волжский пейзаж, величественный даже в эту серую погоду.
Она говорит задумчиво:
– А помнишь, Костя, как много лет тому назад вот здесь, на этом самом месте, мы поклялись в верности друг другу… – Зина подходит к Миронову, – и в верности революции!
Миронов желчно ее обрывает:
– Перестань юродствовать, Зина! Как глубоко еще сидит в тебе эта интеллигентская гниль… Вечное самокопание!..
Не говоря ни слова, Зина резко поворачивается и уходит вниз по дорожке, ведущей к Волге. Миронов сначала делает движение ей вслед, а потом досадливо тушит недокуренную папиросу о сломанную статуэтку безносого амура.
Рассвет. Легкий туман. Талый снег. На краю обрыва стоят трое. Среди них Трофимов. Он без гимнастерки, без шинели. Напротив стоят Миронов, представители воинских частей. Среди них нижегородский «матрос», Зина.
«Матрос» читает «приговор»:
«Руководствуясь революционной совестью, комиссара Николая Трофимова, комиссара Литвиненко и политрука Дрезина – первого за подрыв авторитета военспецов и попытку покинуть свою часть под видом командировки в Москву, то есть за дезертирство, а второго и третьего за агитацию против штабного руководства и попытку укрыть дезертира – расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно».
«Матрос» командует приговоренным:
– Разувайтесь!
Трофимов не спешит выполнить приказ. Он смотрит на Миронова.
– Скидывай сапоги, говорят, ну! – кричит «матрос».
– Теперь я тебя до конца всего понял, – не торопясь, говорит Трофимов, – значит, предатель революции ты! Ну что же, Миронов, твоя пуля меня не обманет. Одно мне до горла больно, не узнает про тебя правду Михалыч.
Залп.
– Да здравствует Ленин! – успевает еще крикнуть Трофимов и падает мертвый…
И как бы в ответ на последние слова Трофимова мы слышим шопот Леньки, сидящего с Зиной в столовой квартиры Свердлова.
– В том-то и дело, Зинаида Васильевна, что он ничего не знает! И вы, пожалуйста, ему про Трофимова ничего не говорите, он же любил его, уважал. Знаете, какой человек был Трофимов! А поправится Яков Михалыч, сам про все узнает, а сейчас ему об этом говорить нельзя, ни-ни, у него сегодня температура на градуснике сорок была…
– Хорошо, Леня, – отвечает Зина и идет к двери, тихо приоткрывает ее и проходит в комнату, где лежит больной Свердлов.
Ленька прикрывает дверь, отходит на цыпочках к телефону и снимает трубку:
– Комендатура! Доктор Лейбсон еще не приходил? Оставьте ему, пожалуйста, пропуск к Якову Михайловичу. Вот, вот, спасибо!
Он тихо кладет трубку.
В комнате Свердлова опущены шторы. Яков Михайлович сидит в кресле. Он лихорадочно оживлен. Изредка прикладывает пузырь со льдом к воспаленному лбу.
Зина сидит рядом. Она привстает, хочет уйти.
– Ну, я пойду, Яков.
Яков Михайлович быстро останавливает ее:
– Нет, нет, Зинушка, я тебя никуда не пущу. Мне совсем не трудно говорить. Пожалуйста, ты мне все сейчас о себе расскажешь, мы ведь так долго не виделись.
Зина опять опускается на стул:
– Ну, что же рассказывать, Яков… – Она на мгновенье умолкает. – С Мироновым я разошлась… – И, отвечая на вопросительный взгляд Свердлова, продолжает: – Ты понимаешь, Яков, последнее время мы с ним жили совершенно, как чужие… У него была своя жизнь, у меня – своя… Раньше нас связывала работа, партия, а теперь у меня такое чувство, будто мы с ним даже не в одной партии… у него появились новые друзья… Они закрываются… у него в комнате шушукаются… совещаются… При мне молчат… Ну и, наконец, наконец эта история с Трофимовым…
Ленька, тихонько вошедший в комнату с питьем, делает за спиной Свердлова умоляющие, предостерегающие жесты.
Зина осеклась, умолкла, уткнулась в носовой платок. Яков Михайлович ничего не заметил, он ласково треплет Зину по руке, сильно закашлялся. Отдохнул. Сказал:
– Ничего, ничего, Зинуша. Все пройдет. Все пройдет. А Трофимов действительно раньше нас всех раскусил Миронова. Замечательный Николай человек, замечательный! – Яков Михайлович оживился. – Зинушка, Зинушка! Ты помнишь Нижний?.. И Николай, этот озорной, полуграмотный парень, как он на наших глазах вырос в настоящего большевика, настоящего ленинца… Недаром Миронов и иже с ним так его ненавидят… Сейчас же, как только кончится съезд, я его вызываю с Украины. У меня приготовлено для него очень интересное, очень ответственное дело.
Его перебивает Ленька:
– Вот что, Михалыч! Тебе в кровать лечь надо!..
– Ох, Ленька, уйди, пожалуйста, сделай милость, уйди. Не могу я сразу три дела делать: и с Зинушей разговаривать, и тебя ругать, и съездом заниматься.
Дверь открывается, и в комнату быстро входит доктор Лейбсон.
Свердлов, увидев доктора, хочет встать к нему навстречу:
– Миша, доктор мой золотой, Мишенька!
Доктор взволнован. Он мягко, но решительно удерживает Свердлова в кресле:
– Тише, тише, Яков, я к тебе сначала как к больному…
– К больному? – возмущается Свердлов.
– Здравствуй, Зинуша, – приветствует Лейбсон Зину.
– Мишенька, Мишенька, ты свинья. Быть в городе и не приходить! О мой дорогой, мой сердечный, скромный друг!
Доктор профессиональным жестом проверяет пульс, качает головой:
– Яков, моментально в постель.
Яков Михайлович отрицательно качает головой. Он показывает на материалы к съезду.
– Ну, Яков, ты хочешь мне испортить всю радость встречи с тобой!
Яков Михайлович уступает:
– Миша, Мишенька, даю тебе слово, что буду делать все, что ты мне прикажешь. Но пойми, пожалуйста, пойми, я не могу не быть на съезде партии. Съезд через два дня.
– Дорогой, ты очень болен, тебе нужен полный покой. У тебя ведь очень высокая температура…
Зина, не отрывая глаз от Якова Михайловича, тихонько и незаметно уходит.
Свердлов, улыбаясь, смотрит на доктора.
– Да, да, я очень много болтаю?.. Я сейчас замолчу, сейчас, Мишенька, замолчу. Да, вспомнил, вспомнил, Михаил, вот что: мы сейчас организуем всерьез, очень всерьез, – потому что в длительность передышки, которую мы получили от врага, мы плохо верим… Мы организуем оборону отечества, – вот как это звучит. Я тебя направляю на организацию всего санитарного дела в новой, Красной Армии…
Лейбсон кладет руку на руку Свердлова:
– Яков…
– Я знаю, Мишенька, я знаю, что ты не умеешь… Вот и я тоже не умею быть председателем ВЦИК’а. Это между нами, я никому этого не говорю, и ты тоже никому не говори, что не умеешь. Надо уметь, и все.
– Яков, – молит его врач, – дорогой, через два дня мы поговорим, обсудим.
– Нет, нет, нет, плохой я был бы председатель ВЦИК’а, если бы все дела откладывал на два дня.
В комнату входит Ленин. Никем не замеченный, он приближается к креслу больного.
– Яков, – взывает врач.
– Я не могу без телефона, – тянется Свердлов к трубке.
– Яков Михайлович, доктора надо слушать, и телефон немедленно убрать! И лежать спокойно! – решительно требует Ленин.
Ленька быстро убирает телефон. Свердлов провожает телефон жадными глазами.
Ленин садится около постели Свердлова. Яков Михайлович просит:
– Владимир Ильич, не надо так близко, вы заразитесь…
– Пустяки, Яков Михайлович. Доктор хочет вас выслушать.
Доктор склоняется к нему, выслушивает сердце. Затем медленно поднимается от изголовья Свердлова.
Яков Михайлович ослабел, лежит с закрытыми глазами.
– Этот доктор, Владимир Ильич, мой самый хороший друг… Этот доктор может душу отдать за друга… Владимир Ильич, дайте вашу руку… Человек должен иметь сердце из стали… тогда у него может быть кольчуга из дерева, и он… не испугается в бою… Я не брежу, Владимир Ильич.
Профессиональная выдержка покидает доктора, он беспомощно смотрит на Владимира Ильича и отходит в сторону, чтобы скрыть свое горе.
– Эти слова, – продолжает Свердлов, – мы с Кобой писали вам из ссылки.
Доктор передает Леньке пустой пузырь для льда. Ленька берет пузырь и чашку, огромную цветистую чашку с надписью золотом «На добрую память», и тихонько, на цыпочках, идет к двери. Свердлов впадает в беспамятство:
– Владимир Ильич, здесь резолюции, все материалы к съезду.
Свердлов закашлялся.
Ленин, обняв его за плечи, прислонил его голову к своей груди. Свердлов затих.
16 МАРТА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО…
Ранняя весна. Тают подмерзшие за ночь сосульки льда.
Легкий туман над еще заснеженной Москвой.
Залит солнцем угол Кремлевского дворца, где помещается квартира Свердлова.
Слышатся громкие, постепенно стихающие звуки рояля. Играют «Похороны» Листа.
Солнечный луч прорывается сквозь окно в небольшую комнату – столовую, задевает стоящую на подоконнике миску, наполненную льдом, и ложится на ручку двери, ведущей в соседнюю комнату.
Звуки рояля замирают. Кружатся пылинки в солнечном луче. Тишина.
Дверь приоткрывается, и на цыпочках входит Ленька. У него слегка растерянный и очень озабоченный вид.
Ленька старательно прикрывает за собой дверь и идет к миске со льдом, стоящей на подоконнике.
Осторожно, стараясь не шуметь, крошит он кусок льда, наполняет им пузырь, а оставшиеся кусочки собирает в чашку. Он поднимает голову, и солнце слепит его…
За окном – кремлевская стена, идет лед на Москве-реке, темнеют ветви деревьев, приближается весна…
Ленька приоткрывает форточку. В комнату врывается далекий шум улицы и задорное чириканье воробьев.
Ленька блаженно жмурит глаза, глубоко вдыхая весенний воздух.
В комнату входит Аким в меховой ушанке и валенках.
Аким на цыпочках подходит к двери, но, заметив Леньку, окликает его шопотом.
Ленька вздрагивает, оборачивается, захлопывает форточку и устремляется к двери, вспомнив про пузырь со льдом.
Аким хватает его по дороге за рукав и шипит:
– Как же это так, елки-моталки… Не уберег, значит… А?
Ленька так же шопотом смущенно оправдывается:
– Так, понимаешь ли, дядя Аким, он еще в Харькове после съезда усталый был, а тут, понимаешь, на каждой станции народ требовал Якова Михайловича, и он на каждой станции выходил и речи говорил.
– Так. А ты чего глядел, ты чего глядел? – сокрушается Аким.
– Как чего глядел? А в Орел приехали, там опять митинг в мастерских, он речь сказал. Но речь, дядя Аким, речь сказал замечательную, так народ, знаешь, на руках его в вагон внес. Ну, а там жарко было, ну он вспотел, а на улицу вышел, он куртку расстегнул, ну тут его, видать, и прохватило.
– А ты где был, говори, а ты где был? – продолжает корить Леньку Аким.
– Я говорил: Яков Михайлович, иди в вагон. Так разве он послушает? Ты же знаешь? А когда в вагон вошел, и жар почувствовал…
Ленька оборачивается на звук отворившейся двери и умолкает.
Из комнаты Свердлова выходит доктор Лейбсон. Ленька и Аким бросаются к нему, но не смеют спросить… Доктор, как бы не замечая их присутствия, машинально берет протянутое Ленькой полотенце и вытирает сухие руки…
Из той же двери так же тихо выходит Ленин. Он подходит к доктору, спрашивает шопотом:
– Ну как, доктор?
Доктор вздрагивает:
– Все зависит от сердца…
Ленька и Аким тревожно переглядываются.
Доктор поворачивается к Владимиру Ильичу и говорит осипшим вдруг, глухим голосом:
– Ему осталось жить несколько часов.
Цветистая узорная чашка с надписью «На добрую память» выпадает из рук оторопевшего Леньки.
Кажется, что падает она очень медленно.
…И когда чашка коснулась пола и разбилась на мелкие куски, то не звон разбитого стекла услышали мы, а далекий тяжелый удар кремлевских часов.
Бьют четыре удара часы над Спасскими воротами, и с последним ударом наплывает на циферблат часов…
…Портрет Я. М. Свердлова в траурной рамке.
Руки кладут кипу газет с портретом Я. М. Свердлова на всю страницу газеты в траурной рамке.
У входа в вестибюль здания, в котором заседает VIII съезд РКП (б), на столе лежит кипа только что отпечатанных экземпляров «Правды». Над лестницей протянуто полотнище:
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ VIII СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)»
Поднимаются по лестнице делегаты съезда, молча берут газеты. Входит чуть запыхавшаяся Зина. Задержалась около газет. Взяла газету, взглянула на Леньку.
Ленька стоит на часах; рядом с ним кипа газет с траурным портретом Якова Михайловича. Зина отвернулась и пошла.
Среди делегатов идет Миронов. Он берет газету, останавливается.
К нему подходит товарищ Дзержинский:
– Вы очень хорошо сделали, что приехали сами, Миронов!
– Я не мог не приехать. Вместе с Яковом ушла лучшая часть моей молодости.
– Не лгите! – возмущен Дзержинский. – И не смейте оскорблять память человека, которого вы… Дайте оружие!
Миронов озирается и делает попытку уйти, но его окружают часовые. Дзержинский отбирает у Миронова оружие.
– Уведите! – приказывает он.
Часовые уводят Миронова.
На трибуну съезда взошел Ленин.
В президиуме партийного съезда Сталин, Молотов, Ворошилов, Дзержинский, Калинин.
Над президиумом в траурной рамке большой портрет Свердлова.
Ленька – в почетном карауле съезда.
В зале среди делегатов – Аким, доктор, Зина.
С трудом сдерживая волнение, говорит Ленин:
– Товарищи! Всем, кому приходилось, как приходилось мне, работать изо дня в день с тов. Свердловым, тем особенно ясно было, что только исключительный организаторский талант этого человека обеспечил нам то, чем мы до сих пор гордились и гордились с полным правом. Он обеспечивал нам полностью возможность дружной, целесообразной, действительно организованной работы, такой работы, которая бы была достойна организованных пролетарских масс и отвечала потребностям пролетарской революции, – той сплоченной организованной работы, без которой у нас не могло бы быть ни одного успеха, без которой мы не преодолели бы ни одной из тех неисчислимых трудностей, ни одного из тех тяжелых испытаний, через которые мы проходили до сих пор и через которые мы вынуждены проходить теперь…
Память о тов. Я. М. Свердлове будет служить не только вечным символом преданности революционера своему делу, будет служить не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, – но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариев, руководясь этими примерами, пойдут вперед и вперед к полной победе всемирной коммунистической революции.
Встают делегаты съезда.
Встают члены президиума.
Вытягивается стоящий на часах Ленька.
И сквозь траурную тишину под купол круглого Кремлевского зала, который с тех пор зовется Свердловским, доносится бой кремлевских часов.
1939
Фергана
Киноповесть
Кишлак Хусай в маловодной местности. Полуголая степь. Бугры бродячего песка. Дом декханина Тохтасына. Крохотный дворик с несколькими хилыми деревьями и виноградными лозами. Через двор бежит, журча водой, арычок.
Сам хозяин лежит на деревянной тахте, поставленной над арычком, и, опустив руку в воду, блаженно дремлет.
День пуска воды – это праздник.
Осман, сын Тохтасына, мальчик лет девяти-десяти, большой пиалой черпает воду из арыка и наполняет чайник.
Длинные черные нити играют на дне пиалы. Это черви.
Осман пропускает воду сквозь полу своей домашней рубахи, с отвращением сбрасывает с нее червей и ставит чайник на очаг.
Отец его Тохтасын блаженно слушает щебет воды.
– Нет и не будет большего счастья для узбека как слушать бегущую воду, – мечтательно говорит он, берет в руки гиджак и пальцами, с которых капает вода, проводит по тихим струнам.
Звуки струн, вливаясь в песню арыка, звучат мелодией особой нежности и остроты. На потертый палас выходит дочь Лола, тех же примерно лет, что и брат, и танцует перед старым отцом.
Тохтасын смотрит на нее. Он заплакал бы, если бы мог. Но слезы не даны старику.
– Пой, Лола, пой, танцуй! Все хорошо, дочка, когда есть вода.
Перебирая маленькими ножками, танцует на паласе Лола. Руки ее вторят ритму струящейся воды. И отец засыпает под танец, опустив кисть руки в маленький арычок.
Бесшумно скользит девочка в танце, чтобы не потревожить засыпающего отца.
Вот замерли звуки гиджака, вместе с ними воцарилась полная тишина. Перестал петь и арык. Внезапно застыла, переставши танцевать, и оробевшая Лола.
От внезапно наступившей тишины Тохтасын проснулся. Прислушался к тишине, взглянул на руку – она была суха.
Он внезапно сообразил, в чем дело. Как ужаленный, вскочил с деревянной тахты и бросился к калитке двора. Дочь и сын побежали за ним.
У головного арыка – базар воды. Широкой полосой движется вода головного арыка. В воздухе беспорядочный гул голосов.
Над арыком группа рьяно торгующих людей. В центре их, ласково улыбаясь, стоит благообразный толстяк, рядом с ним стражник. Кругом суетятся люди. Молодой, лет шестнадцати, практикант-ирригатор с удивлением смотрит на происходящее.
Расстелив халат и поставив на него дешевый будильник, бедняк выкрикивает, как торговец:
– Он беш минут, он беш минут! Пятнадцать минут!
Он продает свои пятнадцать минут воды.
Два подсевших к нему декханина ожесточенно торгуются за воду.
Какой-то декханин отмеряет на поле халата свою долю воды и засекает топором на ткани ее ширину.
Залезший в арык почти до пояса, он полой халата отмеряет ширину приобретенной доли арыка.
Мираб – делящий воду – вставляет ножи, разделяя ими поток воды.
Купивший на последние гроши воду жадно глядит на нее, мочит в ней руки и лицо, целует воду.
В центре группы толстяк. Стражник сдерживает рвущихся к нему бедняков. Это должники, просящие ростовщика об отсрочке.
Другие несут ему последнее добро – маленькие коврики, дешевые серебряные украшения, кольца, серьги – в уплату за долги.
Толстяк небрежно взвешивает на руке старинные свадебные украшения «золотые брови» и кричит мирабу:
– Беш минут! – показывает пять пальцев.
Отдавший украшение, возмущенный жадностью ростовщика, кричит ему:
– Мало даешь! Мало даешь!
– Есть у нас старый ханский закон, – говорит толстяк, обернувшись к русскому стражнику, равнодушно глядящему на суету у арыка. – Давай крестьянину воды не много не мало; сытый – он тебя завоюет, голодный – обокрадет и только полуголодный будет всегда покорен.
– Не перехватить бы, Аминджан-ака, – говорит стражник.
– Я знаю, сколько может проголодать узбек! – хитро отвечает толстяк.
Расталкивая плачущую и голосящую бедноту, к толстяку подходит Тохтасын.
– Почему закрыта моя вода? – говорит он.
– Налог за тебя кто заплатил? Я. Хлеб кто давал? Я. Остаток воды отпустил еще поутру. Хватит! – говорит толстяк Тохтасыну.
Тохтасын оторопел. Его душит ярость.
Русский стражник, охраняющий толстяка, качает головой, наблюдая невиданный рынок.
– Ваше благородие, Аминджан-ака, дайте мне воды хоть полхалата, девку себе, что ли, куплю, – мечтательно произносит он.
– Это прямо ж непостижимо, до чего тут жизнь дешевая, – говорит он завистливо, обращаясь уже к молодому практиканту.
Резким движением поворачивает к себе толстяка Тохтасын. Он высок и страшен на фоне оборванной и измученной бедноты.
Тохтасын кричит:
– Даешь нам хлеба на день, воды забираешь на год! Платишь налоги за год, рабами делаешь на всю жизнь! В коране этого нет!
Толпа поддерживает Тохтасына.
– Кто держит воду – тот всему хозяин! – говорит лениво толстяк, добавляя: – А я тебе покажу, что есть, чего нет в коране! Ты у меня коран выучишь!
Не сдерживая более гнева, кричит Тохтасын:
– Открывай воду!
И крик его подхватывает десяток яростных голосов.
Толстяк отступает за спину стражника, но, сбивая все на своем пути, уже бегут бедняки, размахивая кетменями, к запруде.
Тот, кто только что продавал воду, врывается в толпу, потрясая будильником.
Мерявший воду халатом, скинув халат, размахивает кетменем.
Враз ударяя кетменями, разносят бедняки запруду.
Не выдерживает плотина, и вода с ревом устремляется из главного арыка на посевы.
– Люди! Берите воду! Берите воду все! – исступленно кричит Тохтасын.
Доламывая плотину, мчится вода.
Жены и дети взбунтовавшихся в ужасе закрывают лица руками.
Вода несется, увлекая с собой разломанные бревна сипая.
Скачет сквозь воду стражник. В смятении беспомощно поднял руки к небу толстяк. Вода бежит по улице кишлака, неся и домашний скарб.
Вода заливает улицу кишлака. Вода заливает двор Тохтасына.
На фоне белой стены с черными буквами корана ишан. Его обступили встревоженные богачи и кричат:
– Что делать? Что делать?
Ишан говорит:
– В коране нет указаний на такой случай.
Толстяк хватает его за халат и угрожающе спрашивает:
– А что повелевают обычаи?
И, слегка помолчав, говорит помертвевший ишан:
– Ты сам знаешь, Аминджан-ака: сотня человек с именем Тохта и Тохтасына, живыми брошенные в прорыв, вот что еще может умилостивить аллаха.
– Вот и применить этот обычай! – проникновенно говорит толстяк, поднимая руки к небу.
И группа стоящих возле богачей бросается в толпу.
– В чем дело? Что решено? – тревожно спрашивает практикант. – Что за тохта такая?
– Имя Тохта, Тохтасын означает «Стой», «Остановись!» И если сотню их бросить в прорыв, аллах остановит потоки воды. Это бывало, – объясняет ишан.
– Делайте, что хотите, бросайте их, сколько хотите! Куда хотите! Только начните заваливать прорыв! – кричит стражник.
– Вы с ума сошли! – пытается отговорить его студент, но напрасно.
И сразу над пустым кишлаком пронзительно раздается возглас:
– Кто носит имя Тохта – отзовись!
Какая-то старая женщина схватила юношу-сына, толкнула его в дом, захлопнула дверь и закрыла ее за собой. По маленькому двору в смертельном испуге бежит человек. Открывается калитка, за ним устремляется толпа народа. Сидя под навесом, какой-то человек говорит, удивленно подняв голову:
– Да, меня зовут Тохтасын.
На него набрасывается группа людей.
По пустой улочке кишлака пробегает с детьми Тохтасын. Вдали гонится за ним группа людей.
От двери сарая оттаскивают старуху. Другая группа вламывается в дом. Хватают смертельно испуганного юношу Тохту и тащат его к двери. Из-за угла выбегает Тохтасын с детьми, ему наперерез перебегают дорогу два парня.
Тохтасын сбит с ног. Лолу и Османа оттаскивают от него.
На прорыве головного арыка командует толстяк Аминджан-ака. Мечутся стражники. Со всех сторон подбегает народ с кетменями, волокут носящих имя Тохты.
Вот уже связан первый десяток. Вяжут второй. Вяжут Тохтасынов. Среди них юноша Тохта. Над толпой высится ишан.
– Скорей! Скорей! – кричит ему толстяк.
Ишан дает знак, и первый десяток летит в бурлящие воды реки. Вслед им летят бревна, щебень, глина и прутья.
– Помоги, аллах! – кричит толстяк. – Давайте еще Тохтасынов! Вот этого! Особенно этого! – кричит он, указывая на Тохтасына, прикручиваемого ко второму десятку.
– Во имя аллаха! – кричит толстяк. – Вот что написано в коране, ты – горсть песку!
И вместе со своим десятком летит в воду Тохтасын. И следом за ним снова летят бревна, щебень, глина и прутья.
В реку толкают следующие пачки людей, и сотнями кетменей народ заваливает бегущую воду. Сжатая завалами вода бурлит и кружится. Из воды показывается голова Тохтасына, в зубах его нож. Изнемогая, едва работая полусвязанными руками, он с трудом выбирается из потока.
Какой-то парень норовит ударить его кетменем. Он увертывается. Толстяк и стражник пытаются схватить его. Ударом головы, изо рта которой торчит нож, валит он толстяка на землю, но руки русского стражника крепко схватывают его.
Тут внезапно из толпы выскакивает маленький Осман. У него крест-накрест рассечена ножом грудь.
Коротким ударом он толкает стражника в воду и развязывает руки отца.
– Держите! – закричали кругом.
Молодой практикант облегченно переводит дыхание.
– Ну и дела!
Пользуясь всеобщим смятением, Тохтасын бежит туда, где голосят закрытые чечванами старухи и вдовы.
Перед ними без чувств и вся мокрая, вся в крови, лежит маленькая Лола. Ее только что вытащили из воды.
Под проклятья старух поднимает Тохтасын дочь на руки.
– Дети твои не найдут счастья! – кричат старухи, но, не слушая их, он бежит по затопленным, погибшим полям.
– Уйдем, дети, в другой кишлак, – шепчет он. – Там нас никто не знает. Уйдем туда, где много воды.
– Да, ата, да… – едва бормочет девочка, обнимая отца и прижимаясь к его лицу. А сын идет, держась за халат отца, но глаза его закрыты. Кровавая рана на груди заскорузла.
Тохтасын несет Лолу по глухой степи. Она едва жива.
– Есть места, дети, где воды сколько хочешь, – рассказывает отец. – Мы пойдем туда. Там нам хорошо будет.
– Пусти меня, я сама пойду, я скорей пойду, чем ты, – бредит девочка.
Она делает несколько плавных движений, как в танце, и падает. И видно, что она умирает.
Пустыня. Засыпав могилу Лолы, теряет последние силы и Тохтасын. Он падает на свежий могильный холм и знает, что смерть близка и к нему.
Чувствуя, что он умирает, Тохтасын говорит Осману:
– Сынок! Ничто не создано одно. Песок из песчинок, вода из капель, жизнь из людей. Я умираю. Ты – капля – вернись к своему потоку… Вернись, сынок. Если сможешь, дай людям воду. Верь воде – она счастье. Береги воду – она сила. Люби ее – и тогда ты будешь впереди всех.
Не смея прикоснуться к умирающему, страшась и жалея его, Осман ползком подбирается к руке отца и, слегка коснувшись ее щекой, уходит прочь, закусив губы.
С тех пор прошло лет сорок. И снова мы видим кишлак Хусай, задавленный песками, кишлак Тохтасына. Приготовившись уходить, жители собирают пожитки, вьючат ослов.
– Ризаев нашу воду украл… Опять нашу воду украли… – шушукаются женщины и бьют себя худыми кулаками в изможденные, высохшие груди.
Ишан говорит женщинам:
– Уходить надо. Туда, где воды много. У тех, у кого ее много, силой взять. Разве сейчас не все общее? Значит, придти и отобрать силой. Так справедливо будет. Вон в колхозе Маркса сколько воды, «Калинина», «Молотова» – хлопок утроили, у «Буденного» сады стали поливать…
Молодой парень Юсуф осторожно вступает в спор.
– Вода, ты сам знаешь, – говорит он ишану, – принадлежит тому, кто провел ее. Колхоз Молотова сам вел себе воду. Колхоз Буденного – тоже. А у нас нет колхоза, сил нет, потому и воды нет…
– Ты, горсть песку, молчать должен. Берешь слово – а что с ним делить, не знаешь. Теперь все общее стало. Я знаю. Я читал. Коммунизм называется. Возьми силой у брата своего, чем не владеешь сам!
Молодежь, сгруппировавшись вокруг Юсуфа, решительно возражает:
– Надо свой колхоз сделать. Тогда сила будет.
Но большинству, видно, так надоела жизнь без воды, что они ни на что не надеются.
– Наши места проклятые, – говорит женщина Гюльсара. – Давно дело было… Наш человек Тохтасын смешал кровь с водою… С тех пор и идет грех…
– Идите, берите воду у тех, у кого ее много! – уговаривает ишан. – У нас ничего не будет. Какие люди из нашего кишлака ушли – те жизнь благодарят. Османов! – он поднимает палец вверх. – Большой человек, из нашего кишлака бежал… теперь в Ташкенте.
На узкой улочке, у глиняного забора, поет девушка:
Ничто не создано одно.
Песок из песчинок, вода из капель,
Жизнь из людей.
Хочу быть первой каплей, за которой
Сто тысяч капель, как одна,
В поток сбиваются могучий.
Я капля? Да. Но первая из прочих.
Я капля? Да. Но за собой веду волну…
Ей лет четырнадцать – она стройна, тонка, лицо ее открыто, но паранджа закинута на плечи, паранджа наготове. В бедном халате, с косами, заплетенными во множество ручеечков и красиво лежащими на ее худых детских плечах, она очень хороша.
Навстречу песне выходит юноша с кувшином воды в руках.
– Это очень ты хорошо сложил песню. Мне нравится! – добавляет она.
– Фатьма-джан, ты поешь, как сама Халима.
– Это я для тебя пою, Юсуф, потому так хорошо вышло.
Он осторожно обнимает ее.
– Теперь ты комсомол? – спрашивает Фатьма, и он молча кивает в ответ.
– А комсомол может жениться, на ком хочет?
Он кивает:
– Да!
– Тогда мне тоже надо поступить в комсомол, чтобы потом не сказали, что тебе нельзя на мне жениться. Ты не боишься остаться? – спрашивает она.
– Все наши комсомольцы остаются, – гордо отвечает он.
– И не забудешь меня? Кто знает, где и как будем мы.
– Вода будет – и мать с тобой вернется.
– Пусть будет вода, Юсуф! Только скорей!
– Мы, молодые, создадим свой колхоз, построим новый арык, большой, один для всех.
– Ах, мы тогда с тобой маленький сад сделаем, – мечтает Фатьма.
– И вода будет течь по двору, – говорит Юсуф.
– И она будет петь, потому что мы придержим ее маленьким камнем, – смеется Фатьма.
Открывается калитка, и Гюльсара – мать Фатьмы – на осле выезжает со двора.
Пустынная дорога. Бредут выселенцы. Ишан слезает с чьей-то арбы и сталкивает Гюльсару с осла.
– В коране так и сказано: будь милостив к учителям твоим, и да будет добро тебе.
И садится на ее тощего осла.
Мать и дочь пытаются подталкивать обессилевшее животное.
– Дай-ка ему пить, – приказывает ишан, кивая на кувшин в руках Фатьмы. – Осел – работник. Ему надо первому пить, – повторяет он и слезает наземь.
– Это моей дочери Фатьме подарок, – робко заступается Гюльсара.
– За что ей? За то, что она камень на плечах твоих? Замуж надо продать ее… Ну, я позабочусь. Я знаю, ты вдова, о тебе некому позаботиться.








