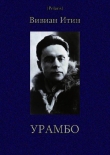Текст книги "Колчаковщина (сборник)"
Автор книги: Павел Дорохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Радость схватила за горло, прервала голос. Андреич, как регент, взмахнул рукой. Упали каменные стены, исчезли железные решетки. По коридору, по тюремному двору, дальше, все дальше:
Это есть наш…
Гремят засовы у дверей. Тяжелый топот ног. Стук прикладов.
– Молчать, сволочи, молчать!
– Стреляй, стреляй, палачи, убийцы!
Андреич, вдохновенный и грозный, – на нарах во весь рост. Рядом монашек Сергей с лучистыми серыми глазами.
– Палачи, душители, стреляйте!
Солдаты бросились с прикладами…..
…Очнулся Андреич в темном карцере. Мучительно болела голова, ныло все тело. Ощупал голову, почувствовал на пальцах густую липкую жидкость.
– Кровь.
Чей-то знакомый голос позвал:
– Дяденька, дяденька!
Чья-то рука сдавила руку Андреича.
– Дяденька, очнись, Сергей я!
Медленно возвращалось сознание. В ноющем теле острее чувствовалась боль.
С трудом разжал запекшиеся губы.
– Мы в карцере, Сергей?
– Не знаю, дяденька, заперли нас.
– Тебя били?
– Меня ничего. Тебя, дяденька, шибко били.
Андреич попробовал улыбнуться.
– Ничего, до свадьбы заживет…
В темноте исчезло время – день, ночь – все равно. Стук открываемой двери прервал кошмарное полузабытье. В потолке тусклым красноватым светом вспыхнула лампочка. Андреич повернул тяжелую голову. Вошли четверо людей. Один ткнул в Андреича пальцем:
– Вяжи!
Трое нагнулись над Андреичем. Жесткая веревка врезалась в замученное тело. Андреич застонал от боли.
– Трусы, мертвого боитесь!
Один ткнул в бок тяжелым сапогом и незлобно сказал:
– Молчи, стерва!
Трое подняли спутанного веревками Андреича и понесли из карцера. Сергей бросился к уходящим.
– И меня берите! И я, и я!
– Дождешься, сволочь, не торопись!
Старший всей ногой с размаху пнул Сергея в причинное место. Сергей без памяти упал на липкий пол…
В отхожем месте, на грязный, заплеванный, залитый мочой пол положили Андреича. Было безразлично, что хотят с ним делать, только бы скорей кончались мучения. Когда над ним нагнулись солдаты и длинным холщовым полотенцем стали завязывать рот, чудовищная догадка исказила мукой лицо. Умереть такой ужасной смертью! Потонуть в зловониях!..
Заметался в предсмертной тревоге.
– Мымм… Мымм… Мымм…
Солдаты злобно рассмеялись.
– Что, не хошь? Можа, тернацинал хошь?
– Суй его в дыру!
– Ногами, ногами суй!
– Не лезет, стерва! Дыра мала.
Андреич лишился чувств.
– Ну, черт с ним, тащи назад, найдем и побольше дыру.
Принесли полумертвого Андреича в карцер, бросили швырком на каменный пол и ушли…
Так лежали они рядом, два безжизненных, но еще не мертвых тела, – молодой деревенский парень Сергей, еще не знающий, есть бог или нет бога, – было зло на земле, со злом бороться пошел, и искушенный жизнью, твердо верящий верой великой в светлое будущее, предгубисполком Андреич.
6
Сергей был спокоен. Шагал молча рядом с Андреичем, держался за его руку, как, бывало, маленьким с отцом в церковь ходил. И так шел до самого места. Когда подходили к лесной опушке, сказал:
– А я так, дяденька, думаю, что бога-то совсем нет. Пошел я с вами против зла бороться, чтобы добро было на земле, а вот меня убивать ведут. Пошто так?
– Так, милый, надо. Буржуазия всегда так расправляется со своими врагами.
На месте, у ям, скручивали руки назад, – после побега Петрухина боялись.
Первым в ряду – Андреич, последним – Сергей.
– Я рядом, – попросился Сергей.
– Стой, где поставили, не все равно, где сдохнуть.
Сергей глубоко огорчился. Ковалев, лучший стрелок в роте, подошел к офицеру.
– Господин поручик, в голову целиться или в грудь?
Поручик посмотрел на солдата, пожевал губами, подумал. Спросил лениво:
– В глаз попадешь?
Ковалев прикинул расстояние.
– Попаду.
– Целься в глаз!
Офицер еще подумал.
– Дай, я сам.
Лениво взял из рук солдата ружье, встал на одно колено, чтоб устойчивей держать винтовку, долго нащупывал темное пятно глаза на лице, смутно маячившем в чуть брезжущей заре Грохнул выстрел, разорвался в лесу на мелкие осколки. Офицер подошел к яме, нагнулся.
– Ах, черт, на полдюйма выше взял!
Медленно отошел в сторону. Когда дошла очередь до Сергея, солдаты смущенно зашептались, осматривая подсумки.
– Господин поручик, пуль нет.
– Как нет?
– Всю ночь стреляли, не хватило.
Поручик подумал;
– Ну что ж, приколите его штыком.
Солдаты замялись.
– Ковалев, кольни ты!
Ковалев подошел к Сергею. Сергей молча глянул на Ковалева. У солдата дрогнула винтовка в руках. Побежал холодок от сердца. Выше, выше, по груди, по голове, поднял дыбом волосы. Ковалев взмахнул винтовкой, дико крикнул:
– Отвернись!
Все ласковее и ласковее лучистые Сергеевы глаза смотрят на Ковалева, выворачивают душу наружу.
– Брат мой, кто вложил ружье в руку твою?
Голос Ковалева задрожал отчаянной мольбой и слезами.
– Отвернись!
Крепко зажмурил глаза, стиснул винтовку и с размаху ткнул в Сергея.
Однажды ночью на лесную опушку пришли двое – мужчина и маленькая старушка, вся в черном. Остановились у большой березы.
– Вот здесь, – сказал мужчина.
Старушка с тихим стоном опустилась на примятую землю.
– Вера… Вера, дочка моя.
Мужчина молча обнажил голову.
Глава третья
Бал победителей
1
Миша часто смотрит на папину карточку и вздыхает.
– Мама, скоро папа вернется?
– Скоро, Мишенька, вот пройдет немножко, и наш папа вернется.
Миша терпеливо ждет. Раз мама говорит, что папа скоро вернется, значит, вернется – мама большая, она знает.
Раз ночью в дверь громко застучали. Наташа вскочила с постели, быстро накинула платье, открыла дверь. Вошли люди – впереди офицер, за ним солдаты. Грубыми руками переворачивали вещи, рылись в комоде, перетряхивали белье. Громко стучали тяжелыми сапогами, харкали на пол. Подняли с постели Мишу, все перерыли, заглянули под кровать. Офицер увидел на комоде фотографическую карточку Киселева, с насмешливой улыбкой повертел в руках.
– А-а, герой!
Отложил карточку в сторону. Солдат вынул из комода пачку писем, перевязанных крест-накрест розовой ленточкой, и подал офицеру.
– Письма, господин поручик!
– Послушайте, оставьте письма, – попросила Наташа, – это мои девичьи, на что вам?
Поручик в наглой оскорбительной усмешке поднял брови.
– Девичьи? Скажите на милость, вы были девицей?
У Наташи задрожали обидой побелевшие губы.
– Послушайте, я ведь все-таки женщина. Как вам не стыдно!
Офицер подчеркнуто быстро вскочил со стула, щелкнул шпорами, изогнулся перед Наташей в насмешливо-почтительном поклоне.
– Извините, мадам, я никак не ожидал, что вы женщина. Я думал, что вы просто…
Грязное липкое слово хлестнуло в лицо. Наташа вспыхнула, обожгло щеки огнем.
– Мерзавец!
Офицер непритворно весело рассмеялся.
– Милочка, не волнуйтесь так.
Миша видел, что чужой дядя обижает маму. Подбежал к матери, сжал кулачонки, крикнул офицеру:
– Не смей маму обижать!
Офицер рассмеялся и щелкнул Мишу по носу.
– Ах ты, сопляк!
Мальчик заплакал от обиды и боли, топнул гневно ногой.
– Дурак, пошел вон!
Когда солдаты ушли, Наташа посадила Мишу на колени, прижала к груди и долго плакала жгучими слезами обиды. Миша утешал:
– Не плачь, мама, папа приедет, мы все ему расскажем.
2
Через неделю вызвали в контрразведку. Вернули письма. Усатый рыжий офицер выразительно смотрит в лицо:
– Спасибо, прочли с удовольствием. Ха-ха-ха!
Наташа покраснела. Было противно брать письма, – чужие люди заглянули в тайники души, копались грязными руками, осквернили самое святое, что так оберегалось от чужого глаза.
– Где ваш муж?
– Не знаю.
– Как же вы не знаете? Когда он уехал из города?
– Не знаю.
Офицер насмешливо прищурился.
– Гм, однако, сударыня, вы мало интересуетесь собственным мужем.
Наташу начинал раздражать насмешливый тон офицера, его наглый ощупывающий взгляд. Сердито ответила:
– Зато вы очень интересуетесь.
Офицер вынул серебряный, испещренный золотыми буквами портсигар, любезно протянул Наташе.
– Не угодно ли, лучший сорт. Не хотите? Как вам угодно.
Закурил папиросу, пустил в потолок голубую ароматную струйку.
– Ну-с, так. Имеете вы от мужа сведения?
– Никаких.
– Рассказывайте сказки! Все равно узнаем, говорите, так лучше будет.
– Мне нечего говорить.
– Впрочем, мы и так знаем, – ваш муж командовал западным отрядом, отсюда уплыл вместе со всеми советчиками. Не так ли?
– Вы знаете больше меня.
– Да, знаем. Мы знаем также и то, что вы собирались уехать вместе с мужем, но не успели. Не так ли?
– Вы все знаете, – насмешливо подтвердила Наташа.
Офицер покрутил длинный рыжий ус, довольно усмехнулся.
– Не правда ли? Так как же, имеете вы от мужа известия?
– Никаких.
– Лучше говорите сами, иначе мы вынуждены будем вас арестовать.
– Арестуйте.
Из контрразведки Наташа вышла взволнованная. Было ясно – Димитрий успел на пароход… Зачем бы разведчикам допытываться, нет ли о Димитрии каких известий, если бы он был убит при отступлении. Жив, жив! Может быть, ранен, болен, но не убит, нет, нет, не убит.
Домой шла почти бегом. Была надежда, и она окрыляла. Дома бросилась к Мише, схватила на руки, начала тормошить и целовать.
– Миша, Миша, папа наш жив!
Мальчик так и встрепенулся.
– А где он?
В радостном порыве нагнулась к сыну, шепнула на ухо:
– С большевиками ушел.
Мальчик задумчиво кивнул головой.
– А он придет?
– Придет, Мишенька, обязательно придет, только молчи, будь умным.
Миша опять сосредоточенно кивнул головой. Ну, конечно, он будет молчать, вот хоть все пальчики отрежь, и то вытерпит, никому не скажет, что папа ушел с большевиками.
3
Жить становилось все хуже и хуже. Недостаток сказывался во всем, пришлось перестать покупать для Миши молоко. Миша в первый же раз запротестовал:
– Мама, ты что молока не купишь? Я молока хочу.
– Денег, Миша, нет.
– А почему денег нет?
– Не работаем мы с тобой. Вот погоди, найду работу, и деньги будут.
– Тогда и молока купишь?
– Куплю, Миша, непременно куплю.
– Ну, ищи скорей работу!
И без того бегала каждый день по большому шумному городу. Знакомые, которые могли бы помочь получить работу, боялись попасть через Наташу под подозрение контрразведки. А те, которые не боялись, ничем не могли помочь.
Каждую неделю вызывали в контрразведку, все допрашивали о Димитрии. И это вселяло в Наташу уверенность, что Димитрий жив…
Кое-как удалось устроиться на службу в кооператив. Только было вздохнула свободней, вызывают в правление. Показывают бумажку.
– Вот, Наталья Федоровна, смотрите. Очень сожалеем, но, видите сами – приказ: причастных к большевизму на службе не держать. С удовольствием, конечно, но понимаете…
Председатель беспомощно развел руками:
– Своя рубашка ближе к телу.
Наташа грустно улыбнулась.
– Да, понимаю.
Утром Миша удивился, что мама никуда не пошла.
– Мама, ты что в кооператив не идешь?
Наташа спрятала от мальчика расстроенное лицо.
– Так, Миша.
Миша озабоченно сморщил лоб и, заглядывая матери в лицо, спросил:
– У тебя голова болит?
– Нет, Миша, не болит.
Мальчик видел, что у мамы на глазах показались слезы. Залез к ней на колени, обнял ручонками Наташину шею и настойчиво стал просить:
– Мама, скажи, зачем ты плачешь, тебя кто обидел?
Наташа рассказала; что она не будет больше ходить в кооператив, что у них опять не будет денег и Мише не на что будет купить молока.
– Да мне и не надо молока, – живо перебил Миша, – я его и не люблю вовсе.
Мать улыбнулась сквозь слезы, крепко прижала к себе мальчика.
– А почему ты не будешь ходить в кооператив?
– Потому что тем, у кого папа большевик, начальство не велит давать работы.
– А какое начальство, мама?
Наташа опять улыбнулась.
– Колчак.
Мальчик хмуро сдвинул тоненькие бровки и сердито подумал:
– Ну, погодите, вырасту большой, всем колчакам шею сверну.
Наташа глотала слезы, делала веселое лицо…
По утрам тщательно осматривала комнату, рылась в остатках белья и одежды, – все искала, что еще можно отнести на толкучку. По ночам тихо плакала. Тоскливо звала:
– Митя, Митя!
Хотя бы что-нибудь узнать, – жив ли, успел ли уйти. От знакомых знала, что ни среди расстрелянных, ни среди арестованных Димитрия не было. Через неделю опять вызвали в контрразведку. Усатый рыжий офицер все нахальнее. Плотоядно осматривает стройную фигуру Наташи и так выразительно:
– Мы вас должны арестовать.
– Арестуйте.
Офицер нагло склабится, наклоняется ближе к Наташе и еще выразительнее:
– Но можем и не арестовывать…
Знакомые посоветовали:
– Вам надо выехать отсюда. В другом городе скорей и устроиться можно, а здесь все равно контрразведка житья не даст.
Наташа так и решила сделать.
4
Ярко светит огнями огромное здание «Европейской» гостиницы. У подъезда – автомобили, экипажи, извозчичьи пролетки, верховые лошади.
Внутри, на эстраде, задрапированной тропическими растениями, гремит музыка. Яркий свет дрожит и переливается на хрустальных люстрах, канделябрах, вазах. На сдвинутых столах белоснежные скатерти, цветы, цветы: И – как огромные живые цветы-дамы в атласных и шелковых бальных платьях. Розовым теплом лучатся голые женские руки, плечи, спины, груди. Военные – с туго затянутыми талиями, в изящных галифе. Рубахи и френчи с суконными темно-зелеными погонами, звездочки на погонах золотые. Серебром и золотом блестят погоны представителей иностранных государств. Мелькают черные сюртуки и фраки штатских.
Гремит музыка, искрится вино, звенят звоном хрустальным бокалы.
Тосты. Тосты.
В конце стола, у зеленолапчатой тропической пальмы, встает высокий белокурый красавец, высоко поднимает бокал.
– Господа офицеры! Позвольте предложить тост за первого военного министра освобожденной от большевиков России!
– Ура!
Гремит туш.
Военный министр поднимается с ответным тостом.
– Господа офицеры! Вы все, конечно, понимаете, что свержение позорного большевистского ига не есть заслуга одного лица. Честь и слава русскому офицерству, наполнившему подпольные боевые отряды и вынесшему всю тяжесть борьбы с большевиками на своих плечах!
– Ура!
Военный министр поблагодарил сановным – как ему казалось – кивком головы, озабоченно отставил от себя бокал с шампанским.
– Ни лишения, ни опасности нас не страшили. Русское офицерство, воодушевленное принципами, – министр заиграл на верхних нотах, – свободы, равенства и братства, самоотверженно кинулось на борьбу, и вот теперь мы празднуем здесь наш праздник свободы. Большевизм пал!
– Ура!
Министр обвел всех глазами, помедлил.
– Господа офицеры! Велика ваша заслуга перед измученной родиной. Но еще большей славой покрыты наши благородные и великодушные союзники, которые на своих плечах выдержали всю тяжесть первых дней восстания.
Министр широким жестом поднял бокал, обернулся в изящном полупоклоне к чешскому генералу.
– Честь и слава нашим доблестным союзникам – чехам. Я приветствую наших славных и доблестных братьев в лице их вождя, здесь присутствующего! Наздар!
– Ура! Наздар!
Гремит туш. Все встают с мест и с полными бокалами тянутся к чешскому генералу. Генерал с улыбкой раскланивается. Один за другим предлагаются тосты за иностранных представителей. Те отвечают…
Гремит музыка, искрится вино, звенят звоном хрустальным бокалы.
…На эстраду поднимается пожилой капитан.
Господа офицеры! В пользу семей офицеров, погибших при свержении большевизма, объявляется лотерея. Разыгрывается золотой пятирублевик. Объявленная цена – пятьдесят рублей. Кто больше?
– Сто рублей!
– Сто рублей. Кто больше? Раз… Два…
– Сто двадцать!
– Сто двадцать, кто больше? Раз…
– Сто пятьдесят!
– Сто восемьдесят!
– Двести!
– Двести, кто больше? Раз… Два… Кто больше? Раз… Два… Кто больше?
Капитан высоко поднимает монету, обводит глазами зал.
– Господа офицеры, прошу помнить, что здесь изображен портрет государя императора Николая Александровича…
Зал дрогнул.
– Ура!
– Гимн! Гимн!
– Боже, царя храни!
Пьяный угар мутными волнами заливает ярко освещенный зал. Пьянеют люди, пьянеет воздух, пьянеют электрические люстры, пьяными головами никнут в хрустальных вазах махровые цветы.
– Господа офицеры, разыгрывается погон генерала Деникина!
– Шапка английского генерала Нокса!
– Походная фляжка чешского генерала Сырового!
– Шпоры французского генерала Жаннена!
– Ура!
Гремит музыка, искрится вино, звенят звоном хрустальным бокалы…
Высокий белокурый красавец у ног молодей шатенки. Целует тонкие надушенные руки с розовыми полированными ноготками.
– Рыцарем вашим, хочу быть, Мария Александровна, умереть у ваших ног.
– Поручик, вот кольцо, разыграйте кольцо.
Поручик нетвердой походкой пробирается к эстраде.
– Господа офицеры, кольцо Марии Александровны!
– Ура!
Опьяневшие дамы перебивают друг друга. Вынимают гребенки и шпильки из сложных причесок.
– Господа офицеры, гребенка Надежды Ивановны!
– Шпилька Зинаиды Львовны!
Мария Александровна хочет быть первой.
– Рыцарь… Мой рыцарь… Я пьяна, я безумно пьяна. Я жертвую… Что там жертвуют… Ах, шпильки. Я жертвую чулок. Да, да, чулок.
Подобрала подол платья, протянула ногу. Поручик опустился на одно колено.
– Царица, царица моя! Царский подарок.
Снял чулок. Прильнул губами к обнаженной бело-розовой теплой ноге.
– Господа офицеры, чулок Марии Александровны семьям погибших от большевиков!
– Ура!
В пьяном угаре захлебывались медные трубы оркестра.
Муть.
Глава четвертая
В степях
1
Петрухин прянул грудью на влажный песок, жадным пересохшим ртом приник к воде. С трудом оторвался, повел глазами по берегу. Невдалеке увидал лодку. На корме сидел старик и удил рыбу. Петрухин быстро поднялся, подошел к лодке.
– Дед, перевези на тот берег.
Старик повернулся к Алексею, пристально вгляделся из-под лохматых седых бровей.
– Не по тебе, парень, пуляли в лесу?
– По мне, дедушка.
– А ты что, не большак будешь?
Петрухин мгновение замедлил с ответом – сказать или не надо? Нет, лучше сказать. Если откажет, одним прыжком с берега в лодку, старика за горло да в воду, два-три удара веслами и тогда уже Алексея не поймать, если б даже солдаты и выбежали на берег. Петрухин ступил шаг вперед к самой воде.
– Большевик, дед.
Старик с любопытством осмотрел Алексея с ног до головы, ласковой улыбкой собрал в морщинки лицо.
– Убежал, однако?
– Убежал.
– Ну-к что ж, мне большевики плохого не сделали. Были и плохие, были и хорошие, всякие были. Садись, парень, тебе жить надо. Поди-ка, и жена есть и дети?
– Мать есть.
Старик смотал леску, положил удилище на дно лодки и сокрушенно покачал головой:
– Ах ты, господи, грех какой. Отвязывай, парень, лодку-то.
Петрухин мигом развязал веревку, которой лодка была привязана к колышку, одним прыжком вскочил к старику.
– Садись, парень, в весла, ты покрепче меня, ишь ты, прости господи, какой, дай бог не сглазить. Наляжь, наляжь, парень, мыряй в туман.
Над рекой клочьями рвался туман. Противоположный берег тонул в густой серой пелене. Старик, подгребая кормовым веслом, спросил:
– Откуда убежал?
– Из лесу. На расстрел привели. Не хотелось, дед, умирать.
– Еще чего. Тебе жить да жить, твое дело молодое.
Старик с любовью оглядел могучую фигуру Алексея.
– Экий ты молодец, сохрани тебя Христос. Жить, парень, каждому хочется. Мне вот восьмой десяток пошел, а умирать не охота.
Серая пелена тумана становилась тоньше и прозрачнее, поднималась вверх, уходила в стороны. Из-за леса блеснул золотой венчик солнца, теплым золотом заструилась вода из-под лодки. Мягко ткнулись о песчаный берег.
– Куда теперь пойдешь?
– В степи надо подаваться, дед.
– И то, парень, подавайся в степь, поспокойнее там, в степи-то. Да большаком-то не ходи, держись в стороне от большака, так прямо степью и иди.
Петрухин крепко сжал руку старику и с чувством сказал:
– Ну, дедушка, спасибо тебе!
Выпрыгнул на берег, еще раз оглянулся на старика.
– Как скажешь, дедка, если спросят?
– А никак не скажу.
– Спрашивать станут?
– Кто меня станет спрашивать, я здесь останусь, мне все равно рыбу удить – здесь или на том берегу.
Старик, возился с чем-то у кормы, присев на корточки. Петрухин шагнул в прибрежные кусты.
– Ну, прощай, дедка!
Дед заторопился.
– Постой, парень, постой!
Вылез из лодки, подошел к Петрухину, протянул небольшой мешочек.
– Возьми-ка, парень, здесь хлебушка да причандал разный, поди-ка, есть дорогой захочешь.
Петрухин хотел было броситься к старику на шею, поцеловать деда в седые щетинистые усы, – на той стороне раздались выстрелы. Алексей кинулся в кусты. Дед перекрестил Петрухина в спину, блеснул старыми выцветшими глазами и вслух сказал:
– Спаси тебя Христос, ишь, какой молодец, живи с господом.
Влез, покряхтывая, в лодку, поднял удилище и, размотав лесу, бросил ее без приманки в воду, – совсем расстроился старик, где уж о приманке думать.
Над затуманенными глазами сдвинулись серые клочкастые брови, сердито шепчут высохшие старческие губы.
– Еще чего… расстрелять… ишь, человека убить надо.
С того берега донеслись крики:
– Эй… эй… э-э-эй, вай… а-а-ай!..
У деда по лицу глубокие коричневые морщинки во все стороны лучиками-лучиками. Неслышно рассмеялся.
– Кричи, кричи, батюшка, глухой я, не слышу.
2
Шел прямиком через степь по жестким прошлогодним жнивам. В стороне, по большаку, крутились столбы пыли, – мужики ехали в город, другие из города.
Ныли ноги в тяжелых солдатских ботинках. Дивился Алексей – чудом каким-то остались на нем ботинки, должно быть, после расстрела сняли бы. Шел бодро, как привык ходить с отрядом, – твердым походным шагом. Солнце жгло голую грудь, грудь радостно ширилась и жадно вбирала напоенный степными ароматами воздух.
Буйной радостью захмелевшие глаза ласково обнимали степь, уходящую вдаль темно-зеленым ковром. Далеко-далеко степь переходила в голубоватый цвет, сливалась с голубоватым краем неба. Верил – дойдет до этой шелковой голубой занавески, поднимет ее, заглянет в беспредельные просторы будущего…
В полдень почувствовал усталость. Бросился на траву, широко раскидал руки и ноги, подставил открытую грудь ветру и солнцу! Чувствовал, как из горячей жирной земли вбирает в себя силу великую, как наливается ею каждый мускул, каждая жилочка. Только теперь – в первый раз после побега – почувствовал радость жизни каждой частицей своего тела. Жить, жить! Продолжать дело погибших товарищей…
Когда отдохнул, захотелось есть. Петрухин заглянул в мешочек. Вместе с краюхой хлеба, узелком соли и пригоршней круп, ломтем просоленного свиного сала, коробкой спичек и жестяной кружкой увидал большой складной нож.
Крепко обрадовался ножу, как будто нашел ружье, а не простой, с самодельной деревянной ручкой нож. Вынул его из мешочка, переложил в карман штанов. В первой рощице срезал молодую березку, обломал ветки, обстрогал, – вышла славная дубинка. Нож да дубинка, – хорошо. Петрухин даже засвистал. Легко перепрыгнул через двухаршинную ложбинку, перегородившую дорогу, и, помахивая дубинкой, бодро зашагал вдаль. С запада быстро надвигались сумерки.
3
Крепок старик Чернорай. Шестой десяток доходит, а поднять на крутое плечо мешок с зерном да швырком бросить в амбар Чернораю пустое дело, молоденького за пояс заткнет. Крепок старик Чернорай, да погнули заботы хозяйские, нет-нет да и заноет натруженное за долгую жизнь Чернораево тело! Подует ли непогодь, затянет слезливым серым пологом небо, заплачет неделю-другую, – Чернорай сразу почувствует: заноет широкая спина, загудят ноги, ослабнут длинные, перевитые узлами руки с черными обломанными ногтями…
Далеко Чернораева заимка от волости, редко туда ездит, к нему еще реже бывают. Глядит Чернорай в окно, думает. Давно в волости не был, не съездить ли? Может, письмо от Михайлы есть…
Прямо перед окнами волнуется золотистыми гребнями поспевающая пшеница.
Двадцать десятин засеял Чернорай. И не хотел было, – не ко времени, – да прислал Михайла с фронта письмо:
«Засевай, отец, больше: как у нас на фронте революция, и войне скоро конец. Обязательно к уборке поспею. С немцами мы помирились, немцам тоже эта самая война вот уж как надоела… Обязательно к жнитву приду, а не то, так к покосу…».
Послушался Чернорай, понатужился, целых двадцать десятин засеял, а как их убирать, – неизвестно. Обещался Михайла к покосу, и покос прошел, жнитво на носу. Да и придет ли еще Михайла, что-то давно письма не было. Вон, нынче кутерьма какая идет, не дай ты, боже, – то одна власть, то другая.
Чернорай задумчиво смотрел в окно, негнущимися пальцами скреб колючий, стриженный под гребенку подбородок. На дворе злобным лаем залился Волчок и бросился в степь. Чернорай выглянул в окно.
– Не иначе чужой.
К дому подходил высокий человек с большой, как молодое деревце, дубинкой в руках. Волчок яростно заливался, кидаясь на прохожего то с той, то с другой стороны. Чернорай вышел из дома, отогнал собаку.
– Назад, Волчок, назад!
Собака, злобно рыча, спряталась за Чернорая. Человек подошел ближе. Он был без фуражки, без пиджака, в тяжелых солдатских ботинках.
– Здорово, дед!
– Здравствуй, добрый человек!
Оглядел Чернорай незнакомого человека с ног до головы, подумал:
«Не иначе дезентир».
А вслух спросил:
– Откуда идешь?
– Из города, дед, работы искать.
Чернорай пустил улыбку в седые обсосанные усы.
– Эге, работы. По какой части тебе работы?
– А по всякой. Беженец я.
Еще раз ухмыльнулся старик Чернорай.
– Эге, беженец!
Стоят друг перед другом, щупают один другого сторожкими глазами.
«А ну, что ты за хрукт такой?»
«А ну, что ты за штука такая, пузо у тебя самое кулацкое?»
– Напиться бы, дед, – сказал прохожий, – да, может, кусочек хлебца найдется.
Чернорай повел прохожего к колодцу. Прохожий жадно приник к бадье, и долго было слышно, как в его широкой груди булькала вода. Чернорай молча ждал. Прохожий оторвался от бадьи, перевел дух и взглянул на Чернорая.
– Хорошо бы сполоснуться, дед.
– А сполоснись, – кивнул головой Чернорай.
Прохожий достал бадью свежей прозрачной воды, вылил в стоявшее у колодца корыто и, сорвав с себя рубаху, стал мыться. Чернорай с восхищением смотрел на незнакомого человека и довольно думал:
«А пускай ты и дезентир, хороший из тебя работяга выйдет».
Перед Чернораем была на редкость широкая, туго перевитая мускулами спина, крутые плечи и крепкие узластые руки. Старик пошел в избу.
– Ну-ка, старая, дай мою рубаху прохожему человеку.
Старуха заворчала недовольно:
– Какая еще там язва, рубаху ему, где их нынче взять, рубахи-то.
Чернорай добродушно ухмыльнулся.
– Давай, давай, старая.
Пошел Чернорай с рубахой из избы, за ним и старуха увязалась, – любопытно посмотреть, что там за прохожий, отчего так раздобрился тугой на подарки старик. У корыта плескался незнакомый человек. Во все стороны летели от прохожего золотые брызги. Чернорай подошел к прохожему, любовно сказал:
– На-кась, парень, чистую рубаху. Твоя-то, видать, бабам на тряпки пойдет.
Прохожий стряхнул с себя капли воды, взял у Чернорая рубаху и стал надевать. Рубаха затрещала. Чернорай довольно рассмеялся.
– Трещит, парень?
Засмеялся и прохожий, блеснули белые зубы в черных усах.
– Трещит, дедка.
Хозяйская забота согнала старуху с крыльца, – изорвет незнакомый человек старикову рубаху.
– Дай, я тебе помогу.
Заботливо сморщила старушечий лоб, расправила ворот у стариковой рубахи, помогла прохожему надеть.
– Ишь ты, какого тебя господь уродил, старикова рубаха мала, пуговки не застегнешь, ужо переставит тебе Настасья.
Чернорай задумчиво поскреб подбородок, – заметил у прохожего на плече сморщенную пупком ранку. Тряхнул головой, ладно, мол, там разберется.
– Ну, пойдем, парень, закуси, чем бог послал.
Настасья еще не убрала со стола поздний праздничный завтрак. Прохожий жадно принялся за вкусные шаньги, за молочные блинцы.
«Эге-ге, – подумал Чернорай, – даже лба не перекрестил, не иначе дезентир».
Старик молча следил, как угощался прохожий, и думал о Михайле. Да, три года парень на фронте, не знай, какой стал, а был вот такой же молодчага, чуть разве поменьше. Не будут ли прохожему Михайлины рубахи впору.
– Так тебе работы, парень, надо? Какой же тебе работы, – тянул медленно Чернорай, больше следя за своими мыслями, чем за словами.
Прохожий отодвинул от себя жареху с блинцами.
– Спасибо, дед, спасибо, бабка, и тебе, молодица, спасибо.
– На здоровье, – сказал Чернорай. – Тебя как звать-то?
– Алексеем.
– А моего парня Михайлой.
Чернорай молча стал глядеть в окно. Старуха подперла рукой щеку, пригорюнилась. Едучей материнской слезой затуманились глаза. Далеко сыночек Михайла, жив ли, нет ли. Может, вот так же по чужим людям. Настасья коротко и шумно вздохнула.
– Работник мне нужен, – сказал Чернорай, – собирался Михайла к покосу быть, да вот и уборка скоро. Оставайся у меня, только смотри, – старик впился в гостя незнаемого глазами, – сам за себя отвечай, может, ты дезентир?
– Нет, дед, – твердо сказал Алексей, – беженец я, только документов никаких не имею, все свои пожитки растерял за это время.
– Ну, беженец, так беженец, гляди сам, – согласился Чернорай, – моя хата с краю.
После завтрака Чернорай пошел в амбарушку отдыхать. Позвал с собой Алексея.
– Отдохнул бы, парень, и ты, поди-ка, немало прошел.
– Я не хочу, – сказал Алексей, – посижу вот тут на крылечке.
Из избы вышла Настасья.
– Дай-кась я тебе Михайлину рубаху примерю.
Настасья под стать Чернораеву двору, – высокая, ядреная и крепконогая, как киргизская лошадь. Наливная вся, вот-вот брызнет, как переспелая вишня, только дотронься. Стоит перед Алексеем, примеряет Михайлину рубаху.
– Как раз, парень, по тебе рубаха, вот только пуговки переставить да в плечах чуть распустить.
У Алексея по широкой груди мелким кустарником кудрявится волос. Дотронулась до голого тела Алексеева, искоркой влетел огонь в пальцы, побежал по рукам к груди, к сердцу; сердце сладко заныло, вспыхнули зарницами щеки, искоркой заблистали глаза. Три года нет мужа Михайлы, три года холодная, словно девичья, постель не смята жаркими безумствующими телами в темные душные ночи, три года не обласкано крепкое наливное тело. Будто и люб был Михайла, будто и нет. Да и давно уж расстались, как в тумане расплылось Михайлино лицо; сказала б, да не помнит, какие глаза у Михайлы, какие губы.
Ласково хлопнула Петрухина по голому плечу.
– У-у, лешман, какой уродился, Михайлина рубаха не лезет!
4
Люб Чернораю Алексей. Хоть и неизвестно, что за человек и откуда появился, ну, да что Чернораю за дело, когда Алексей трех работников стоит. Сытые кони Чернорая гнутся под тяжелой рукой Алексея, бричку с сеном Алексей за задки, как пустую, перебрасывает. И все больше молчком, слов по-пустому не тратит.
В конце недели собрался Чернорай в волость, в Костино, – нет ли писем от Михайлы. Заехал к свату Степану Максимычу, Настасьину отцу.
– Здорово, сваток! Ну как вы тут?
Степан Максимыч молча махнул рукой.
– Слышь-ка, старая, нацеди медовушки туесок.
Хмуро сел рядом с Чернораем.
– Такая кутерьма, сваток, идет, не дай ты бог. Опять новая власть у нас появилась.