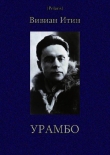Текст книги "Колчаковщина (сборник)"
Автор книги: Павел Дорохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Часть первая

Глава первая
Отступление
1
Наталья Федоровна заботливо пересматривала вынутое из комода белье и мурлыкала себе под нос похоронный марш.
Белье требовало основательной чинки. Наташа отобрала несколько пар, села к столу, подвинула поближе к себе огонь.
Миша поднял голову от книжки с картинками.
– Мама, что папа долго не идет?
– Скоро придет, Миша. Ты посмотри еще картинки.
Мальчик покачал головой, протянул капризно:
– Мне надоело смотреть.
Слез со стула, подошел к матери, положил голову к ней на колени.
– Мама, что папа долго не идет?
Наташа отложила в сторону белье, привлекла к себе сынишку. За окном по деревянным тротуарам гулко раздавались шаги нечастых прохожих. По немощеной улице мягко тарахтела извозчичья пролетка.
– Да, что-то долго Димитрий сегодня.
Нагнулась к Мише, заглянула в лицо, – Миша дремал. Ласково улыбнулась, погладила по пушистой головенке сынишки.
– Мишук, ложись спать.
Мальчик открыл глаза.
– Я папу буду дожидать.
На улице раздались твердые торопливые шаги.
– Папа! – Миша хорошо знал отцову походку.
Наташа бросилась в коридор.
– Ты, Димитрий?
– Я, я, Наташа!
Димитрий взял из рук жены задвижку, закрыл дверь.
В комнате к отцу бросился Миша.
– Ты что, папа, как долго?
Киселев нагнулся к сыну, поцеловал.
– Нельзя, Мишук, дела.
2
На город наступали с трех сторон – с востока и запада, вдоль линии железной дороги, от станции к станции шли русско-чешские полки; с юга, из степей, по обоим берегам Иртыша широкой лавиной спускались казаки.
В восточном отряде всего четыре роты: рота мадьяр, две роты красноармейцев и рота железнодорожных рабочих. У мадьяр за начальника Франц, у красноармейцев – Соломон Лобовский, у железнодорожников – Алексей Петрухин.
Франц, Соломон, Петрухин – Реввоенсовет.
Отходят медленно, с упорным боем. За каждой будкой, каждой кучей шпал, за каждым щитом – точно за стеной каменной держатся. Каждый кустик и бугорок – прикрытие.
Бешено напирает упорный и многочисленный враг. Падают люди. Все меньше и меньше отряд, но все больше и больше желание удержать каждый клочок земли.
На станциях упирались в землю всей ногой. Из-за станционных прикрытий били из пулеметов, а в станционных зданиях перевязывали раненых, которых некогда было перевязать на открытом месте под вражеским огнем. Дымились походные кухни, люди наскоро ели и опять бежали стрелять.
Враг задерживал наступление, высылал вперед броневики и осыпал снарядами лежащих за прикрытием людей. И когда получали приказ отступать, многие так и оставались лежать за прикрытиями, впившись в землю мертвыми скрюченными пальцами.
Подходившие победители добивали раненых, раздевали убитых, оттаскивая голые тела от линии железной дороги. Тучами летело воронье. Голыми телами да черным, разжиревшим вороньем, нанизанным на телеграфную проволоку, обозначена дорога в город.
3
У водокачки попался раненный в ногу красноармеец, не успел уйти. Окружили тесной кучкой. Острее штыков колют горящие злобой глаза пятиконечную звезду на шлеме.
– У, сволочь!
К кучке чехов подошел капитан Палечек. Ясными голубыми глазами посмотрел на маленького, невзрачного красноармейца и неторопливо спросил:
– Большевик?
Красноармеец молча и быстро кивнул головой.
В ясных голубых глазах капитана Палечека не было ни любопытства, ни злобы. Не спеша повернулся на каблуках и негромко бросил через плечо:
– Расстрелять!
Четверо отвели на полсотни шагов в сторону, остановились у маленькой ложбинки.
– Раздевайся!
Красноармеец сел на землю и стал стаскивать тяжелые ботинки. Рядом с ботинками положил аккуратно свернутые штаны и рубаху. Искоса глянул на стоявших вокруг чехов и сердито спросил:
– Исподнее снимать?
Ближний солдат молча кивнул. Красноармеец торопливо сбросил остаток одежды, встал у края ложбинки, скрестил руки на груди. Чехи деловито вскинули ружья. У красноармейца вдруг запрыгала нижняя челюсть. Злобно обжег целившихся чехов.
– Да ну же… стреляйте скорей, черти!
Штыками столкнули голое тело в ложбинку.
4
На левом фланге, у реки окопалась рота Франца. Три раза ходили чехи в атаку, три раза отбивали их мадьяры. Через реку, широким развернутым фронтом охватывая роту мадьяр, на полных рысях двинулись казаки. Правым и левым крыльями ушли далеко в степь, маячат черными точками, ружьем не достать. Далеко позади сомкнулись крылья. Рота мадьяр в широком казачьем кругу, как остров в море.
Выхода нет – сзади казаки, впереди река, за рекой чехи. С диким гиканьем – пики наперевес – мчатся казаки, с каждой минутой суживая кольцо. Встречным кольцом, плечом к плечу сомкнулись мадьяры. Франц спокойно и негромко командует:
– Товарищи, береги патроны, стреляй на выбор!
…Соломон со станции наблюдал в бинокль. Болью перекосило лицо. Глубокой печалью налились глаза. Хрустнули пальцы, сдавливая бинокль.
– Не выдержит Франц, сомнут казаки.
Спустился с водокачки.
– Андрей, примешь команду! Первая рота со мной!
Под огнем чешского броневика бегом, один по одному, от ямки к ямке, от бугорка к бугорку спешит рота Соломона на выручку Франца. Увидали казаки, разомкнули кольцо и левым крылом в обхват. Налетели, закружили, пятеро на одного. Словно огнем обожгло Соломону правое плечо. Выронил винтовку из рук, зашатался.
– Не бей жида! Бери его живьем, живьем бери!
У самого лица выросла лошадиная морда. Оглушило ударом по голове. Все завертелось, поплыло…
К станции пришло их двадцать два: двадцать из отряда Франца, да двое уцелели от Соломоновой роты.
5
От станции к станции, шаг за шагом, пять дней и пять ночей все время лицом к врагу медленно отступал западный отряд Димитрия Киселева. На последней станции, перед мостом через реку уперлись. Задержать врага, выиграть время, дать в городе укрепиться!
Каждый час из города телеграммы:
– Именем революции… Держитесь… высылаем помощь!
Димитрий нервно комкал в руках клочки жесткой шершавой бумаги, покусывая серые обветренные губы.
– Гм, помощь, откуда ее взять? Петрухин, Соломон и Франц на востоке, Антон Носов сдерживает идущих из степей казаков. Нет, помощи ждать неоткуда.
Ночью, когда уверенный в победе враг прекратил преследование, Киселев собрал усталых бойцов.
– Товарищи, помощь обещают, но лучше на нее не надеяться, взять ее неоткуда. Держаться самим надо.
По рядам гулко:
– Продержимся, товарищ Киселев!
С западным отрядом Вера Гневенко. Через плечо сумка с бинтами и марлей, пузырьками и ватой. Вместе с отрядом, шаг в шаг, пять дней и пять ночей. Под самым огнем перевязки делает любовно, осторожно. Каждый красноармеец – брат родной. Ни устали, ни голода, ни страха.
– Товарищ Вера, вы бы отдохнули.
Даже не взглянет, только головой тряхнет:
– Некогда.
…Две колонны чехов обходят отряд с обоих флангов, Димитрий стукнул оземь прикладом.
– Эх, черт, пропало все! Не выдержим!
Ночью взорвали полотно, зажгли станцию. Ярким огненным столбом взметнулось пламя, освещая путь отходящему отряду.
6
Пароход медленно спускался по Иртышу. На стройной мачте весело трепещется красный флаг. С обоих бортов по четыре пушки, между пушками пулеметы.
Сам Антон Носов с частью отряда шел берегом. Когда казаки наседали особенно близко, пароход бросал якорь и огрызался обоими бортами. Казаки задерживались, и отряд Антона Носова уходил вперед.
Преследуемые в упор, шли почти без отдыха. Угрюмо встречали в прибрежных станциях. Не оказывалось провианта для людей, не было фуража для лошадей, не давали подвод.
Антон долгих разговоров не вел. Пароход останавливался против станиц, нащупывал жерлами пушек шатровые пятистенники станичных богатеев.
– Даешь жратву! Даешь фураж!
Тотчас появлялись горы буханок, гнали на убой нагулянный скот, давали в обоз свежих коней.
У чернореченской станицы казаки глубоким обхватом зашли вперед. Выгнали всю станицу в степь. Подошедший отряд Антона расположился в пустых избах. Ночью станица запылала с обоих концов. По красно-багровым улицам бежали заспанные красноармейцы. С диким гиканьем, со степным разбойным посвистом носились огромными черными тенями казаки, в зареве пожара похожие на сказочных, чудовищ. У церкви десяток красноармейцев во главе с Антоном потонул в казачьей волне. Первым упал Антон от страшного удара шашкой по лицу, наискось. Скользнуло острием по верхней губе. Блеснуло золото зубов…
Еще у живого, еще предсмертной судорогой дергаются ноги, рукояткой шашки дробят челюсть, чтобы достать золотые зубы.
7
К городу подошли одновременно все три отряда. С востока – Петрухин и Франц, с запада – Димитрий Киселев, по Иртышу – отряд Антона Носова. Но не было самого Антона и не было Соломона Лобовского…
В роскошных залах губисполкома – бывшем дворце генерал-губернатора – бурлил непрерывный человеческий поток. Едкий махорочный дым медленно плескался в лепной потолок тяжелыми сизыми волнами. У стен беспорядочно приткнуты винтовки. Кучами лежат пулеметные ленты, и между лентами маленькими игрушечными плужками о двух колесиках мирно прижукли пулеметы.
Киселев и Петрухин делают доклады. Злобой распирает груди за павших товарищей, заволакивает хмурью глаза. Крепче сжимают железо винтовок красноармейцы. Предгубисполком Андреич спрятал горе в глубоко провалившихся глазах, медленно поднялся.
– Товарищи…
Виновато откашлялся, будто поперхнулся едким махорочным дымом, а не прятал дрожь в голосе.
– Товарищи, почтим память павших.
Стоя, с непокрытыми головами, пели:
– Вы жертвою пали в борьбе роковой…
А надо всеми глубокой тоской и слезами исходил голос Веры – невесты Соломона Лобовского…
Димитрий приехал домой поздно ночью. Наташа не спала, знала, что отряды вернулись, и ждала Димитрия с минуты на минуту. Бросилась к мужу.
– Митя!
Киселев крепко обнял жену, сейчас же с улыбкой отстранился.
– Погоди, Наташа, дай помыться, а то, видишь, пропыленный с ног до головы.
Пока Димитрий умывался в кухне, Наташа собрала ему ужин. Проснулся Миша. Увидал отца, метнулся с кровати.
– Ты что долго, папа, мы тебя ждали-ждали!
Киселев усадил Мишу к себе на колени.
– Нельзя, Мишук, война, брат, такое дело, это тебе не в бабки играть.
– Ты больше не пойдешь на войну?
– Нет, пойду.
– И я пойду с тобой!
Киселев засмеялся. Прижал к себе лохматую головенку сына, поцеловал в тугой лобик.
– Вот, погоди, вырастешь большой, мы с тобой всех буржуев разобьем!
Миша оживился и торопливо стал рассказывать.
– Я вчера Ваське-буржуенку нос расквасил…
Киселев с улыбкой слушал сына. Скоро Миша задремал на коленях у отца. Киселев осторожно положил мальчика на кровать и стал одеваться.
– Ну, Наташа, мне в исполком. На всякий случай, будь готова, может быть, утром начнем эвакуировать город.
Тихо склонился над крепко заснувшим сынишкой, поцеловал в обе щеки, в лоб, невольно вздохнул.
– Димитрий, ты бы соснул часок, – сказала Наташа.
– Нельзя, милая, там, в исполкоме, где-нибудь вздремну.
У двери еще раз оглянулся на Мишу и вышел.
8
Чуть зарозовел восток, началась погрузка на пароходы. К пристани подходили последние красные части. С сердитым гулким ревом носились по опустевшим улицам ощетинившиеся по бортам грузовики. Твердой четкой поступью тяжелых ног, с ружьями на изготовку, прошел отряд красноармейцев. Тесной кучкой, один к одному, торопясь и не соблюдая ногу, проспешили к пристани железнодорожники.
За крепко запертыми воротами притаился обыватель. В заборные щелочки злобно сверлил уходящих. И, как голодный зверь перед последним прыжком к жертве, дрожал от нетерпения мелкой знобкой дрожью…
Наташа в тревоге выглядывала в окно. Широкая пыльная улица тиха и безлюдна. На реке протяжно гудели пароходы. Неожиданно налетевший из степей сухой горячий ветер принес отдаленный орудийный гул. Ближе затакал пулемет. Миша подошел к окну.
– Мама, что это, война?
– Война, Миша.
Мальчик высунулся в окно, осмотрел улицу в обе стороны и недоверчиво обернулся к матери.
– Ну, уж война, а что же на улице никого нет? Разве это война?
Наташа захлопнула окно, рассеянно остановилась возле связанной корзины и узлов. Отсутствие мужа беспокоило все сильней и сильней. Что же с Димитрием? Почему его нет так долго? Может быть, город уже взят?
Миша не отходил от матери.
– Мама, почему папа долго не идет? Почему мы не едем на пароход?
Прятала от Миши расстроенное лицо и утешала:
– Должно быть, скоро придет.
Снова шла к окну, тоскующими глазами смотрела в примолкшую улицу. Димитрия не было.
9
Киселев вышел из исполкома вместе с Андреичем, Верой и Петрухиным. Вера стала прощаться с товарищами. Андреич задержал ее руку.
– Послушайте, Вера, ведь не поможете ничем. Спешите на пароход, пока не поздно.
Вера покачала головой.
– Вы не поймете, Андреич. Я должна попытаться узнать о Соломоне. Я успею вернуться.
– Ну, хорошо. Только, смотрите, не лезьте на рожон.
– Я пойду с ней, – сказал Петрухин, когда Вера отошла.
– И то, Алексей, надежнее будет. Ну, а ты, Димитрий, куда?
– Мне за женой заехать.
– Возьми мою машину и дуй. Мне в горсовет, тут близко.
Киселев сел в автомобиль, сказал шоферу адрес. Машина ринулась вперед… Сзади упал первый снаряд, звонко разорвал молчание улиц и переулков.
Киселев нагнулся к шоферу.
– Товарищ, скорей!
Машина – вихрем, пыль за машиной – вихрем. В стремительном беге закачались дома, сгрудились переулки. В знакомую улицу поворот на полном ходу. Колеса машины оторвались от земли. Димитрий ухватился за борт, закачался, крикнул шоферу:
– Товарищ, скорей!
В конце улицы в облаке пыли вырос лес копий. Автомобиль дернулся назад-вперед, назад-вперед, заметался в узенькой уличке.
– Товарищ Киселев, казаки!
Димитрий со стоном сжал голову, упал на дно машины…
Мчались назад. Свистели пули вдогонку, с гиканьем скакали казаки…
10
Наташа еще раз высунулась в окно, посмотрела в одну сторону, в другую. От притаившихся серых домишек повеяло жутью. Миша стоял возле, теребил за платье и хныкал:
– Мама, пойдем на пароход.
Со вздохом отошла от окна.
– Пойдем, Миша.
Торопливо собрала сынишку, оделась сама. Схватила подвернувшуюся под руки маленькую корзину, быстро распахнула дверь на улицу. От угла мчались казаки. Наташа втолкнула Мишу в коридор, захлопнула дверь, устало опустилась на выпавшую из рук корзинку и, закрыв лицо руками, заплакала…
11
О каменные плиты тротуаров главной улицы звякнули пули. К пристани, на пароходные гудки быстро пробежали два красноармейца. Галопом, звонко куя мостовую, промчался отряд казаков. Где-то стукнула калитка, зазвенело разбиваемое стекло. Всклокоченный рыжий человек, в валеных туфлях на босу ногу, выскочил из ворот, восторженно хлопнул себя по ляжкам, и по безлюдной улице диким сладострастным визгом пронеслось:
– Братцы, казаки пришли!..
Застучали ворота, захлопали калитки. Загремели болты открываемых ставень.
Тысячью голосами заговорили улицы, запестрели бегущими людьми.
– Держи, братцы, держи! Армеец во двор забежал!
Бросились во двор. Сгрудились в тесном проходе, давя друг друга. Черным вороньем облепили забор.
Высокой тоскующей нотой:
– А-а-а! – взметнулся предсмертный вопль и затерялся в зверином реве оскалившей зубы толпы. Озверевшие, хлебнувшие крови, с хриплыми криками неслись по улицам.
– Лови! Держи! Бей!
– Братцы, тут комиссар жил!
Останавливались, громили квартиры, ломали мебель, били посуду, зеркала, стекла. Дрались из-за дележа. Бежали дальше.
С шумом распахнулось окно второго этажа, со звоном посыпались стекла. В окне всклокоченный рыжий, в валеных туфлях на босу ногу. В высоко поднятых руках маленький, белый комок. Молодая женщина с воплем ухватилась за рыжего.
– Дитя мое! Дитя!
Рыжий отмахнулся от женщины, нагнулся вниз.
– Братцы, держи, пащенок комиссарский!
Мелькнуло в воздухе белое покрывало, маленьким комочком упало на каменные плиты. Словно бутылка с вином раскололась – во все стороны поползла красная, темная жидкость.
Как причастие…
Кровью младенцев причащались христиане.
На углу сгрудились возле рабочего без фуражки.
– Большевик, бей его!
– Что вы, братцы, я посмотреть!
– Заговаривай зубы, посмотреть!
Сомкнулись в тесном кольце. Жарко дышат груди, волчьим оскалом зубы.
– Братцы, я же вот тут живу, за углом!
Ближе всех к рабочему толстый, стриженный в скобку, в теплом стеганом жилете поверх выпущенной рубахи, серебряная цепочка через весь живот. Подвинулся еще ближе, изловчился и левой рукой молча с размаху рабочего по скуле.
– И-эх!
У рабочего ляскнули зубы. Тоненькой струйкой побежала кровь по подбородку.
– Братцы, что вы…
– Бей!
Бросились, сшибли. Сплелись в одном комке жарко дышащих тел, закружились в диком танце…
Когда отошли, утомленные и потные, на земле остались клочья, – клочья мяса, клочья тряпок.
…У запертой двери магазина, спиной к двери, штыком вперед – красноармеец. Давно опустел подсумок. Красноармеец влип в стену спиной и хрипло, будто в гору с ношей тяжелой взобрался:
– Не подходи, убью!
Мимо торопятся два солдата с бело-зелеными повязками на рукавах.
– Кормилец, родненький, пристрели армейца!
Простоволосая женщина ухватила за рукав. Жарко дышит в лицо. В прорехе кофты болтается тощая коричневая грудь.
– Родненький мой, миленький, пристрели армейца!
Один из солдат на ходу вскинул ружье, деловито прицелился, выстрелил и, не глядя, побежал догонять товарища. Красноармеец охнул, выронил винтовку из рук, упал на колени. Оперся руками о каменные плиты, поднял кверху посиневшее сразу лицо, запрыгал по толпе страшными белками глаз. Из толпы выскочил с кирпичом долговязый парень. За ним круглолицый розовый старичок.
– Вдарь! Вдарь! Промеж глаз вдарь! Эх!
Долговязый взмахнул кирпичом. Хрястнула переносица у красноармейца.
Сминая друг друга и рыча, как голодные собаки над костью, бросились кончать…
…Потом поодиночке и группами сводили к реке. Снимали одежду, аккуратно свертывали в узелки. Ставили людей лицом к берегу, и как на ученье, где глиняная фигура заменяет человека, – по всем правилам военного искусства, ударить шашкой наотмашь, потянуть к себе. Пленные, суровые и молчаливые, падали в реку, окрашивая воду в красный цвет, любимый цвет. Будто полотнища красных знамен плескались у берега. И было так день, и два, и три.
Глава вторая
Белые волки
1
В тюрьму из комендантского дома их вели вечером. Как колючей проволокой, обхватило двойное кольцо, – внутри чехи, снаружи казаки. Напирала несытая толпа. Протискивались с лошадиными мордами, совали палками, плевались. Старуха, с треплющимися по ветру седыми космами, с тонким железным прутом в руке, вцепилась в казака.
– Сыночек, допусти! Допусти, сыночек, разок ткнуть!
Казак лениво замахивается нагайкой.
– Уйди, бабка, зашибу.
В камере – десять шагов в длину, десять в ширину – их сорок.
В углу, на нарах, с завязанной головой Соломон. Возле Соломона заботливо склонилась Вера, держит его руку в своих, любовно гладит. Рядом Петрухин. Упорной думой сдвинуты брови. Временами в гневной вспышке сжимаются кулаки. Андреич задумчиво качает черной седеющей головой, – мысли Петрухина для него, как на ладони.
– Нет, Алексей, не вырваться.
Сцепил Алексей черные широкие ладони, хрустнул пальцами.
– Как глупо вышло… Ни за грош…
Возле Андреича тоскует молодой парень Сергей.
– Расстреляют, должно быть?
Андреич утешает.
– Ну, тебя за что? Тебя выпустят. Подержат и выпустят. За что тебя, птенца такого!
Любовно смотрит в лицо парня. Лицо у Сергея бледное, с мягким овалом, длинные, как у монашки, волосы. Маленькая русая бородка и темно-серые лучистые глаза.
– Как за что? Ведь и меня с ружьем в руках взяли. Боязно мне, дяденька.
По деревенской привычке всех, старше себя, зовет дяденькой.
– Да ты как попал к нам?
Сергей торопливо и радостно рассказывает:
– Пошел я в город правду искать. Сначала пристал к эсэрам, думал, там она, правда-то. Ну, да вот, нехорошо, против рабочих идут, много народу из-за того положили. Да вот насчет войны опять же… Понравилось мне, как один старик рабочий рассказывал. Спрашиваю его:
– «Как же воевать бросить?»
– «А вот так, воткнул в землю штыки и все».
– «Да ведь враг-то стрелять будет?»
«Не будет. Ну и постреляет малость, а как увидит, что мы воткнули ружья в землю, не хотим, значит, сражаться и перестанет. Тогда мы пойдем к ним и скажем: «Братья, бросайте войну, не лейте понапрасну кровь! Чего нам с вами делить? Живите вы себе, мы вас не тронем, и вы нас не трогайте».
– «И не тронут?»
– «В жизнь не тронут».
Сергей смотрит на Андреича широко открытыми восторженными глазами.
– Ведь можно так, дяденька?
У Андреича молодым блеском загораются глаза.
– Можно, милый, можно! Так будет, так будет!
Сергей прижал ладони к груди, унимает радостное волнение.
– Вот за то и пошел я, дяденька. А то какой я большевик!
Прикорнул совсем близко к Андреичу, вытер рукавом рубахи вспотевший лоб.
– Дяденька, ты самый старший здесь, покаяться хочу. Скажи, есть бог или нет бога, я не знаю и боюсь… С вами пошел, потому как вы со злом боролись, добра хотели для всех. Теперь и я за добро умирать буду… А про бога не знаю.
Серьезно, без усмешки отнесся к просьбе молодого монашка Сергея Андреич.
– Что ж, милый, если думаешь легче будет, кайся.
Сидят на нарах, шепотом неслышным шепчутся.
2
Ночью, когда в камере спали чутким настороженным сном, по тюремным коридорам гулко затопали тяжелые шаги. Лязгнули приклады о каменный пол, загремел засов открываемой двери.
Всех словно пружиной подбросило. Монашек Сергей впился в Андреича задрожавшими пальцами.
– Дяденька, боязно мне!
Начальник со списком в руках… Увели пятерых красноармейцев. В камере осталось тридцать пять.
Глубокая скорбь в голосе Соломона.
– Не за себя, за тебя, Вера, страшно. Безумно жалко твою жизнь. Она могла бы быть такой прекрасной.
Вера склонила к Соломону лицо. Через плечи упали две золотые косы.
– Она и сейчас прекрасна. Было счастье в борьбе, было счастье в нашей личной жизни.
На мгновение лицо Веры затуманилось грустью.
– Вот жаль, петь больше не придется.
Тряхнула головой, откинула за спину косы и тихо, будто дитя укачивает, запела:
Спи, мой маленький, усни,
Сладкий, сон к себе мани.
Соломон благодарно жмет руку Веры.
– Милая!
Перед ночью Вера обрезала густые русые косы.
– Товарищи, кто выйдет живым, передайте матери.
А ночью опять по коридору гулкие шаги. Лязгают приклады, гремят засовы о двери. У начальства в списке:
– Соломон Лобовский, Алексей Петрухин, Вера Гневенко, Захаров Алексей, Морозов Павел.
– Собирайтесь!
Дрогнула рука Веры в руке Соломона. Потом к начальнику спокойно:
– Позвольте спеть!
– Без пенья обойдется!
Сам прячет глаза, не смотрит. Вера припала к груди Соломона, тихо запела.
Будто ветер степной по траве пробежал. Начальник поднял руку, хотел сказать что-то. Медленно опустилась рука. Повисла плетью и другая – со списком. Солдаты затаили дыхание, замерли очарованные. Может быть, детские годы вспомнили, матерей старых, жен молодых, в деревне оставленных; поля, леса, горы… А, может, горе человеческое, широко – из края в край – расплеснутое, только теперь поняли.
Дрожью зазвенела последняя страстная нота болью жгучей о жизни.
– А! А! А!
Кто-то хрипло вздохнул. Кто-то дрогнувшей рукой стукнул об пол прикладом. Начальник очнулся, стал строгим.
– Молчать! Что за церемонии! Живо!
Вера оторвалась от Соломона, глянула в любимое лицо.
– Я спокойна. Прощай!
Взяла Соломона и Петрухина за руки.
– Идемте.
Сзади, тоже рука с рукой, Захаров и Морозов. Лязгнули железные засовы у двери. В глубине гулких коридоров смолкли шаги. Сергей обратил к Андреичу побледневшее лицо.
– Дяденька… Дяденька… Что же это такое?
Андреич нежно, как сына, гладил молодого монашка по длинным русым кудрям.
У самого дергался подбородок, мелко дрожала левая бровь.
3
Вечером, когда на небе загорались первые звезды и тьма сгущалась вокруг деревьев, на лесную опушку приходили люди с лопатами. Молча, спокойным, деловитым шагом размеряли землю, становились в ряд, плевали в широкие жесткие ладони и начинали рыть. Три аршина в длину, аршин в ширину, аршин в глубину. Яма к яме, бок о бок. Между ямами вырастали холмики пухлой земли.
Будто ждали врага и рыли окопы.
Когда совсем темнело, когда ближние деревья пугающими призраками протягивали косматые лапы, люди бросали рыть, молча вскидывали на плечи лопаты и торопливым шагом уходили в город.
На смену четким твердым шагом приходили другие. Шли спаянным четырехугольником. А в четырехугольнике мелким неровным шагом спешили обреченные. Останавливались у приготовленных ям, стенки четырехугольника раздвигались, и у ям вырастали молчаливые, темные фигуры – у каждой ямы по одному.
Раздавалась негромкая «команда. Упругую тишину рвали залпы, будто большие полотнища сверху донизу разрывались. Иногда от края ямы раздавался клич:
– Да здравствует!..
Клич тонул в коротком залпе и длинной матерной брани.
Когда у ям не оставалось ни одной темной молчаливой фигуры, наскоро засыпали ямы и тем же спаянным четырехугольником уходили в провал ночи. Потом приходили опять и опять. И пока в светлевшем сумраке не начинали обрисовываться стволы деревьев, прыгали по лесу перекатами от дерева к дереву сухие короткие залпы…
Их было пятеро молодых безусых красноармейцев. Шли мелким, частым шагом, осторожно ступая босыми ногами по твердым комьям земли, – сапоги и обмотки давно были сняты солдатами. Самый молодой чуть слышным шепотом, чтоб враг не посмеялся над слабостью:
– Не дойду, братцы, ослаб я. Все тело ноет, места живого нет.
Двое взяли под руки, незаметно поддерживают.
– Держись за нас, легче будет.
Солдат плашмя ударил прикладом по заду.
– Но, но, торопись!
На лесной опушке остановились. Пятеро молодых безусых красноармейцев обнялись. Шепнули слабому на ухо:
– Держись, Ваня, сейчас все кончится.
Младшего передернуло, в зябкой дрожи ляскнули непослушные челюсти. Постарше, с колючими усами, крепко взял за руку, страстным шепотом убеждает:
– Ваня, голубчик, потерпи одну минуточку! Возьми себя в руки! Не дай белякам посмеяться!.. Одну минутку только.
– Ну вы, раздевайтесь! Становись у ям!
У ям смутно забелели голые фигуры красноармейцев.
– Взвод… Пли!
4
Шли будто на прогулку. Впереди – под руку – Петрухин, Соломон и Вера. Сзади, тоже под руку, члены горсовета – Захаров с Морозовым. Комочком льда застряли в Вериной груди тоска, холодит сердце. Чтобы скрыть тоску от других, чтоб растопить ледяной комочек в груди, Вера чуть слышно звенит мелодией «Интернационала».
На лесной опушке, в кольце солдат простились. Со всеми поцеловалась Вера. Чуть дольше, чуть крепче с Соломоном. Соломон сжал Верину руку.
– Крепись, родная!
Вера положила Соломонову руку к себе на грудь.
– Ты слышишь, как спокойно бьется сердце?
В ряд, на два шага друг от друга, лицом к лицу, глаза в глаза с палачами, у пяти ям пять фигур. Взвод нащупывает черными дулами…
Вера закрыла глаза.
Только бы выдержать, не смалодушничать.
Офицер отошел немного в сторону; прикинул взглядом расстояние, помедлил.
– По первому… Взводом…
В голосе офицера нет надлежащей твердости. Голос офицера вздрагивает и ломается в хрипе. О черт, еще подумают; что он волнуется!
Вспыхивает злоба, наливает до краев офицерово сердце.
– Отставить!
Голос офицера звенит, упруго катится по лесной опушке. Частыми неровными толчками забилось сердце… Офицер перевел дух.
– По первому… Взводом…
Долго медлил с командой, с наслаждением выдерживал паузу. У солдат одеревенели руки с ружьями у плеча.
Вера поняла пытку. Открыла вспыхнувшие презрением глаза и тонко и нервно крикнула:
– Негодяй!
Словно плетью хлестнуло по лицу офицера. Почувствовал, как волна горячей крови хлынула от сердца. Остолбенел на миг. Прыгнул вперед, задохнулся в злобе:
– Пли!
Раздался недружный залп. Жутко прозвучал одинокий запоздавший выстрел. Офицер выхватил револьвер, в бешенстве подскочил к солдатам.
– Отставить? Кто там? Застрелю.
От ям хлестнули гневными криками:
– Палачи! Убийцы!
Офицер подбежал вплотную к Соломону, в упор выпустил в него все пули из револьвера. Соломон, захлебываясь кровью, упал в яму и из клокочущего горла хрипло выдавил.
– Подлец! Я жив еще… жив…
Офицер перестал соображать. В диком исступлении спрыгнул в яму.
– А-а, жидюга! Бейте его, бейте!..
Петрухин рассчитал верно, – быстрый прыжок в бок, потом назад. По инерции выстрелят прямо. Еще шаг вперед, а там деревья чаще, а там овраг и, может быть, свобода!
Зорко посмотрел в бок, не попалась бы яма под ноги.
Упала первой Вера. Рядом упал Соломон. Спрыгнул офицер в яму.
– Бежать, бежать!
Петрухин набрал в широкую грудь побольше воздуха. Раз, два… Диким таежным зверем метнулся через яму влево.
– Стреляй, стреляй!
Просвистели пули у самой головы, защелкали по стволам деревьев. Как иглой укололо плечо. Сзади, совсем близко десятки ног ломают сучья.
– Стреляй, стреляй!
Скорей, скорей! Наискось, наискось, к оврагу! Шаг у Петрухина широкий, пружинистый, грудь – меха кузнечные – выдержит, только бы пулей не задело. Скорей, скорей!
Бешено мелькают стволы навстречу, протягивают цепкие лохматые лапы, хлещут иглами по лицу. Пули о стволы:
– Тэк! Тэк!
Крики отстают. Еще усилие, еще. Наискось, наискось к оврагу… Исцарапанного, исхлестанного в кровь лица коснулась прохлада – близко овраг. С разбегу, с высокого обрывистого берега, прямо в овраг. Упал в густую заросль на дно оврага, вскочил.
– Цел! Цел!
Перевел дух. Бежать, бежать! Ринулся по густой заросли оврага. Скорей, скорей! Замолкают голоса вдали. Реже одиночные выстрелы. Петрухин замедлил бег, глянул вперед – в предутреннем тумане светлой полоской блеснул Иртыш.
– Свобода!
5
Утром сгрудились у нар возле Сергея. У молодого монашка бледное восторженное лицо, сияют лучистые темно-серые глаза.
– Товарищи, какой я сон чудесный видел. Стоит, будто, на середке камеры товарищ Вера. Лицо у нее светлое-светлое, и во всей камере оттого светло.
«Товарищи, – говорит, – споемте «Интернационал», а то когда еще придется вместе петь».
И будто запела, да так, братцы мои, запела, что у меня слезы на глазах навернулись. Стоим мы все вокруг Веры и тоже поем, не все слова, а только припев. Ах, товарищи, я не умею рассказать, как это было хорошо! Мне сдавило сердце, и я проснулся…
Андреич в волнении ходит по камере.
– Ах, малец, малец, какой чудесный сон!
У Андреича затеплело в груди, к горлу подкатил комок. Дрогнувшим тихим баском запел:
Это есть наш…
И вдруг мощная захватывающая радость схватила за сердце. Тридцать голосов слились в неудержимом порыве, и победным криком взметнулось по камере:
С Интернационалом!..
По тюремным коридорам забегали надзиратели. Бежали солдаты, щелкали на ходу затворами.
– Молчать, сволочи, молчать!
Застучали прикладами в дверь.
Андреич вскочил на нары.
– Товарищи, разве нас могут сломить муки, пытки, смерть! Разве в силах палачи заглушить наш голос! Разве может погибнуть наше дело!