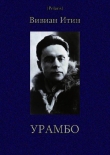Текст книги "Колчаковщина (сборник)"
Автор книги: Павел Дорохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Я хочу попробовать.
– Да успеете, этой сволочи мы сколько угодно найдем.
Подошел к Сун-Сену, спросил негромко:
– Так это тебе Советы надо?
Сун-Сен недовольно посмотрел на офицера и хмуро проворчал:
– Советы нада.
– Так, так, Советы надо.
Капитан задумчиво глядел в смуглое желтое лицо Сун-Сена и кивал головой.
Зашел сбоку, потрогал косу китайца.
– Гм, настоящая коса, удивительно.
По лицу капитана Ефимова скользнула улыбка. Капитан обернулся к Зелинскому.
– Как вы думаете, пан Зелинский, удержит этот богатырь на косе двух своих товарищей?
Зелинский заинтересовался.
– В самом деле, это интересно.
– Ну-ка, ребята, попробуйте, – приказал Ефимов.
Сквозь связанные руки Кванг-Син-Юна и Шуан-Ли продернули веревку, связали петлей, к петле прочным узлом привязали косу Сун-Сена. Капитан подошел к китайцам, попробовал, прочно ли привязано. Подвели китайцев к борту. Сун-Сен лицом к палубе, Кванг-Син – Юн и Шуан-Ли спиной к Сун-Сену, лицом к воде.
– Прыгайте!
Знаками показали Кванг-Син-Юну и Шуан-Ли, что им надо броситься в воду.
Китайцы покачали головами.
– Моя нет виноват… Вода не нада.
– Ага, – засмеялся капитан, – вода не надо, а Советы надо… Кольни их в зад!
Солдаты слегка ткнули штыками Кванг-Син-Юна и Шуан-Ли. Китайцы прыгнули через борт. Пошатнулся Сун-Сен. Нагнулся вперед, сжался в железный комок напряженных мышц. Блестящим черным канатом натянулась Сун-Сенова коса. Еще ниже к палубе хочет пригнуться Сун-Сен, но девятипудовая тяжесть повиснувших на косе китайцев со страшной силой тянула все тело назад. Частыми гулкими ударами забилось сердце. Хлынула упругими толчками кровь по жилам. Прилила к голове, к лицу. Лицо – как кровь, глаза – как кровь. Жилы на лбу и на висках у темени вздулись веревками. Тянет страшный груз. Медленно распрямляется Сун-Сен. Дрожат ноги в коленях. В груди огромным молотом бьется сердце. Два молота поменьше – в висках. Тысячи мелких молотков – в ушах.
Капитан Ефимов с любопытством смотрит.
– Выдержишь, черт с тобой, пущу, честное слово офицера!
Больше и больше распрямляется Сун-Сен. Красный туман перед глазами. Из тумана в глаза Сун-Сену заглядывают два других глаза. Скрестились две пары жутких человеческих глаз, приковались друг к другу, не оторвутся. Глаза Сун-Сена и глаза официанта Максима, прильнувшего к стеклу рубки первого класса. В обеих парах глаз глубокое человеческое страдание…
Выпрямил страшный груз Сун-Сена. Стоит он во весь рост, приковался кровавыми безумными глазами к безумным глазам Максима. Изо рта тоненькой струйкой побежала кровь. Двумя тоненькими струйками из ноздрей, двумя ниточками из ушей.
У капитана Ефимова дернулся левый пушистый ус. В мелких судорожных морщинках задергалась левая щека. Капитан нервно вскинул левое плечо и глухо хрипнул:
– Ткните тех… внизу!
Кванг-Син-Юн и Шуан-Ли заметались от боли, увеличили тяжесть груза. У Сун-Сена подкосились ноги. Он упал на колени, но страшный груз перегибал туловище Сун-Сена назад… Еще… Еще… Сун-Сен оторвался от палубы, мелькнули ноги. Внизу, за бортом, будто рыба большая метнулась в воде…
Молоденький черноусый гусар, пошатываясь, подошел к борту и склонил к воде бледное перекошенное лицо. От того места, где упали китайцы, во все стороны побежали рябью маленькие волны…
Капитан Ефимов сердито, и хрипло обратился к Зелинскому:
– А молодец китаец, пан Зелинский?
Пан Зелинский снял маленькую, изящную, с малиновым околышем, фуражку, вытер вспотевший лоб.
– Да… китаец… страшно…
Под холеными усами пана Зелинского дрожала растерянная улыбка, а ровные белые зубы выбивали нервную дрожь…
5
В Ивановку пустили орудийный залп.
В двух местах взметнулись к небу широкой воронкой черные клубы дыма. Зазвонили в набат. По улицам забегали обезумевшие люди. Спешно накладывали на возы добро и спешили с узлами и детьми на руках вглубь, подальше от берега.
Пароход, стреляя из всех четырех орудий, медленно спускался вниз.
Деревня пылала…
…Сидит Максим в своей крошечной каютке, мутным, немигающим взглядом приковался к стене. Со стены двумя жуткими глазами глядит на Максима широкое желтое лицо. Глаза налиты кровью. Безумие широкой осязательной струей льется из глаз китайца в глаза Максима. Струйки крови из левого угла рта, из ноздрей и ушей китайца сбегают по синей кофте, капают на пол Максимовой каюты.
Кап… кап… кап…
Каждая капля отдается в ушах Максима колокольным звоном. Медленно распрямляется китаец, вместе с ним медленно распрямляется Максим. Все ближе и ближе глаза китайца к глазам Максима. Вот, вот, около, глаза в глаза. Холодеет тело Максима, ужас холодной волной льется из глаз китайца в глаза и мозг Максима.
– Ай!
Очнулся Максим. В приоткрытую дверь каюты бледное лицо горничной уставилось на Максима широко открытыми, испуганными глазами.
– Какие вы страшные, Максим Иваныч, что с вами?
Максим тяжело перевел, дух. Унимает рукой бьющееся сердце.
– Ох, воды!
Горничная кинулась из каюты и сейчас же вернулась с водой. Залпом выпил стакан. Провел рукой по глазам.
– Заболел я, Анюта.
…Ночью в Максимову каюту один за другим пробрались три человека – приземистый и широкоскулый артиллерист Коротков, пулеметчик Мелехин и высокий бородатый лоцман. Всю ночь в каюте слышался страстный шепот Максима, сдержанно гудел лоцманский бас. На рассвете так же один за другим, соблюдая осторожность, вышли из каюты…
Рано утром пароход пристал к берегу между двумя селами, налево – Чусовка, направо – Вязовка. Две пушки на Чусовку, две – на Вязовку.
– Огонь! Огонь!
Капитан Ефимов и пан Зелинский наблюдают в бинокль.
– Может быть, мирное население, пан капитан?
– Все бунтовщики! Огонь! Огонь!
Оба села пылали. Ветер доносил встревоженный набатный звон. В бинокли было видно, как метались по улицам обезумевшие люди…
С парохода высадились двумя отрядами, – отряд на Вязовку, отряд на Чусовку. На пароходе остались артиллеристы и пулеметчики и из офицеров – капитан Ефимов и пан Зелинский. Оба в рубке первого класса пьют кофе и мирно беседуют.
Максим бегает по пароходу от солдат к матросам, от матросов к солдатам.
Страстно убеждает:
– Братцы, голубчики, невозможно так больше! В чьей крови купаете руки? В крови отцов своих, братьев, матерей, сестер. Кто вы сами-то, не народ разве? Из господ разве?
Взволновались от страстных Максимовых слов, загудели сдержанно:
– Ну, какие господа, все из крестьян.
– Я и говорю. Смотрите на господ-то, вас послали убивать, а сами кофеем прохлаждаются.
Максим показал на верхнюю палубу, где сидели капитан Ефимов и пан Зелинский.
– Братцы, нельзя так больше. Самих себя убиваете. Может, в ваших селах такие же солдаты, как и вы, насилуют ваших жен, сестер, порют ваших отцов и матерей. Разве можно терпеть?
Артиллерист Коротков выступил вперед, решительно взмахнул руками.
– Одним словом, верно, братцы! Кому служим, – господам. Кого бьем, – своих отцов и братьев!
Хмурились загорелые, обветренные лица, ломались брови над вспыхнувшими злобой глазами. Все решительнее наступал на солдат Коротков.
– Братцы, им что? Чуть неустойка, их и след простыл, а мы куда денемся? Отвечать придется, – как ответим? А отвечать рано или поздно придется, долго эта власть не продержится, со всех сторон горит, не затушишь.
И опять страстный шепот Максима:
– Братцы, вся надежда на вас, наши матросы все, как один, пойдут.
– Да что толковать, валяй, братцы!
Максим и Коротков бросились на верхнюю палубу, за ними тяжелым шагом затопали солдаты. Вбежали в рубку.
Капитан Ефимов с удивлением взглянул на солдат.
– Что такое? Зачем вы сюда?
Максим подскочил к офицерам, в волнении размахивая салфеткой, как шашкой.
– Это счет, господа офицеры.
Обернулся к солдатам, показал на офицеров, жестко зазвенел голос:
– Взять их!
Растерявшихся и почти не сопротивлявшихся офицеров вывели на палубу, поставили к борту.
– Прыгай в воду!
Капитан Ефимов и пан Зелинский с трудом соображали, что происходит, и молчали.
– Ткни их в зад.
Солдаты остервенело ткнули штыками. С криком боли офицеры бросились в воду.
– Стреляй! В руки меться! В ноги стреляй! В голову не бей!
Вокруг пана Зелинского засвистели пули. Остро кольнуло в бок. Зелинский нырнул. Нырнул и капитан, задохнулся, быстро вынырнул.
– К берегу, пан Зелинский, к кустам.
В полсотне сажен по берегу мелкий кустарник.
Солдат встал на одно колено, положил ружье на борт, прицелился.
– В левую!
Капитан опустил левую руку, загребает одной правой.
– В правую, в правую целься!
Близко берег. Тихо колышется зеленый кустарник. Капитан опять нырнул. Вынырнул в двух десятках саженей от берега. Вихрем проносятся мысли в голове:
«Господи, спаси… Господи, спаси…»
Прокололо правую руку. Хочет поднять, не может. Кровавые тонкие струйки из рук. Потекли слезы по круглому лицу капитана. Смертельной тоской и сознанием ненужности содеянного налились глаза.
«Господи, прости…»
Еще раз бессильно взмахнул рукой.
«В руки твои предаю…»
Словно за ноги кто ухватил капитана Ефимова, потянуло ко дну. В широко открытый, задыхающийся рот булькнула вода.
Пан Зелинский прячет голову в воду, руки словно мельничные крылья мелькают. Жужжат пули вокруг пана Зелинского. Окрашивается вода кровью из простреленного бока. Мокрая одежда тянет ко дну, мешает плыть.
Максим не выдержал:
– Черт с ним, кончайте скорей!
Сразу грянуло несколько выстрелов. Пан Зелинский скрылся под водой.
6
Отряд из Вязовки возвращался к обеду. Издалека увидали – на борту парохода стоит Максим с салфеткой в руках.
– Максим Иваныч дожидает. Хорошо закусить и выпить после трудов праведных.
До парохода осталось шагов пятьдесят. Максим взмахнул салфеткой, и прямо в лицо отряду горячим дождем плеснули пулеметы.
– Подобрать оружие! Снять амуницию! Столкнуть тела в воду.
С парохода бросились подбирать оружие и тела убитых.
К вечеру возвращался отряд из Чусовки. На борту опять дожидает Максим.
И опять белая салфетка под мышкой. Все ближе и ближе отряд. Алеют под заходящим солнцем фуражки польских гусар.
Максим перегнулся через борт, прикинул глазами расстояние. Взмахнул салфеткой. В упор отряду затакал пулемет. Люди бросились бежать. Со стоном падали, вставали, опять бежали и снова падали, ползая по земле в предсмертных корчах.
Когда на берегу не оставалось бегущих, пулемет замолчал. С парохода спустились подбирать оружие…
Утром на пароходе взвился красный флаг.
На капитанском мостике Максим в солдатской рубахе защитного цвета. На груди у Максима красный бант, любовно приколотый горничной Анютой. Рядом с Максимом артиллерист Коротков и лоцман. Красные бантики и у них. Сочный, играющий радостью бас бородатого лоцмана будит раннее, тихое утро.
– Отдавай носовую!
– Есть!
– Ти-ха-ай!.. Пол-на-ай!..
На Сизовской пристани несколько вооруженных повстанцев зорко всматриваются и вверх и вниз по реке, – не покажется ли вражеский пароход.
– Война, братцы, пошла всамделишная.
– Самая всамделишная.
– Покрошили мы их…
– Своих тоже шибко легло.
– Что поделаешь, не бывает без этого.
– Большак-то бритый, вот леший, так и прет, так и прет, ровно больше всех ему надо.
– Что говорить, генерал…
Снизу показался пароход. Присмотрелись мужики.
– Гляди, паря, пароход снизу.
– И то пароход.
Зорко всматриваются из-под широких ладоней.
– Гляди, гляди, красный флаг на пароходе!
– Красный, братцы.
– Скачи, Петьша, в штаб.
Мужики рассыпались по берегу цепью. Из-под обгорелой груды барки торчит пулемет.
Верхами прискакали штабники, пришли на пристань. Димитрий смотрит в бинокль.
– Что за черт! Не ловушка ли!
– Да вить красный флаг.
– Мало ли что…
Бодрых узнал пароход.
– Товарищи, да это «Коммерсант».
Вглядывается Димитрий.
– Да, да, «Коммерсант».
Пароход подходил все ближе и ближе, давая громкие и, казалось, радостные гудки. Отчетливо видны люди на палубе. Можно рассмотреть красные бантики на груди у людей.
– Что за черт, ничего не пойму! Откуда красным взяться?
Димитрий гонит прочь радостную мысль, что в городе переворот, а самого так и подмывает.
– Красные! Красные!
С парохода машут фуражками, кричат ура. На капитанском мостике, рядом с бородатым человеком, стоит высокий, бритый, с таким знакомым лицом. Киселев напрягает память. Где, когда видел это лицо? Что за черт, да ведь это официант с парохода. Да. Да. Да.
Димитрий обернулся к толпе.
– Товарищи, это наши, я узнал человека!
– Ура!
Со всех сторон сбегаются мужики к конторке. С капитанского мостика несется зычный голос бородатого человека:
– Ле-ва-ай… Ти-ха-ай!.. Сто-оп!..
Максим Иваныч спустился с парохода, мельком оглядел толпу, увидал Димитрия. Заиграла радостная улыбка на бритом лице.
Прямо к Димитрию.
– Как вы старший товарищ, то извольте принять рапорт…
Руку под козырек и чеканно, по-военному:
– Восставшим экипажем парохода «Коммерсант» пароход взят. Войска неприятеля разбиты. Взято в плен четыре пушки, семь пулеметов, семьдесят два ружья, тридцать семь шашек и прочая амуниция. Двадцать два неприятеля присоединились добровольно.
У Димитрия закружилась голова. Брызнула радость из глаз. Бросился к Максиму, стиснул крепко Максимову шею.
– Товарищ, дорогой мой!..
Радостным кличем несется по берегу, отдает от бортов парохода:
– Ура! Да здравствуют Советы!
Димитрий в сопровождении штаба пошел на пароход. Максим Иваныч нагнулся к уху Димитрия и шепнул:
– Чемоданчик ваш в полной сохранности.
Глава седьмая
В поход
1
По широким степям, по большим и проселочным дорогам, от села к селу, колокольным звоном разливаются вести о сизовских событиях.
– Сизовские бунтуют… Колчаковский отряд разбили… Пароход с пушками и пулеметами в плен взяли… Большевистский штаб в Сизовке объявился…
Катуном-травой бежит, перекатывается:
– Вязовские бунтуют… Ивановские бунтуют… Чусовские… Куртамышские…
И все дальше и дальше по широким степям, по дремучим лесам гудит, звенит набат:
Бунт… Бунт… Бунт…
…Чуть плещется вода о борта парохода. Пароход «Коммерсант», как плавучая крепость, – нос ощерился двумя жерлами пушек, корма – двумя жерлами, борта – пулеметами.
В рубке первого класса заседает штаб Сизовской революционной армии. В штабе несколько новых лиц: официант с парохода «Коммерсант» Максим Иваныч, бородатый лоцман и приземистый широкоскулый артиллерист Коротков.
На суровых, обветренных лицах штабников – твердая решимость, – люди хорошо знали, куда идут. Все взвешено, обо всем переговорено, и Димитрий должен был лишь точно и ясно высказать общие всем мысли.
Киселев оглядел собравшихся.
– Товарищи, мы взвалили на свои плечи огромное дело. Надо держаться до конца, отступления для нас не может быть, дорога теперь одна – победа или смерть. Наших сил, видите сами, мало. Вязовские, ивановские и другие восставшие села увеличат наш отряд лишь незначительно. Надо перекидываться дальше, надо немедленно поднять все население, объявить мобилизацию.
– Верно, мобилизацию в самый раз.
– Пойдут ли мужики, – нерешительно сказал Яков Лыскин. – Дело шибко сурьезное…
– Пойдут, – уверенно ответил Молодых, – теперь все пойдут. А которые не пойдут, тем приказ написать.
– Приказы мы всем напишем, – продолжал Димитрий. – Надо связаться с городом. Там непременно должны быть партийные товарищи, а если в городе работа почему-либо не ведется, – начать ее самим. Затем необходимо сейчас же послать людей к Петрухину, установить связь с ним. Нам всем уже не раз приходилось о Петрухине слышать…
– Мы уж посылали к нему, – вставил Бодрых, – троих мужиков послали, как только бунтовать начали.
– Я знаю, но до сих пор ваших гонцов нет, – очень возможно, что они не добрались до Петрухина, погибли где-нибудь. По имеющимся у нас сведениям, Петрухин держится главным образом в районе железной дороги. Сил у него, по всем признакам, должно быть значительно больше, чем у нас. Неизвестно, как у него с оружием дело, а у нас пушки, пулеметы. Вместе с Петрухиным мы будем представлять грозную силу.
У Димитрия засверкали глаза. Да, да, он верит, что волны повстанческого движения разольются по всей необъятной Сибири и без остатка смоют уже пошатнувшиеся твердыни верховного правителя…
– Ну, товарищи, кто желает высказаться по поводу доклада?
– Да чего уж, известно…
– Конешное дело, деваться теперь некуда, объявляй буржуям войну.
Иван Бодрых с улыбкой хлопнул лапищей по плечу Молодых:
– Пиши, Петьша, письмо Колчаку, войной, мол, на тебя сизовские мужики идут… Не хотел кардинское именье добром отдать, – теперь всю землю отберем.
– Объявляй мобилизацию, товарищ Киселев. Время будто рабочее, не совсем подходящее, да уж все едино: дом горит – щепки жалеть не будешь.
Все предложения Димитрия штаб принял единогласно.
…Через два дня во все стороны поскакали из Сизовки гонцы с приказами штаба.
– Мобилизация!.. Куйте пики!.. Все на борьбу с вековыми насильниками и угнетателями трудового народа!.. За власть Советов!.. Долой колчаковских министров, наемников капиталистов и помещиков!
По деревням, по селам, по заимкам призывным кличем несется:
– Мобилизация!.. За власть Советов!.. Все в Сизовку!
Загудели, всполошились людские муравейники. Собираются в кружки молодые и старые, бородатые и безбородые. Зашумели шумом таежным сельские улицы:
– Бунтуют?
– Бунтуют.
– Колчака не хотят?
– Еще хотеть. Земли помещикам, а подати мужикам.
– При Советах не платили…
– При Советах, конешно… Наша власть.
– Мобилизация?
– Мобилизация, однако.
– Ну так как же, пойдем?
– Надо идти.
– А как же! Приказ. Видал и подпись – штаба революционной армии.
– Да, дело сизовские затеяли нешуточное.
А гонцы все дальше, дальше. День и ночь, день и ночь.
– Мобилизация!.. За власть Советов!.. Все в Сизовку!..
2
Стоит Димитрий на борту парохода, смотрит на берег. Радуется. Чувствует, как радость по жилам переливается. Вот, кажется, рукой можно взять и посмотреть ее, радость долгожданную.
– Эх, целая армия!
На берегу волнуется людское море. Три тысячи человек в Сизовской армии. Три полка пехоты, полк конницы. В каждом полку по два пулемета» При отряде – батарея, четыре пушки.
Сила несокрушимая!
Буйно плещется радость в груди Киселева. Так и подмывает прыгнуть через борт, громким голосом крикнуть:
– Товарищи, вперед!.. За власть Советов!.. За угнетенных!
Димитрий поднимается на носках, тянется через борт к шумящей на берегу толпе. Хочется слиться с ней в единую душу, в единую мысль.
Ах, радость пьянящая. Все, все сметут со своего пути! Жалкой буржуазной плотнике не удержать разбушевавшегося потока!
…Вернулся гонец от Петрухина, выкладывает штабу привезенные вести:
– Сто пятьдесят верст до Петрухина, а то и все двести будут. Целая дивизия у него. Идет Петрухин вдоль железной дороги, забирает станцию за станцией, разбил два больших колчаковских отряда, а мелких – и не счесть сколько. Теперь идут на Петрухина со всех сторон: от Семипалатинска, от Барнаула, от Славгорода, от Камня…
– А самого Петрухина видал? – спросил Димитрий.
У гонца по всему лицу улыбка.
– Видал, парень, видал.
– Ну что, как?
– Молодец. Плечища – во-о, не меньше Ивановых будут, – кивнул гонец на Бодрых, – бородища черная – во-о, взгляд сурьезный, прямо Ермак Тимофеич!
– Говорил ты с ним?
– Говорил. Бунтуем, говорю, а за главного у нас товарищ Киселев…
– Ну, ну? – не терпит Димитрий.
– Слыхал, говорит, да все сомневался, тот ли, которого я знал.
– Тот самый, говорю. Очень обрадовался, подошел ко мне, сдавил ручищами, поцеловал. Вот, говорит, поцелуй ты того самого товарища Киселева, скажи, что от меня.
Киселев взволнованно подошел к гонцу и крепко поцеловал его в запутавшиеся в волосах губы. Волнение Димитрия передалось мужикам. Наиболее нетерпеливый Петр Молодых стукнул по столу.
– Товарищи, выручать надо Петрухина!
– Конешно, вместе и нам будет легче.
– Да, да, товарищи, – сказал Димитрий, – мы немедленно выступим на соединение с Петрухиным. Мы поднимем по дороге к нему всех, кто еще не поднялся. Готовьтесь в поход!
На рассвете из Сизовки выступил конный полк Максима. За Максимом – полк Ивана Бодрых, за Бодрых – Лыскин Яков с полком, Петр Молодых с полком. Сзади отряда по жесткой дороге погромыхивала батарея товарища Короткова.
3
Пришел в село Украинку отряд польских гусар.
Вызвал начальник отряда председателя волостной земской управы Федора Чернышева, осмотрел его с ног до головы.
– Ты председатель?
– Точно так, ваше благородие.
– Доставить провизии на четыреста человек.
У Федора Чернышева сразу живот схватило. Ну-ка, на четыреста человек.
– Ваше благородие…
Начальник показал Федору Чернышеву нагайку, молча помахал ею в воздухе.
– Видал? Ступай!
Потоптался Федор на месте, помял шапку в руках, глубоко вздохнул и вышел.
Что делать? Где на четыреста человек провианту достать. Не достанешь, сожгут поляки деревню, хуже будет. Да, помирай, а делай.
И Федор отправился делать…
Утром поляки ушли…
В этот же день, в полдень, в Украинку вступили чехи.
– Вызвал чешский начальник, капитан Палечек, Федора Чернышева к себе.
– Ты председатель?
– Я.
– Через два часа на пятьсот человек провизии.
У Федора со страху опять резь по всему животу.
– Ваше благородие…
Капитан Палечек подошел к Федору, с холодным любопытством посмотрел ему в лицо ясными голубыми глазами. Неторопливо отстегнул кобуру револьвера, чуть дотронулся до рукоятки и тихо, выразительно сказал:
– Через два часа. Понял?
Федор Чернышев вздохнул.
– Понял.
Повернулся и вышел.
Пять минут Федор шел до своего дома, пять минут просидел на заднем дворе, пока не успокоился живот, полтора часа бегал по мужикам. Грозил, упрашивал.
– Черт с вами, мне не больше всех надо. Плюну на вас, лешаков, да уйду к сизовским.
Через два часа к волости везли солонину, гнали баранов.
Наутро чехи оставили Украинку…
К вечеру в село входил русский отряд. Собрался Федор Чернышев в волость, тяжело вздохнул:
– Ну, паря, и нам бунтовать. В разор разорят мужиков.
…Вернулся Федор домой, – полна изба солдат.
– Примай гостей, хозяин.
– Что ж, хорошим людям завсегда рады.
Хитрый человек Федор. Успел узнать – куда солдат гонят, а еще хочется допытаться. Сел на лавку, поясок на рубахе поправляет, лениво скребет под мышками. Спрашивает, будто нехотя.
– Куда гонят?
– На большевиков.
– Где они здесь, большевики, не слыхать ровно-ка.
– А кто их знает – где. Будто на железной дороге, а где эта дорога, мы и сами не знаем.
– Не здешние, однако, сами-то?
– Не здешние, иркутские, которы енисейские.
– Дальние, значит?
– Дальние.
– Из крестьян?
– Крестьяне.
– Та-ак. На железную дорогу, значит. Кто же это там бунтует?
– Петрухин, говорят, какой-то появился. Вот его и идем усмирять.
– Петрухин? Вон оно какое дело! Что ж, видно, много у него народу, целая армия вас на него.
– Не знаем. Должно, много.
Федор путается пальцами в черной седеющей бороде, тяжело вздыхает.
– Крестьяне, значит. Та-ак. Разор нашему брату выходит. Кто ни дерется, все мужики в ответе. Вот теперь поляки прошли нашим селом, чехи прошли, сколько скотины одной порешили. Теперь вот вы пришли, вам вдвое больше понадобится. Вас, ровно-ка, больше народу.
– Да, целый полк нас.
– Ну вот. А кто нам заплатит, с кого убытки искать.
Широкое лицо Федора спокойно, голос глухой и негромкий, а глаза упорно сверлят солдат.
Солдатам неловко под пронизывающими глазами Федора и его двух сыновей. Сочувственно вздыхают.
– Где уж сыскать…
…Вышел Федор на двор, за ним оба его сына.
– Вот че, ребятки, сизовский отряд, говорят, недалеко.
– Слыхали.
– Сказать бы, что войско на Петрухина идет видимо-невидимо.
– Сказать надо бы.
– Не съездить ли вам, ребятки.
Парни молча переглянулись и в один голос ответили:
– Съездим.
4
Максим с десятком всадников далеко опередил свой полк. Выехали на пригорок, остановились. Максим поднес бинокль к глазам, обшаривает степь. А степь широкая-широкая, глазом не окинешь.
– Эх, братцы, раздолье-то!
Легко и радостно дышит Максимова грудь. Хочется спрыгнуть Максиму с коня, прижаться грудью к горячей земле, вобрать в себя силу земляную, великую. Да потом бы одним ударом по всем буржуям – хлоп! – чтоб только мокренько осталось.
У горизонта поймал биноклем две черные точки. Долго всматривался.
– Верховые скачут. Двое. Пусть ближе подъедут, неизвестно, что за люди.
Съехали с пригорка назад, спешились. Максим лег на землю, высунул из-за пригорка голову, нащупал биноклем две черные точки, держит. Точки быстро приближались.
– Мужики скачут сломя голову. Не к нам ли гонцы откуда.
Когда мужики были саженях в двухстах, Максим с товарищами разом выехали на пригорок и легкой рысью тронулись навстречу. Мужики в нерешительности остановились.
Максим махнул рукой и что было силы крикнул:
– Подъезжай, не бойся!
Мужики подъехали. Оба молодые, безбородые.
– Кто такие?
– Да мы, вишь, из Украинки.
– Куда едете?
Мужики замялись, смущенно переглянулись друг с другом. Постарше из мужиков спросил:
– А вы сами кто же будете?
Максим гордо выпрямился в седле.
– Мы – революционная армия восставшего народа!
Парни обрадовались.
– О? Сизовские, однако?
– Да, сизовские.
– Вас-то нам и надо. Нашим селом колчаковское войско идет. Видимо-невидимо.
– Стой, говори толком. Далеко ваше село?
– Верст двадцать отсюда.
– Куда войско идет?
– К железной дороге, Петрухина ловить. Слыхать, Петрухин там бунтует.
– Сколько войска?
– Конных поляков полтыщи прошло, чехов полтыщи прошло. Теперь наши русские идут, этих побольше будет. Ну, да только у них вроде как раздор промеж себя, не дружно идут, вразброд.
Максим задумался.
– Ну, вот что, ребята, вам надо в штаб с нами. Там еще расскажете.
Отрядил Максим трех всадников к Украинке, трех направил наперерез вышедшим из Украинки отрядам, чтобы следить за их продвижением, сам с оставшимися и двумя парнями – сыновьями Федора Чернышева – быстро повернул к штабу…
Путь карательного отряда намечен большой дорогой – Украинка, Смоленка, Мариинское.
Революционный штаб спешно выработал план.
Два полка и батарея ускоренным маршем перерезают большую дорогу у Мариинского, занимают село тотчас по уходе из него поляков, укрепляются и ждут чехов.
Конница Максима держится вблизи Смоленки, ждет выхода из нее чехов и тотчас после ухода занимает Смоленку.
Бодрых с полком вклинивается между Смоленкой и Украинкой и сдерживает русских.
Связь между частями держать Максиму.
…Разведка донесла, что польский отряд вышел из Мариинского. Полки Якова Лыскина и Петра Молодых и батарея Короткова быстро подтянулись и через два часа заняли село. Впереди села установили пушки жерлами к чехам. По бокам дороги, по ложбинкам, по овражкам, по кустам и бугорочкам рассыпались полки. Весь штаб выехал далеко за поскотину, в поле. Впились биноклями вдаль, где чуть заметной светлой точкой поблескивал крест на смоленской колокольне. Молодых нервно стискивал бинокль, опускал его, опять поднимал к глазам. Вдруг прорвался в тяжком вздохе.
– Да-а!
Яков Лыскин, не отнимая от глаз бинокля, чуть тряхнул головой.
– Сурьезное дело.
Киселев повернулся к товарищам с лицом спокойным и светлым:
– Верю, товарищи!
Протянул обоим руки, улыбнулся.
– У чехов винтовки хорошие, нашим ребятам пригодятся. А то у нас все больше с пиками.
5
Иван Бодрых перехватил по дороге пятерых солдат. Молодые, безусые, пугливо озираются. Сурово осмотрел Иван солдатиков.
– Дезертиры?
– Да, дезертиры.
– Откуда?
– Из Украинки.
– Скоро выступают?
– Не хотят выступать, солдаты бунтуют.
Бодрых еще раз внимательно оглядел всех пятерых, немного подумал и строго сказал:
– Вы, вот што, пареньки, вы мне все по чистой совести, как попу на духу. Мы сами – революционная армия, вы убежали из колчаковской армии, теперь, значит, наши вы.
Парни закрестились.
– Ей-богу, товарищ, правда, солдаты не хотят идти, собрание устроили!
– Зачем же вы убежали? Раз не хотят идти, хорошее дело, вы-то зачем убежали?
– Испугались. Командир посылать за чехами хотел, всех расстрелять грозился.
Иван что-то молча обдумывал.
– Ну, вот што, пойду-ка я сам посмотрю, правду ли говорите.
Парни обступили Ивана, встревожились все разом:
– Дяденька, не ходи, убьют!
– Ей-богу, убьют!
– Не ходи, дяденька!
Обступили Ивана Бодрых и свои.
– Или и впрямь Иван, идти думаешь?
Усмехнулся Бодрых.
– Пойду, однако. Занятно шибко.
Подошел Бодрых к Украинке, смотрит – двое часовых стоят.
– Што тут, братцы, война, што ль?
Один недружелюбно поглядел на Ивана, другой махнул рукой:
– Ступай, не до тебя.
Бодрых прошел мимо.
На улице, как в праздник – народу, народу. Остановил Иван мужика.
– Што у вас за праздник?
Мужик оглядел Ивана с ног до головы.
– Не здешний, видать?
– Не здешний, дальний.
– Да видишь, милый человек, оказия какая, солдаты бунтуют, воевать больше не хочут. Видишь, собранья какая.
Мужик показал вдоль улицы.
У церкви, на площади, весь полк сжался в тесное кольцо, окружил оратора, жадно ловит каждое слово. Оратор – невысокого роста солдат, с широким энергичным лицом. В левой руке винтовка, правой короткими, сильными ударами рассекает воздух, точно слова отрубает.
– Товарищи, помещикам и капиталистам все это нужно. Им нужно кровью нашей залить пожар, чтобы сохранить себе земли, фабрики, заводы, чтобы жить нашим трудом. Это они отнимают последний кусок у наших голодных детей, жен и матерей…
Все ближе и ближе продвигается Бодрых сквозь тесные ряды солдат к оратору. Все сильнее и сильнее клокочет в груди у Ивана. Эх, вот бы словечко солдатам сказать, гляди, лица-то у всех какие, так и глотают каждое слово оратора.
Протянул к оратору могучую руку:
– Товарищ, дозволь слово сказать!
Оратор с недоумением взглянул на большого чернобородого мужика. Рассекавшая воздух рука на мгновение застыла.
Кругом Ивана загалдели солдаты.
– Говори, борода, говори!
Вытолкнули Ивана Бодрых вперед, задрожали смехом любопытные глаза.
– Просим!
– Пускай дядек говорит!
– Говори, дядек, говори!
Взобрался Иван Бодрых на стол, встал рядом с оратором, протянул вперед растопыренные руки.
– Видали, братцы, во-о какие корявые. Крестьяне мы, вокруг земли маемся. Как, значит, покорпеешь над ней кормилицей, закорявеешь небось… А покажьте-ка вы руки…
С шутками и смехом взмыл над полком частокол корявых рук.
– Гляди, дядек, гляди!
Иван весело заулыбался.
– То-то я гляжу, будто и у вас руки корявые. Крестьяне, значит, вы?
– Крестьяне, дядек, крестьяне.
– Выходит, братья мы промеж себя, вы крестьяне, мы крестьяне, дети одной матери, сырой земли.
– Правильно! Верно!
– Жарь, дядек, жарь!
Широким жестом взмахнул Иван по полку. Сочью налился голос. Задрожали в голосе гневные нотки.
– Кого убивать идете? Братьев своих!.. Знать хотите, за что бунтуют? Земли помещикам не хотят отдавать, господ со своей шеи спихнуть хотят… Чья власть-то теперь, – господская! Свою власть хотим, мужицкую…
В сторонке, в пяти шагах от стола, растерянной кучкой жались офицеры. Вылетел из офицерской кучки злобный крик, прервал Иванову речь.