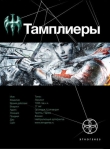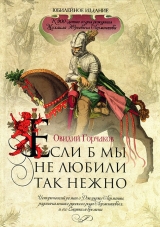
Текст книги "Если б мы не любили так нежно"
Автор книги: Овидий Горчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Летом 1631 года фон дер Ропп вызвал к себе Лермонта.
– Дорогу до Вологды знаешь? – спросил полковник, напустив на себя таинственный вид.
– Как не знать – у меня именьишко под Костромой, – отвечал шквадронный.
– Сие мне ведомо. Сделаешь дело – еще землицы да людишек получишь. Святейший патриарх тебя не забудет. Его Святейшество и воевода Шеин по моему совету решили поручить тебе большое дело, благо ты люб ему и знаешь голландский язык. Возьмешь шквадрон, пушкарей сотню, обоз конный и махнешь прямо на север от Волги до Холмогор на берегу Студеного моря. Там дождешься прихода голландской флотилии, примешь двадцать пять пушек и доставишь их в Москву для Пушкарского приказа. Нападут шведы с финнами – дерись до последнего, а затем взрывай пушки.
С таким напутствием отправился ротмистр в долгий путь. Прошел он без особых приключений. Около недели ждали прихода голландских кораблей. Наконец в Двинскую губу вошла флотилия с развевающимися на свежем ветру флагами республики Соединенных Провинций. Моряки – голландцы, валлоны, фламандцы, фризы – немало удивились, когда рейтарский ротмистр обратился к ним на голландском языке. Разгрузка заняла несколько дней. Руководил ею шумливый немчина из Эссена, высокий, рыжий, голубоглазый, как раз такой тевтон, каких описал Тацит, но с придатком в виде огромного пуза, больше даже галловейского. Звали его Конрад Кребс, и от него Лермонт узнал, что пушки вовсе не голландские, а немецкие, производства некоего Круппа из Эссена. Из-за войны, бушевавшей в Европе, людям Шеина пришлось, закупив пушки у Круппа в Эссене, отправить их в Московию на голландских кораблях из Амстердама.
– Такая махинация для моего хозяина, – хвастался Кребс, – сущий пустяк. Антон Крупп далеко пойдет! Уж такой это человек: прикоснется к чугуну – загребает золото!
Кребс рассказал, что основатель дома Арндт Крупп стал членом купеческой гильдии старинного ганзейского города Эссена в 1587 году. Он был подлого, к тому же голландского происхождения и почти безграмотен. Но денежки у него водились. Он построил себе большой дом у Соляного базара. Уже тогда в семисотлетием Эссене строили пятиэтажные дома, потому в городских стенах было тесно. Купцы славились своими гаргантюанскими аппетитами и еврейскими погромами. Через двенадцать лет пришла черная смерть. Объятые ужасом купцы разорялись, продавали за бесценок все свое имущество, пировали напоследок и умирали, а Арндт Крупп бесстрашно, будто завороженный от чумы, все скупал, скупал, скупал. И разбогател, женился после чумы на дворянке с приставкой «фон» перед девичьей фамилией, породил четверых детей. Торговал он поначалу шнапсом, вином, скотом, но когда в 1618 году началась бесконечная война в Европе, он стал интересоваться оружием, углем, водяными мельницами. Старый Арндт умер в 1625 году, оставив солидное состояние сыну Антону, женатому на дочери оружейника Крозена. Черная смерть в виде бубонной чумы, опустошительная религиозная война и удачная женитьба – вот что сделало Круппа оружейником. Дело тестя перешло к Антону Круппу. Он продавал до тысячи пушечных стволов из того самого металла, из которого в прежние века оружейники Золингена ковали мечи, щиты и кольчуги рыцарей Рейна. Торговал Крупп с кем угодно: с голландцами, датчанами, шведами, испанцами, французами. Страна погибала, – голод привел к повсеместному людоедству, а Крупп поставлял пушки всем желающим, лишь бы платили золотом. О Московии и Царе Михаиле Федоровиче он понятия не имел, но царское золото было достаточно высокой пробы. Что из того, что собрано оно было большей частью в кабаках у целовальников! Деньги не пахнут. Крупп готов был поставлять пушки и мушкеты даже самому Вельзевулу.
И Вельзевул остался бы вполне доволен. Принимая пушки, Лермонт испытал каждую на полигоне под Холмогорами, и все они оказались отличного качества. Даже знатоки из Пушкарского приказа не могли ни к чему придраться. Голландцы сполна получили от подьячего из Посольского приказа за доставку пушек, закупили почти задарма меха, навагу, семгу и прочие ценные товары и, вспугнув тюленей пушечным салютом, отбыли восвояси. За время стоянки в Двинской губе, плавая всюду на весельных лодках, они успели составить подробнейшие и точнейшие карты летнего и зимнего берегов. Это были всесветные мореходы, заткнувшие за пояс испанцев и соперничавшие на всех морях с англиянами.
Целых две недели с неимоверными трудностями и мучениями тащился Лермонт с тяжелыми крупповскими пушками по размытым дождями лесным дорогам, утыканным громадными валунами. В болотистых местах приходилось прокладывать гати. Лошади выбивались из сил, падали и испускали дух. Порой удавалось дотемна покрыть лишь два-три поприща. Все же Лермонт не потерял ни одной пушки.
Когда Филарет узнал о прибытии пушек в Москву, он перекрестился и сказал:
– Слава Богу! Теперь можно начинать войну!
Эти слова нисколько не обрадовали ротмистра. Наступал конец вечному покою.
В предвоенной тревоге, в нараставших заботах проходил для Лермонта месяц за месяцем.
И вдруг произошло нечто такое, что выбило из седла ротмистра и заставило его забыть о надвигавшейся большой войне.
Человек только тогда живет полной жизнью, когда находится и действует в самой ее гуще, участвует в главных событиях своего времени. Такой жизнью и жил Лермонт в Московии. Но был ли он счастлив? Едва ли. Большая война не радовала его.
Читая Геродота, он записал: «Пройдет сто, двести, триста лет, и потомки наши будут читать про нас и называть нас старинными и древними, а ведь мы на сто, двести, триста лет моложе их, и это они – старинные и древние. Древняя Греция была детством человечества, Рим – его отрочеством, мы – его юность, а наши потомки через триста лет будут его зрелостью».
Шеин велел передать Лермонту: «Труд его не забудется!»
За свои заслуги Лермонт вполне мог бы стать князем или графом, только эти звания, прежде лишь наследственные, впервые стали присуждаться Петром Великим.
Видно, прав был великий Кальвин, учивший, что натура человеческая низменна и подла, что большинству рода Адамова уготовано место в преисподней!
Сколько лет себе на удивление выходил он сухим из воды, отделавшись лишь двумя десятками не слишком тяжелых ранений, и вот он повержен, уничтожен, получил удар в спину! И от кого? От собственной жены, от кроткой, набожной Натальи. Какая чудовищная измена! Что за гнусное предательство!
В последнюю его осень в Москве преподнесла ему ненаглядная Наташа жестокий сюрприз. Не четвертого сына и не дочь, нет. Как будто ничто не изменилось в их отношениях, хотя и охладела былая страсть. И вдруг это письмо. Письмо, случайно увиденное им в ее ореховой шкатулке. Цидула не только не шибко грамотного кавалера, но и явного иноземца. Скорее всего немца, коих немало было в рейтарах.
«Моя милка сердца дарагая! Я магу тибе, свет мой, лада мая верна, божица, что сколка я луди видал, ты, душинка мая, самая дарагая, самая лубимая, и я твой лубитель…»
В голове вспыхнули, загорелись пламенные строки из «Песни песней», что читал он вместе с Наташей во время их медового месяца:
«…Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы огненные…»
И словно жгучий крещенский мороз опалил душу, оледенил сердце. На цидуле были выколоты булавкой два сердца, пронизанные стрелой.
Случилось это после нового, 1632, года, и целых три дня ходил он грозовой тучей. В самое сердце ужалила ревность, змея лютая. Лермонт страдал и терзался ревностью, как несчастный король Марк, обманутый муж Белокурой Изольды.
Вспомнилось ему, что писал о русских женщинах некий южник, один из первых знатоков Руси:
«Когда двое любят друг друга, мужчина, помимо других мелких подарков, посылает женщине езжалый кнут, дабы дать ей понять, что ее ждет в случае ослушания; и существует у них правило, что, понеже ни разу не бил муж жену за неделю, она полагает себя нелюбимой и страдает оттого… Когда же нелюбовь стала полной, муж подает на развод, и свобода та дана им изначально несомненно вкупе с их религией от греческой церкви и царскими законами…»
Он сел и написал:
«Ты забыла клятву, данную перед Господом. Дурное супружество противно воле Божией, пагубно для души и потомства и должно быть расторгнуто, понеже Вы нарушили седьмую заповедь; но сынов я Вам никогда не отдам…»
Написал и порвал. Эх, Шарон, Шарон!
Все пошло вкривь и вкось после того злосчастного письма. Он стал чаще задерживаться в полку, в конюшнях и в корчме с приятелями. Как гласит русская пословица, мужик год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, все пропьет. Он узнал, что медовуха или малиновая водка могут утолить сосущую пустоту сердца, что вовсе не дурна и черносмородиновая, особенно после малиновой.
Кабаков в Москве было больше, чем церквей, и находились они часто рядом. В добавление к древним яичным и медвяным питиям пришли брага, пиво, хмельной квас. Вино курили с XIV века. При дворе баловались и заграничными винами мальвазией, ренским, мозельским, бургундским. Святому князю Владимиру народ приписывал вещие слова: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». Лесная Русь издревле пропахла медом. Все занимались бортничеством и бражничеством, разводили хмель, варили квасы медвяные, держали меды стоялые – вишневые, малиновые, можжевеловые безо всякой подделки и подмесу.
С X века поди медовая сладкая дань была первым видом обложения. Много меду утекло на Руси за шесть-семь веков. Когда в XVI веке, к несчастью ее народа, появилась водка – «горячее вино», хмельные пития приносили уже две трети дохода в пользу царской казны. На «брашной» пошлине стояло все царство-государство. Еще удельные князья догадались обложить данью корчмы, затем из жадности завели свои собственные корчмы, а вольные люто преследовали. Иоанн III ввел казенную монополию. В кружечных домах безмерно пили, пели, плясали, дико дрались. Корчмы стали притонами разврата. Иван Грозный, смолоду обладавший светлым умом, вернувшись с победой из славного казанского похода, видя неоглядный вред от хмельного пития, зная, что народ спивается, строжайше запретил продажу водки, первым введя «сухой закон». Пить водку он разрешил токмо царским людям – опричникам и построил для них, для кромешников, на Балчуге особый питейный дом – кабак. Открыли его первый опричник Малюта Скуратов и его помощник князь Богдан Бельский. Но последующие Цари, чтобы обогатить казну, повсюду ввели царевы кабаки, запретив черному люду гнать водку и варить домашние пития. И Русь опять стала спиваться, и пропали на святой Руси пропитые, унесенные реками вина народные веча, общины и братчины, а стал править на Руси кабак – царь худоумных пьяниц.
Великая пьянь захлестывала всю Московию. Только Иван Великий торчал тверезый и не качался. Не один Царь, но и откупщики бояре загребали несметные богатства, торгуя сивухой. Не брезговали брать откуп у Корчемного приказа святые отцы – блаженнейшие митрополиты и архимандриты. Знали христолюбивые прибыльщики: возьмешь откуп за десять тысяч рублев – огребешь все пятьдесят тысяч!
Со времен апостола Павла известно, что пьяницы Царства Божия не наследуют (Первое послание к Коринфянам, глава 6, 10), что алкаши будут просыхать вечно в геенне огненной.
Еще апостол Павел учил, что епископы и диаконы должны быть одной жены мужья, благочинны, не убийцы и не пьяницы (Первое соборное послание к Тимофею святого апостола Павла, глава III, 2–3,8).
Но для простого и несчастного люда делали евангелисты исключение: «Не Царям пить вино и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть он выпьет, и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». И черный народ заливал горе зеленым вином, приговаривая, неистощимый на питейные прибаутки: «Первая – колом, вторая – соколом, а третья – мелкими пташечками», «Чарка на чарку – не палка на палку», «Без Троицы дом не строится», «Учетверить – гостей развеселить», «Пять – пей опять». И завивали горе веревочкой.
Некий европеец по имени Олеарий, посетивший Москву в XVII веке, увековечил в своих воспоминаниях («Путешествие в Московию», 1633–1639) русского пьяницу, коий пропил с себя всё до нитки – кафтан, рубаху, порты и, вытолкнутый взашей из кабака, жестом, исполненным грациозной стыдливости, сорвал у крыльца букет одуванчиков и прикрыл им срамоту, коего и Георгий Победоносец не мог одолеть.
По святым праздникам улицы и площади Белокаменной были усеяны пьяными, как мертвяками на поле Куликовом. Весь град святой становился кабаком, предаваясь зеленому змию. «Меня матушка плясамши родила, а крестили во царевом кабаке…»
Этакой пьяни не видел свет с той поры, как Ной, отец виноделия, впервые упился своим виноградным вином.
Великолепно придумал Господь: Ной один из мудрецов старцев спасся от Великого потопа и до того возненавидел воду, что изобрел вино.
Совестливые священнослужители, проповедовавшие против пьянства, были не в чести ни у отцов церкви, ни у светских властей. Откупщики-кровопийцы жаловались Царю, тот умолял отца патриарха приструнить врагов зеленого змия. И кушал русский народ вино за здоровье Царя и патриарха. «Лакай, народ! Не согрешишь, не покаешься! Ея же и монаси приемлют!..»
– Что есть пьяница по учению мужей мудрых? – грозно вопрошали с амвона иные святые отцы-змиеборцы. – Оный пьяница аки болван, аки мертвец валяется, многажды бо осквернився, мокр и нальявса, яко мех, до горла, не может главы своей возвести, смрадом отрыгая от многаго лакания.
На погибель народную появились кабаки, где можно было только лакать «зелено вино», а харча-закуски не полагалось. Винные откупщики, кабацкие головы, целовальники зарабатывали громадные состояния на таких забористых зельях, как «сиротские слезы», «пожиже вода», «крякун», «подвздошная», «рот дерет, а хмель не берет», «горемычная». «Питухов» становилось все больше. Пьянство лихое и дикое с мордобоем и шумством, невиданный во всем Божием мире завсегдашний запой затопили великую Русь, приведя к всеобщему повреждению нравов. А тенями пьянства были обнищание, блуд и несусветное хамство от избы крестьянской до двора царского. Следом за кабаками появились в Москве веселые дома с девками, больными секретными хворями (французскою, к примеру)…
Эх, пить – умереть и не пить – умереть, уж лучше пить да умереть! Курица, и та пьет!.. И выпивали, потягивали, заливали, дули, лакали, лопали, хлестали, зашибали, глушили, пили мертвую, набирались, накачивались, надрызгивались, нализывались, нарезались, наклюкивались. Пили допьяна, запоем, без просыпу, до чертиков, до белой горячки. Не отставал от Москвы кабацкой, от самых отчаянных пьянчуг, пропойц и выпивох и рейтарский полк – и пьет, и льет, и в литавры бьет!
Чужестранные воины – рейтары, немцы и особенно шкоты – славились как бесподобные локаши даже среди питущего московского люда. Ропп, отец командир, подавал им пример, после всенощной пьянки обходя стол на руках, опираясь лишь на большие пальцы рук.
В кабаке этом, поклоняясь Бахусу, пришельцы не знали правил благочиния. В нем шло настоящее рейтарское питье. Пили по-русски: сначала косушечку, потом еще одну, а потом уж и без счету. А наутро проклинали «яд драконов и гибельную отраву аспидов», со скрежетом зубовным вспоминали с трудом, какие творили непотребства и зазорности, полускрытые в голове парами хмеля.
А ведь еще пророк Исайя возопил против пьянства: «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином… Горе тем, кто храбры пить вино…» Но храбрее рейтаров в этом деле не было.
«Сам Христос, – как-то спьяну заявил фон дер Ропп, – в отличие от Иоанна Крестителя, попивал ее, родимую, и даже мог претворять воду в вино! In vino veritas – истина в вине!»
Как говорил Шекспир, вино придает желание, но отнимает исполнение. Однако мужчина не сразу сгорает в алкоголе, а лишь постепенно. Взять хотя бы Галловея, годами горевшего и не сгоревшего. Правда, он налегал больше на пиво, причем часто цитировал Платона: отрокам, дескать, не следует пить до восемнадцати лет, а мужам напиваться в стельку до сорока.
Обычно захаживал в царев кабак у Красной площади залить тоску и ротмистр Лермонт, гонимый горем-злосчастьем. Скоро стал он подпевать, сначала тихо, а потом все громче, своим полчанам – шкотам и англиянам. К нему подсел рейтар-англиянин, еще не вдребезги пьяный, веснушчатый, с песочного цвета космами, косым глазом и бобровыми зубами, и, плача от умиления, сказал икая:
– Клянусь святым Георгом, умиляет меня эта картина! Сколько я поносил в своей жизни, родившись под Йорком, поносил и ругмя ругал вас, окаянных шкотов, сколько раз дрался с вами, усмирял во имя единого нашего Государя Чарльза Первого, которого тут называют Карлом Первым! Зачем, к чему ссорились мы на наших маленьких островах?! А вот попали мы, враги кровные, на другом конце земли в один полк, в одну дружину – и стали кровными друзьями. Джентльмены! Да живет наша дружба и да здравствует Карл Первый!.. Эй, еще чарку! Давай сюда pepper brandy – мою любимую перцовую!..
И в табачном чаду, в прогорклом от водки, прокисшем от пива воздухе царева кабака плыла настоянная на щемящей тоске песня о трагической битве при Флодденфильде, где войско Генриха VIII разбило шкотов, предводительствуемых нерешительным Иаковом IV.
Пели и другие песни:
Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом!
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Вниманием одним и одним пробужден,
Он раздался, так смолкнул бы он.
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увязает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой…
О! Зачем я не ворон степной?
Эти рубаки и мародеры пели, проливая пьяные слезы, о колосьях ячменя на родной пашне, о срезанном плугом полевом цветке, о цветиках и лютиках лесных, и Лермонт плакал с ними, хотя был еще на ногах тверд и в речах трезв.
«Had we never loved so kindly…! – „Если б мы не любили так нежно.“»
И вдруг подскочил, когда пели эту песню, и слезы хлынули из глаз. Нашел, нашел!.. Эту песню и пела его мать, качая зыбку перед тем страшным днем, когда вырезали почти всех Лермонтов!..
«Если бы мы не любили так нежно…»[103]103
Читатель, конечно, узнал это прекрасное стихотворение нашего великого поэта, под которым, надо думать, подписался бы любой из Лермонтовых. Поражает второе видение поэта: откуда мог Михаил Юрьевич знать, что все его предки шотландцы жили не в горной, а в равнинной части Шотландии?
[Закрыть]
(Лет через полтораста шотландский бард Роберт Бернс напишет стихи «Parting Song to Clarinda» на тему этой старинной песни. Затем Байрон возьмет их эпиграфом к «Абилосской невесте». А в начале 30-х годов XIX века юный Лермонтов переведет в двух вариантах четверостишие, начинающееся этими словами.)
Сначала Джордж Лермонт пил приятное гретое вино с пряными зельями, что-то вроде грога, и был вполпьяна, потом – разные другие вина и крепыша зеленого, а потом и все подряд.
Он сам не помнил, как вдруг просохли слезы умиления и вскипела петушиная страсть – шкоты и южники-англияне, только что слезно обнимавшиеся и целовавшиеся, снова передрались. Его оглоушил веснушчатый и косоглазый англиянин с бобровыми зубами, что пил за дружбу, а он ему сломал переносицу и с превеликим криком дубасил головой о дверной косяк, а затем пытался просунуть сквозь непомерно узкое оконце, выбив слюду.
Как рапортовали полковнику, в тот вечер ротмистр Лермонт впервые так надрался, что был пребезмерно и бесчувственно пьян и в том пьянстве учинил великое шумство и неучтивства, скаредно бранился на разных языках и по русской материи, дрался с англиянами из соседнего шквадрона, пока не был связан, дабы смертного в беспамятстве убийства от него не последовало.
Вот так – столько лет после свадьбы не притрагивался к ней, проклятой, живешь, будто монах, а сорвешься раз – сразу объявят тебя забиякой и буяном!
Честно говоря, в полку были довольны такой переменой в Джордже Лермонте, коего раньше почитали за книгочея, мечтающего, видно, о сане пресвитера, как за мужа чересчур уж ученого, воздержанного и щепетильного. Все, опричь полковника, командующего полком, кои вдруг стали замечать, что бравый и справный ротмистр Лермонт стал запускать службу.
Полковник Московского рейтарского полка был фигурой зело замечательной. Барон Клаус-Юрген фон дер Ропп был, что называется, поперек сам себя шире. Из древнего рода кельнских рыцарей, получивший лен от гроссмейстера Ливонского ордена еще в XIV веке, сей остзеец мнил себя воинственным красавцем, а был плешив, желтоглаз и тучен. Не украшали его ни рыжие тараканьи усы, ни пузо колесом, хотя он и уверял всех и каждого, что в пузе не жир, а одни мускулы.[104]104
В полку заметна была и весьма колоритная фигура: Денис Иванович Фонвизин из остзейских дворян. Впрочем, автор русских комедий поступил в полк уже с сыновьями Джорджа Лермонта.
[Закрыть] Он и в самом деле мог забодать кого угодно этим чугунным пузом, жестким, как пушечное ядро. Пребезмерный хвастун, этот кельнской земли немчина часами мог рассказывать о своих рыцарских подвигах. Зажмурясь, лез в любую кабацкую драку. Но самое удивительное было то, что сочинял в голове он боевые рыцарские и рейтарские гимны, кои распевал громогласно за пиршественным столом. Все говорили, что этот мейстерзингер в звании полковника скоро будет смещен, лопнет, сдохнет от пьянства, но годы шли, а барон по-прежнему толстел, пил, потел, сочинял гимны и песни и спустя рукава командовал полком. Упрямый, как мул, всю жизнь находился он в «лютерском законе» – то есть оставался лютеранином, не желая восприять греческую православную веру.
Ротмистру Лермонту нравилось слушать его россказни о том, как он дрался под началом своего родича ротмистра фон Ламздорфа на службе Царя Василия Шуйского. В битве с войском второго самозванца под Волховом в 1608 году Ламздорф был убит, и фон дер Ропп возглавил шквадрон. Но когда речь заходила о личных подвигах фон Ламздорфа, тут уже быль густо мешалась с небылицей, и отделить чистое зерно истины от плевел фантазии было просто невозможно. Все же Лермонт записал ряд подобных «былей» фон дер Роппа.
Так же часто, как Лермонт и другие шкоты, клялись Шотландией и святым Андреем, клялся полковник фон дер Ропп тремя кельнскими Царями. Любознательный Лермонт выяснил, что эта тройка кельнских Царей была троицей библейских волхвов из царства Востока, первыми поклонившихся младенцу в яслях Иисусу. По преданию, их святые мощи византийская императрица Елена перевезла в Цареград, а оттуда они попали сначала в Милан, а затем в часовню в Кельнский собор.
– Клянусь тремя кельнскими Царями, – загромыхал полковник и подкатил пузом к Лермонту, – клянусь святыми мощами Каспара, Мельхиора и Бальтазара, клянусь крестом трех Царей… уф… уф… я выбью из тебя дурь! Жаль, что ты дворянин, помнящий двадцать колен своих предков… уф… уф… а то бы тебя выпорол батожьями, взял в железа!.. Позор!.. Лишу чинами!.. Уф… Уф… Что скажут при дворе Его Величества! Что будут говорить эти русские варвары! Все умничаешь! Вот до чего книжки доводят!.. Уф… Уф… Клянусь тремя кельнскими заступниками. Уф… уф… уф…
Долго распекал фон дер Ропп ротмистра.
– Чурбанов в полку не потерплю, – грозил полковник. – Знаешь, что есть по-русски чурбан? Тот… уф… уф… кто баклуши пьет!
– Чурбаны! – на следующее утро отчитывал Лермонт свой несокрушимый шквадрон из ста восьмидесяти бесстрашных рейтаров. – Баклуши бьете? Русскую грамоту не учите? Goddamn your souls to hell! – выругался он по-английски и совсем неожиданно добавил:
– Пятак твою распротак! – Что безусловно свидетельствовало о его глубоких познаниях в русском языке, хотя в полку считали, что он знает только три слова: водка, прощай и никогда.
Но в тот же вечер ротмистр снова прибрел в кабак у Красной площади, снова пил тройной зеленчак, снова пел «Had we never loved so kindly», а поздно вечером забрел с неженатыми полчанами на Воздвиженку к молоденьким девицам самого нестрогого поведения, коих шкоты и англияне называли промеж себя bona-nova, laced mutton roads, stales, jays на языке того века и просто шлюшками по-русски.
Утром кошелек его был пуст. В кармане – вошь на аркане. Он истратил, подумать только, рубля три или даже четыре!
Не правда ли, что древле
Все было лучше и дешевле?
Так всю зиму и прокутил, редко находясь в трезвости, препровождая почти все свободное время в кабаках, ничем теперь как будто не выделяясь среди буйной рейтарской братии, ротмистр Лермонт.
– Молодец Лермонт! – хвалили его полчане. – Кто пьян да умен – два угодья в нем!
Ротмистр, напиваясь, считал долгом довести разгул до его естественного конца:
– На Неглинку! Копья наперевес. Лермонт, вперед!
С начала XVII века вошла в моду пышная женская плоть. Глашатаем и певцом торжествующей плоти и радостной чувственности в пику отцам иезуитам и прочему католическому мурью был великий фламандский живописец Петер Пауль Рубенс. Во святой Москве тридцатых годов вряд ли знали искусство неунывающего антверпенца, которому тогда уже было за пятьдесят, но корпулентные формы, колбасные телеса были тут в особой цене. Не только двор, но и начальные люди всех рангов, купцы и посадский люд понимали толк в вакханалиях, пирах и оргиях. Утехи продажной любви на Неглинке и в других злачных местах столицы были знакомы всем рейтарам и более всех, пожалуй, их бесстрашному предводителю кельнскому рыцарю фон дер Роппу, этому Фальстафу-рейтару, коего частенько увозили с Неглинки домой в бесчувственном состоянии. Ропп постоянно хвастал своими рейтарами, цитируя Ветхий Завет: «Плоть у них ослиная, похоть как у жеребцов». Все это было вполне в духе того почти ветхозаветного времени.
По части блуда православная Москва давно заткнула за пояс протестантские столицы Европы. Само собой, процветали «секретные», или «дурные», или «любострастные» болезни, позднее именовавшиеся «французскими». Лечили их не очень успешно, лишь москворецким паром и веничками из березовых рощ в бесчисленных банях.
Блуд по Москве шел великий, пьянка в бардаках была беспамятной, досыть хватало спотыкаловки. Все знали: на пороге большая война с ляхами, так что пить будем, гулять будем, а смерть придет, помирать будем!
Улицы Неглинная и Воздвиженка в те годы были почти такими же злачными и соблазнительными «долинами любви» в Москве, как Rue des Marmouzets в Париже, в этой несравненной Лютеции, в этом Городе Света, который и тогда уже претендовал на гран-при среди всех столиц мира по части плотских увеселений. Но и на Неглинке можно было даже найти несколько домов с круглосуточно закрытыми ставнями, окрашенными в красный цвет, в подражание бесподобным вертепам Парижа, где закон предписывал борделям именно такой порядок. Немецкая слобода, вновь возникшая после ухода поляков, была заселена не только немцами, а иноземцами всех мастей. Кому не ведомо, что Петр Великий любил кутить в этой слободе, жалуя вообще всех иноземок: и француженок, и немок, и полек – жриц наемной любви. Само собой, наемные вояки из рейтарского полка являлись постоянными патронами и завсегдатаями и в Немецкой слободе, и на берегу Неглинки, обтекавшей с севера кремлевские стены.
Тысячеженец Царь Соломон так учил: «Глубокая пропасть – уста блудниц; на кого прогневается Господь, тот падет туда».
Подобно персидскому Царю из «Арабских сказок», обманутый неверной женой Лермонт брал на ночь женщину, но утром, пресытившись и преисполненный отвращения к женщине и к себе, не предавал ее смерти, а с омерзением бросал несколько сребреников. С тем большей горечью, омерзением и отчаянием, что тратил, транжирил деньги, сбереженные с потом и кровью для отъезда на родину. О, как строго осудил бы его папашка Галловей за этакий мотовской разврат и развратное мотовство! (Хотя себя, холостяка, он не очень ограничивал.)
Утром наш герой приходил, опухнув с похмелья, и рейтары ухмылками приветствовали его, – многих из них он намедни видел на Неглинке. Иные со скабрезными усмешками спрашивали его, сколько сломал он за ночь пик или «задал мер овса» и безбожно преувеличивали собственные успехи. А он стонал внутренне, вспоминая обрывки своих ночных художеств, и скрежетал зубами от угрызений протрезвевшей совести.
Ему вдруг пришла в голову страшная мысль: а сыновья его или не его?! Разноокий Вильям явно его, а Петр и Андрей?!
Бледная, с лиловыми кругами под глазами, Наташа пришла к Николе Явленному, мучительно стесняясь, спросила священника с библейской бородой и вовсе не библейскими масляными глазками:
– Какому, батюшка, угоднику молиться, ежели муж жену разлюбил?
– Коли муж жену невзлюбит, – пропел поп, – потребно петь молебен мученикам Гурию, Симону и Авиве.
– А от пьянства, от змия зеленого, отче?
Поп крякнул, проглотил слюну, покраснел носом.
– От винного запойства надо молебен пить, то есть петь, мученику Вонифатию и Мовсею Мурину.
– А ежели муж к блудным девкам ходит?
– Для избавления от блудныя страсти молитвы возносить преподобному Мартемьяну и преподобному Моисею Угрину.
Пастырь положил на себя широкий крест.
– Вот, дочь моя, что получается, когда раб Божий упорствует в ереси своей!.. Доколе терпеть будешь этакое непотребство? Великий грех на душу берешь, дщерь моя Наталья!..
Впервые за долгие годы перестал ротмистр следить за тем, чтобы воины его шквадрона не расхаживали «в развращенном виде» (неопрятно одетыми), забросил манеж, не ходил лично глядеть за чисткой коней при задаче корма в конюшнях и при водопое на Москве-реке. Не появлялся он и на манеже.
Не раз в сердцах поминал кельнскую троицу полковник фон дер Ропп, получая такие изустные и письменные рапорты: «Ротмистр Лермонт напился весьма пьян, так что и чувствия не имел», «говорил англиянам огорчительные слова в корчме и вновь учинили чрезмерное пьянство», «бил корчмаря весьма больно по черепозданию его, в правый глаз и щеку, от коих ударов видны по лицу синие знаки с великою при том опухолью». Однако прискорбные дела ротмистра затмевались другими, более предерзостными проступками в полку: «Во 2-м шквадроне раскрыли тайную грабительскую шайку, обдиравшую до нитки московских купцов, в 3-м шквадроне подложно продавали в рекруты чужих беглых людей и привели большой недочет в шквадронной казне». Лермонта взяли под караул, причем он пытался назваться «скотом Чурбановым». Но не меньше его шумствовали и буянили остальные рейтары, и чем старше чином, тем более, вплоть до полковника.
Покачиваясь с похмелья, благородный барон фон дер Ропп оглядывал воспаленными глазами выстроенный на плацу полк и громоподобно начинал очередной разнос: