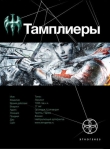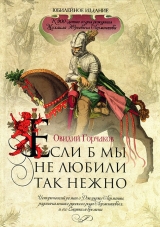
Текст книги "Если б мы не любили так нежно"
Автор книги: Овидий Горчаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
У залитой светом множества лампад и свечей раки преподобного Сергия Радонежского Царь повалился на колени, припал устами к холодной каменной плите. Гробовой иеромонах служил молебен. Поразительно красиво пели два хора – старцы на левом клиросе, молодые иноки на правом. Такого благостного пения Лермонт и в Кремле не слыхивал. Это было просто райское, ангельское пение, хотя слов он не разбирал. По спине у него продрал морозец, восторгом перехватило горло. А ведь он был басурманином – каково же было православному люду, набившемуся в храм!..
В прославленной обители этой тунеядствовали тогда около семисот чернорясников («фраеров» на языке Лермонта). Медные пушки на громадных стенах еще хранили память о битвах Смутного времени. Вся земля, все города и деревни в сорока милях вокруг принадлежали Лавре, а сластолюбивые монахи ее соперничали на всей Руси с купцами. Даже шкоты никогда не были такими грабителями, распутниками и пьяницами, как эти святые братья!..
Протестант и враг католицизма по воспитанию, Лермонт косо смотрел на иерархов православной церкви, хоть и отколовшейся давным-давно от церкви католической, тем не менее строившейся по иерархическому принципу.
Русские монахи, по наблюдениям Лермонта, жили припеваючи, не менее весело, чем лет семьдесят до того, когда его предок сэр Патрик Лермонт стал одним из самых горячих сторонников Джона Нокса и Реформации. В Троице-Сергиевом монастыре да и во всех монастырях Московского государства, больших и малых, не исключая и самых прославленных, под покровом ханжеского благочиния процветало беспробудное бражничество, держали питье пьяное и красное немецкое вино и брагу в кельях, курили табак, близ церквей поделали кабаки и харчевни, старцы пили мертвую и бесчинствовали, жили не по монастырскому чину, бранились непотребною бранью, неудобьсказаемо, пропивали без стыда и совести пошлинные деньги, и оттого монастырская казна пропадала, чинили смуту, брали себе женок и гулящих девок на постелю, блудили, яко козлы, чего прежде не бывало и быть не годно. При временных патриархах Ионе и Феофане в монастырях, в соборных и приходских церквах чинились мятеж, соблазн и нарушение веры, служба Божия совершалась со всяким небрежением, бесстрашием и даже смехотворением, попы чревоугодию своему следовали и пьянству повиновались. Во время священного пения шпыни бранятся, гогочут, дрались и большой соблазн возбуждали в верующих.
Сами чернецы отбояривались жалобами на поведение простого народа в праздники: вместо духовного торжества и во славу Божию затевали они игры бесовские и сатанинские с медведчиками и скоморохами, пели, плясали и в ладоши били, в сурны ревели, в бубны били, на балалайках бренчали не только молодые, но и старые, а то бывали бои кулачные, доходившие до мордоворота и зубодробления, кровопролития и смертоубийства, в коих многие без покаяния пропадали.
Лермонт, хоть и немчина не православной веры, сопровождал хромоногого Царя в главный собор Троицкого монастыря, основанного где-то в середине XIV века Сергием Радонежским. Сюда приезжал перед Куликовской битвой Димитрий Донской, здесь крестились Василий III, Царь Иван IV Грозный и его сыновья. Иван Грозный превратил монастырь в мощную крепость, и крепость эта, осажденная на протяжении шестнадцати месяцев войском второго названого Димитрия, не сдалась врагу. Не открыла она ворота польскому воеводе Сапеге. Лермонт сам видел по стенам крепости, какие недавно бушевали тут бои. А потом отсюда выступали на вызволение занятой ляхами Москвы ополченцы-богатыри Минина и Пожарского.
Лермонт подивился пятиглавой белой громадине Успенского собора. Поодаль строили новую церковь – Зосимы и Савватия. На горы кирпича падали влекомые октябрьским ветром багряные листья. Ветер сгонял их в углы каменных приделов и стен, сваливал там похожими на кости ворохами. Порой над Лаврой проглядывало солнце, и тогда бесценные, усыпанные жемчугом и каменьями иконостасы в храмах, пропахших ладаном, восковой копотью и пылью столетий, лучились и искрились жаром, как двести и триста лет назад. Хрустальные лампады горели перед образами, и лучи их сливались с косыми лучами заходящего солнца. Обманчивый покой нежил душу.
Словно Иван Грозный, Царь Михаил Федорович расшибал в кровь лоб перед нерукотворенным образом Спасителя, чей золотой оклад сиял как жар. Качались красные язычки свечей белого воска на висящем паникадиле, высвечивая шитые серебром на черном бархате кресты, кондаки, тропари. Внизу образа крупными древнеславянскими буквами было написано: «Приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!».
О чем молился Царь? По притче Царя Соломона, как небо в высоте и земля в глубине, так сердце Царей – неисследимо. Михаил сказал всем, что молил Бога о скорейшем возвращении из Томского плена батюшки его Филарега Никитича. Но так ли уж хотел двадцатидвухлетний Царь попасть под крутую руку родителя?
Лик Спасителя был так строг, будто он знал, что склонившийся перед ним наихристианнейший Царь – окаянный ханжа и обманщик, мошенник, каких мало на престолах мира, первый на Руси притеснитель и душегуб, коему не дано замолить грехи свои тяжкие, да воздаст ему Господь сторицей!
Лермонт был наделен далеко не всеобщим даром видеть, распознавать смешную подоплеку самых торжественных событий и слабую сторону великих мира сего. Но в Михаиле Федоровиче смешное и слабое просто бросалось в глаза всем, не до конца ослепленным сиянием его мнимого величества. От взора зоркого ротмистра не ускользнул на августейшем носу, довольно курносом, рубиновый прыщик, тоже августейший. В Лондоне он видел однажды, как из Тауэра выехала запряженная шестеркой прекрасных коней раззолоченная карета короля Иакова, сопровождаемого блестящим эскортом. Семнадцатилетнего шотландца невольно охватил трепет, когда мимо пронеслась королевская кавалькада, обдавая грязью прохожих. «God save the King!» – «Боже, храни короля!» – прокричали нестройно лондонцы. Говорят, великое распознается на расстоянии, так то великое. При ближайшем рассмотрении мало кто выдержит проверку на величие, а ни Иаков, ни «Майкл» были не истинными, прирожденными Государями, а только монархами по названию, жалкими актеришками, исполнявшими непосильную для них роль.
И каково было ротмистру Лермонту, просвещенному, не в пример Царю, челом бить «олуху царя небесного», когда он изустно благодарность рейтарам указать соизволил за службу, исправляемую с успехом и рачением.
Православный Царь остался в монастыре на вечерню и на всенощную и спал в покоях архимандрита.
Обратно в Москву ехали быстро, глотая поприщаверсты. Царь перестал дурака валять и сел в свою карету.
Казалось бы, ничего особенного во время этой поездки не произошло, но Лермонт вернулся из Троице-Сергиевой Лавры в Москву с твердым убеждением, кое и было им записано: «Священный пурпур Царей – прах и тлен, суета и томление духа!».
Не раз затем сопровождал Лермонт с рейтарами Царя в другие богомольные походы, ближние и дальние. Особенно жаловал Михаил Федорович храм Покрова Пресвятой Богородицы в своем любимом селе Покровском.
Во второй половине августа 1619 года Лермонт отправился с Царем и матерью его инокинею Марфой Ивановной в двухмесячный поход на богомолье в Макарьевский Унженский монастырь. Рейтара посмеивались за спиной русского Царя: дескать, короли, польский и шведский, сами водили войска свои на войну против недругов, а этот царек думает от неприятелей молитвами и свечками отбиться! Наемники злились на бездорожье, дожди, осеннюю распутицу и завидовали тем своим товарищам в других шквадронах, кои в жарком деле добывали себе славу и трофеи.
Первого сентября праздновали новолетие – Новый год по русскому календарю – в Ростове Великом, куда царский поезд прибыл накануне в проливной дождь. В большой стол смотрел знакомый Лермонту стольник Василий Петрович Шереметев. Подавали полсотни кушаний и вин, не меньше. Царь по обычаю своему пил мало – его проносило от любого вина, и дурел он от него, а потом долго болел. Да и матери он побаивался, вянул под ее суровыми взглядами. Шептались, что сама инокиня любит винцом побаловаться, но грешит этим не при сыне и не на людях.
Лермонту повезло: на обратном пути – был уже октябрь и ненадолго установилась сухая погода – вздумал Царь потешиться волжской рыбалкой, рыбы сетями наловили уйму, и Царь по совету матери решил послать батюшке Филарету гостинец: белугу размером с акулу, пять саженных осетров и девять здоровенных стерлядей. С этим царским гостинцем – от Государя Государю – Царь отправил Шереметева, а в охрану ему дал, кроме стрельцов, полушквадрон Лермонта. Рыбку помельче Лермонт доставил прямо к себе на Поварскую.
Позднее, ближе сойдясь с Крисом Галловеем, кремлевским зодчим, Джордж Лермонт узнал, что родом он из шотландского округа Галловей, что объединял два графства, Вигтауншир и Кирккадбрайтшир, подвластных клану Дугласов. Это изумрудно-зеленый приморский край в юго-западной части страны, известный каждому шкоту как родина знаменитых пони, носящих имя галловей. Крис Галловей родился в древней кельтской деревушке на берегу залива Вигтаун и, как убедился в дальнейшем Лермонт, вырос таким же ретивым, упрямым, но надежным и умным, как славные и добродушные лошадки-галловеи, с коих, кстати, и начиналась блистательная кавалерийская карьера самого Лермонта.
Он рассказал о поездке к Троице Крису Галловею, изложив ему и нелестные для Царя Михаила наблюдения.
Крис огляделся – они шли по Красной площади – и сказал:
– Твоя наблюдательность делает тебе честь, Джорди, но не забывай, ради Бога, что здесь еще сильны кровавые традиции опричнины! Тень Ивана Грозного куда длиннее и мрачнее тени Ивана Великого. «Имеющие уши да слышат» – так называют ушастых соглядатаев одного тайного московского приказа. И в полку будь осторожен – там тоже не смыкает Царь свое недреманное око!
Зашли в находившийся у Тайницких ворот в Кремле кабак «Каток», где часто сиживал у окошка со своими чертежами шкотский зодчий. Здесь не брезговали пропустить за быржи фрязины (миланцы) и другие итальянцы. Сюда захаживали и рейтарские офицеры, важные господа из посольств и местной знати, дьяки из Иноземного приказа. Охрана в Кремле была крепкая, голь кабацкую сюда не пускали, так что всяческого буйства и непотребства в «Катке» было много меньше, нежели в других московских кабаках, по чисто русским (или татарским) названиям коих называлась и окружающая их местность – «Веселуха», «Балчуга», «Зацепа», «Разгуляй», «Палиха», «Плющиха», «Полянка», «Волхонка».
Галловей любил, попивая пивко, пофилософствовать, потолковать об архитектуре и более низких видах искусства, рассказать о своих путешествиях по прелестной Италии. И, разумеется, часами мог он рассказывать о Шотландии, о родном Эдинбурге, в коем он жил в десятиэтажном доме – да, уже в XVI веке строились столь высокие дома в шотландской столице. Лермонт, никогда не бывавший в столице своей родины, услышал о мрачном замке Гомруд и горе Трон Артура, узнал, что Эдинбургский университет был основан в 1538 году, увидел рисунки дома реформатора шотландской церкви Джона Нокса и собора святой Мэри, построенного в раннеготическом стиле, с легкой руки Галловея отразившемся за тридевять земель, в Спасской башне Кремля. А когда Лермонт пытался описать абердинский собор святого Макария, ничего у него не получилось. Он неплохо рисовал, но и с рисунком у него не вышло – не хватало знания архитектуры.
Парижский двор в ту эпоху насчитывал более двух тысяч придворных, охраняемых семьюстами солдатами. Московский двор был втрое меньше, но стража Кремля имела до тысячи рейтар и стрельцов. Объяснялось это тем, что Московия все еще жила в тени великой Смуты, и болезненной подозрительностью Царя – всю жизнь боялся «Майкл» убийц, особенно отравителей, заставлял трех-четырех стольников и чашников, как при Иване Грозном, отведывать каждое блюдо, испивать из каждой чарки. За двадцать лет Лермонт изучил почти каждое строение Кремля, каждый тайник, каждый подземный ход.
Проезжая в полуденную грозу по арбатскому переулку, Лермонт увидел вдруг двух молоденьких и красивых девушек, двух подружек, испуганно жавшихся друг к дружке на крыльце небольшого домика. Домик был невзрачен, но девушки показались ему прекрасными боярышнями. Вздрагивая от трескучих ударов грома, они собирали в серебряные ложечки дождевую воду, струями хлеставшую с крыши, и тут же пили ее. Джордж остановил своего вороного жеребца у крыльца, девушки взвигнули и, прикрывая зардевшиеся лица широкими рукавами, кинулись в дверь и захлопнули ее. Но тотчас разглядел он два смазанных дождем личика в узком слюдяном оконце. Одна была белокура, другая темноволоса. Светленькая понравилась ему больше, может, потому, что в рыцарских романах все герои влюблялись в светленьких. А за громом небесным и водопадом над Арбатом послышались ему не забытые строки из «Тристана»:
Isot ma drue, Isot m’amie,
En vus ma mort, en vus mie…
(Изольда, моя милая Изольда, моя подруга,
в вас моя смерть, в вас моя жизнь…)
Через неделю ему удалось выяснить, что она дочь стрелецкого полковника и зовут ее Натальей, и живет эта Белокурая Изольда в том самом домике на Поварской с отцом, а серебряными ложками русские девицы, оказывается, собирают в грозу дождевую воду, чтобы стать красивыми и белолицыми.
Была Наташа совсем, совершенно не похожа на Шарон: пышные светло-русые косы, скуластенькая, глаза голубенькие, азиатского, тамерлановского рисунка. Чертенок, а ходила павой с лицом неподвижным, как маска, с опущенными долу глазищами с длиннющими темными ресницами. Полковничья дочь, дворянка, пусть только в пятом колене, приданница, правда, небогатая – всего домик в Москве да три человека дворовых. В росписи приданого, кою получил от будущего тестя Лермонт, указывались полтораста душ у Трубчевска, но недаром в русском народе говорят: верь приданому после свадьбы! Деревеньку ту давно начисто сожгли, людишек угнали татары в Крым.
Лермонт и сам не заметил, как опутала, оженила, «объехала его на козе» полковницкая дочь. Сначала лукавые взоры из-под с ума сводящих полуопущенных ресниц, потом записочка, первое свидание – и посылай, прапорщик, сватов, не позорь девичью честь!.. Бельский немчина и оглянуться не успел, как уже собрались венчать его с рабой Божией Наталией в церквушке Николы Явленного, что у Арбатских ворот в Арбатской же слободе на закат от Кремля. Однако тут же вышел конфуз: для совершения церковного обряда непременно требовалось, чтобы «бельская немчина и лютеран» Лермонт предварительно перешел в православную веру. А Лермонт взял да уперся, заартачился. Не желаю, мол, ни под каким видом и все тут! Я, дескать, телом раб государев, пока свое не отслужу, а душа у меня вольная. Полковник призадумался: как же так, и ведь дети некрещеные пойдут!
– Королевич Владислав, – непреклонно заявил он, – московскую корону, взяв Москву, потому потерял, едят его мухи, что отец его король Жигимонт не дозволил ему православие принять, а ты, Лермонт, еретик ты этакий, невесту потеряешь, едят тебя мухи!..
Но вдруг восстала послушная и набожная дочь его Наташа.
– Пойду за Юрия Андреича и никаких! А то, папенька, руки на себя наложу!
Далеко не все рейтара, беря себе в жены русских девушек, шли к православному алтарю. Обходились и так. И в Москве тогда еще не было ни лютеранской, ни тем более пресвитерианской церкви. Обе они появятся в Немецкой слободе при жизни следующего поколения.
Сдался храбрый стрелецкий полковник. У бедняги на выданье была еще одна дочь, младшенькая, по имени Людмила.
К счастью первого «скота» из Скотлэнда, сиречь Шотландии, в Москве при нем еще жили домостроевским бытом, что, однако, было давно изжито в высшем свете.
Не сразу узнал Лермонт семейную тайну, с ним связанную. Оказывается, отец, узнав, что какой-то бритый немец глаз положил на его дочь, пришел в неописуемую ярость. По московским законам жених и невеста не должны были видеть друг друга до свадьбы! Да что соседи скажуть! Позор какой! Но тут на выручку пришла мать: пока никто чужой не знает, что дочь и жених себе смотрины устроили, скорее сыграть свадьбу! И дело с концом!.. Отец послушался жену и стал даже торопить свадьбу: скорей, скорей, пока и соседи и вся Москва не узнали! Никто тогда девку замуж не возьмет!..
И все же Лермонт долго не раскаивался в своей женитьбе. Он благодарил Бога, открывшего ему лик любимой москвички. Ведь если бы все правила сватовства были соблюдены, ему – бр-р-р! – ему могли, чего доброго, подсунуть какую-нибудь уродину, каких на Москве было немало там, где толпились зазорные девки. А Джордж помнил, что еще мудрый сочинитель знаменитой «Утопии» сэр Томас Мор писал, что совершенно необходимо не случку проводить за глаза, а показывать жениха и невесту друг другу и непременно в голом виде!.. Но советы Мора, казненного королем Генрихом VIII, так и остались утопией, как и все советы мудрейшего Мора…[58]58
«Малая советская энциклопедия» (1930) назвала Томаса Мора одним из первых социалистов и даже коммунистов. Коммунисты напрасно взирали свысока на утопию Мора. А он был на самом деле сатириком. Идеальное общество, идеальный строй на острове Утопия. Слово «Утопия» придумал сам Мор и расшифровал его так: «Нигде». Нигде оказались и коммунисты со своей утопией. Мор породил Оруэлла.
[Закрыть]
Шкотский служилый дворянин явно нравился родителям Наташи. Жалованье приличное, гляди, в помещики выйдет. И хоть басурманин, по-русски неплохо говорит. Собой красив.
– Что ж, – рек будущий тесть бельского немчины, – и у нас, видит Бог, знатные были предки. Куда знатнее! Федоровы-Молинские мы, бояре из Великого Новагорода. Иван Третий Васильевич полтораста лет назад на брегах Шелони наголову разбил вольность новгородскую, а Иоанн Грозный выселил нас в прошлом веке на Москву. Молинской была в девичестве Марфа Борецка, иль Марфа Посадница, как звал ее весь люд господина Великого Новагорода. И не было на всей Руси наиславнейшей жены. Одна она на вече говорила!
Не мог тогда понять иноплеменец, пришелец с другого конца Старого света, о ком вел речь захудалый новгородский боярин, коему не суждено было попасть в «Бархатную книгу» российского дворянства при царевне Софье, при правнуках его и внуках самого Лермонта. Честно говоря, не до родословной невесты ему было, хотя и порадовался он благородству ее крови и тому, что предки ее, как и его пращуры, всегда были борцами вольности святой…
Но судьба еще приведет его в Новагород, и услышит он на месте Вадима Храброго гишторию о Марфе Посаднице и предках Натальи Федоровой-Молинской.
Лермонт хотел пригласить Дугласа, своего двоюродного или троюродного дядю по материнской линии, посаженным отцом на свою свадьбу, но тот мрачно поглядел на счастливого жениха и глаголил:
– Бродит в тебе, Джорди, юношеская похоть, толкает тебя на грех тяжкий. Не думаю, сын мой, чтобы Нокс, Кальвин да Лютер одобрили твою затею. Ибо в Ветхом Завете прямо сказано: Господь Бог через пророка Ездру велел возлюбленным евреям своим не брать себе жен иноплеменных. «Земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотами иноплеменных народов: их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не отдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших…». И отпустили евреи от себя всех жен и детей, рожденных ими, а тех, кто не желал сделать это, отлучили от себя и от Господа… Господь завещал Моисею: «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас».
Апостол Павел прямо говорил: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику».
А пророк Неемия говорит нам, что чужеземные жены ввели в тяжкий грех даже Царя Соломона, мудрейшего из смертных, заставили его молиться поганым богам.
– У Соломона была тысяча жен, – попытался отшутиться молодой жених, – у меня же будет только одна, с одной уж как-нибудь справлюсь.
Шкотский начетчик сокрушенно покачал седой головой:
– Не понимаю, сынок, зачем тебе сжигать за собой все мосты…
– А затем, – с горечью отвечал Лермонт, – что мы в Москве пленники и никто нас домой не отпустит!..
Но жених был непреклонен. Твердо посмотрел он в глаза Черного Дугласа и сказал:
– Дядя! Как ты знаешь, я единственный сын капитана Эндрю Лермонта из Абердина и, увы, едва ли не последний из дэрсийских Лермонтов. Тебе также известно, что рыцарю легче умереть, чем отказаться от продолжения рода. И тебе тоже, дядя, ведомо, что, когда тебя ранят в первый раз, ты навсегда расстаешься с глупым мифом о собственном бессмертии. Я уже пролил под Москвой кровь, не раз был на грани смерти, начиная с Белой, и понял, что могу погибнуть в следующем же бранном походе. Поэтому я должен спешить. А в том, что мой сын будет наполовину русским, я не вижу ничего худого. Мог же мой отец взять в жены деву из враждебного рода Дугласов, твоего рода, а русские не враги мне.
Черный Дуглас, выслушав эти полные достоинства слова, помрачнел и молча удалился, так и не благословив брак своего племянника.
С той поры словно кошка пробежала между двумя шкотами в Москве. Отлучил Лермонта Дуглас от себя. Посаженным отцом жениха стал полковник фон дер Ропп, напившийся до свадьбы до положения риз. Сам Дуглас дулся и крепился целый год, а затем неожиданно для всех сам перешел Рубикон – взял да женился на богатой и толстой вдовой купчихе! Причем весьма сладострастной. Так был предан забвению завет Божий «бельскими немчинами»… На пятый год службы в Московии почти все они переженились, взяв жен иноплеменных. Остальные предпочитали нестрогих и разнообразных девиц в веселых домах на улице Неглинной.
Отец Наташи, стрелецкий голова, всю жизнь верил, что одна на свете Русь – земля святая и Богом возлюбленная, а все остальные поганые, да где уж тут разбираться, коли две дочки, старшая, Наталья, и младшая, Людмила, совсем еще дите малое, почти бесприданницы. Будь воля Господня!
Наталья пошла с отцом за наставлением к попу церкви Николы Явленного, и тот, разглаживая перстами бородищу, сказал им:
– Святой апостол Павел учил, что жена, имеющая мужа неверующего, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается верующею женою, а дети их, крещенные в православную веру, будут не нечисты, а святы.
Полковник сдался. Наташа была сама не своя от счастья, горячо целовала батюшкину руку, от которой пахло селедкой и лампадным маслом.
– Ну зачем тебе жениться! – приревновал его к будущей жене друг Галловей. – Разве на Москве мало доступных дворяночек и купчих! А сколько на Неглинной легконравных Евиных дочек! Бьюсь об заклад, что к утру ты забудешь о своей девчушке.
Но разве может дружба встать на пути любви! А коли встанет, горе ей – дружбе!..
Русские нравы того века мало разнились от шотландских по части женитьбы. Как свидетельствует Вальтер Скотт, женщин в шотландских семьях держали в строжайшем поведении. «В этом, – писал шотландский чародей, – как и во многих других отношениях, нравы Шотландии мало чем отличались от нравов дореволюционной Франции. Девушки знатного происхождения почти не появлялись в обществе до замужества; и юридически, и фактически они находились в полном подчинении у родителей, которые обычно решали их судьбу по собственному усмотрению, не обращая внимания на их сердечные привязанности. Жених довольствовался молчаливым согласием невесты подчиниться воле родителей, а так как молодые люди почти не имели случая познакомиться (мы не говорим уж сблизиться) до брака, то мужчина выбирал себе жену, как искатели руки Порции – шкатулку: по одному лишь внешнему виду, в надежде, что в этой лотерее он вытащит счастливый билет».
Заметим только, что и в наше время подавляющее число невест выбирается по внешнему виду, даже если любовь и не приходит с первого взгляда. И вспомним в той же связи, что сам Вальтер Скотт упоминает в «Монастыре», что существовал в Шотландии более просвещенный обычай, по которому жених мог сожительствовать с невестой целый год, прежде чем окончательно решить, подходят ли они друг к дружке. О tempora, о mores! О времена, о нравы!
Наверное, читатель будет весьма удивлен, когда я скажу ему, что невесте Джорджа Лермонта незадолго до свадьбы исполнилось… четырнадцать годков.[59]59
На ловца, как говорится, и зверь бежит. Если читателю покажется, что 14 лет в XVII веке в России для выхода девицы замуж просто немыслимы, то процитирую Фоме неверующему такое подтверждение из старой книги малоизвестного русского писателя Вл. Михневича, автора интересной книги «Русская женщина XVIII столетия», опубликовавшего этот труд в Киеве в 1895 году:
«По понятиям того времени, девочка 12, 13 лет почиталась уже достаточно зрелой девицей, и нередко в этом возрасте выходили замуж…» А далее (на той же странице 61-й) автор сообщал, что знаменитый князь Меньшиков «хлопотал о приискании своей 12-летней дочке жениха…»
[Закрыть] Да, да! Совсем как Джульетте в итальянском городе Вероне, что стоит на дороге, ведущей из Милана в Венецию. Джульетта была даже чуточку моложе, но родилась она значительно южнее, нежели Наташа.
Впрочем, в XVII веке пятнадцатилетняя девица считалась уже перестарком, старой девой. В семнадцать лет московитянка могла иметь уже несколько детей, причем мальчики ценились намного выше девчонок.
По чину, по древнему русскому обряду величали невесту подружки:
Не шелкова ниточка ко стенке льнет —
Свет Андреич Евтихьевну ко сердцу жмет:
– Ой, скажи ты мне, скажи, Натальюшка,
Не утаи, мой свет Ёвтихьевна:
Кто тебе больше всех отроду мил?
– А и мил-то мне милешенек родный батюшка,
Помилей того будет родна матушка!
– А и это, Натальюшка, неправда твоя,
Неправда твоя, не истинная.
Ой, скажи ты мне, скажи, Натальюшка,
Не утаи, мой свет Евтихьевна:
Кто тебе всех на свете милей?
– Я скажу, молоденька, всю правду свою,
Всю правду свою, всю-то истинную:
Нет на свете милей мне света Юрьюшки,
Нет на вольном свету приглядней Андреича…
И дальше все было по чину, по обряду: взял жених золотое кольцо с лентой из невестиной косы, надел себе на безымянный палец, а на палец невесты надел купленное им для нее колечко из червонного золота.
Как убедился Лермонт, сватовство было делом отнюдь не простым: семейный совет, засыл пустосватов для проведки-разведки, смотрины да глядины, посылка сватов и свах, рукобитье, первый пропой, похмелки, зарученье и запой, и вот уж пропита невеста, плач и девичник, венчание, большой стол для родни и близких невесты, пирожный стол, стол у тестя… Всего и не упомнишь! Сколько бочек вина выпито! Еле-еле душа в теле от этой русской водки! Пили без просыпа…
Англичане всегда дразнили шотландцев и ирландцев, конечно, как самых великих питух. Да куда им по сравнению с русскими! Никакие шкоты не выдержали бы эту карусель непрерывных возлияний…
Свадьбу сыграли в доме полковника Федорова на Поварской близ Арбата,[60]60
Арбат называли Арбатом потому, что сюда столетия тому назад приезжали степные арбы татарских обозов во главе с баскаками, собиравшими, кровь из носу, ясырь Золотой Орде с московитов. Еще раньше послы ордынские стояли в Кремле, чувствуя себя там хозяевами до Куликовской битвы. Но и после этой великой битвы целый век приезжали баскаки на арбах на Арбат за данью.
[Закрыть] который стрелецкий голова отдавал дочери в приданое.
Диковинная была свадьба Лермонта: жених – шкотский пресвитерианин, невеста – православная, гости – вселенский собор, или «сборная солянка», как выразился отец невесты, а проповедником оказался лютеранин.
Полковнику фон дер Роппу не впервой было выступать вместо попа в церкви на подобных свадьбах, скрепя сердце дозволенных для рейтар православной церковью. Изрядно хватив московской зеленухи в предвкушении обильных возлияний, он был весьма красноречив:
– Раба Божия Наталья! Уф… уф… Жене надлежит свято помнить, что не муж создан для жены, но жена для мужа. Повинуйся мужу, как Богу, – так учит тебя Господь устами святого апостола своего Павла: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви… Как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем…». Раб Божий Георг! Уф… уф… Люби свою жену, «как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее»… Сказано: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть… Люби свою жену, как самого себя, а жена да убоится мужа…» Уф… уф… Ибо сказано: «А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен, но жена… уф… уф… прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием…»
– Горько! – горланили родичи невесты.
– Bitter! Bitter! – вторили им уже знакомые с этим стародавним русским обычаем заморские гости.
– Молчать! – гаркнул Ропп. – Я еще не кончил… – Ему не давали говорить, шум все нарастал. – Канальи!.. Уф… уф… За жениха и невесту!.. Ибо еще святой апостол Павел в Первом послании к Тимофею писал: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов!..»
Его мало кто слушал, но Ропп не сдавался.
– Молчать! Смирно! – еще пуще взревел фон дер Ропп. – Кто тут отец командир?.. А ну заткнуть глотку! Уф… уф… Как учил святой апостол Павел: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог». Берегись моих рейтаров, Лермонт, ибо сказано у пророка Иеремии: «Это – откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого…».
Голос полковника потонул в веселом гомоне рейтаров и прочих гостей. Эту свадьбу долго помнили на Арбате.
Галловой тоже поднял тост:
– Бог всемогущий да расплодит вас и да размножит вас и да будут от вас множество народов. И Цари произойдут из чресл ваших… Милейший земляк мой, Джордж Лермонт! Ты носишь в себе песнь Шотландии, песнь Томаса Рифмотворца. Не может быть, чтобы эта песнь, нечто большее, чем ты сам, не ожила, не зазвучала в ком-то из твоих сыновей или внуков.
Часа через два полковник фон дер Ропп исполнил свой обычный номер: сделав стойку на пиршественном столе, обошел его весь, опираясь токмо на большие пальцы стальных своих рук. А затем, утирая сентиментальные слезы, он говорил жениху:
– В моей любимой книге Вольфрама фон Эшенбаха о славном рыцаре Парсифале, написанной лет четыреста тому назад, рассказывается о том, как справлял Гамурет, отец Парсифаля, свою свадьбу с Белаконой, черной королевой мавров. Он отказался, как и ты, сделаться ее единоверцем, не подчинился Аллаху, понадеялся напрасно, что она, мусульманка, примет его веру, перекрестится в христианку. А она и не думала делать это, и тогда Гамурет тайно бежал на севильском корабле. А бедная Белакона напрасно взывала ему вослед: «Вернись, я тотчас приму твою веру!..». Бедный Гамурет… уф… уф… бедная Белакона!..
И рек фон дер Ропп:
– Да не постигнет тебя судьба великого рыцаря Гамурета!
Обливаясь слезами, продолжал сей чувствительный кондотьер:
– А Белакона родила от Гамурета смуглого мальчонку с пежинами. И волосы у него были черные, как у матери, но на темени пробился золотисто-белокурый локон – точь-в-точь волосы его красавца отца! И он тоже стал отважным рыцарем…
По старинному шкотскому обычаю в опочивальню молодых внесли в серебряном кубке подогретое вино с пряностями, и, когда все вышли с чересчур, пожалуй уж, вольными шутками и прибаутками на разных языках, причем фон дер Ропп удалился на больших пальцах рук, по-рачьи пятясь задом, Лермонт взял в руки кубок и сказал серьезно:
– Пусть, как в легенде о Тристане и Изольде, будет этот кубок наполнен любовным напитком, колдовским зельем. Мы изопьем его, сначала я, потом ты, и полюбим мы друг друга столь великой и дивной любовью, что до самой смерти сердца наши всегда будут биться в лад, и никакая сила на этом свете не сможет разлучить нас!
И они выпили кубок до дна, и было как в древней легенде: они погасили свет, и Джордж не хотел ничего, кроме Наташи, и Наташа не хотела ничего, кроме Джорджа, и лишил он ее звания девственницы. И Наташа нисколько не жалела о потере своего девичьего цветка, вовсе не обманывая своего короля, коему подсунули целку-служанку, ибо нет большего счастья для женщины, чем отдать свою лилию своему возлюбленному. Так пел в своих сладкозвучных стихах Томас Лермонт из Эрксильдуна…