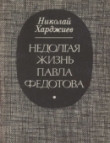Текст книги "Моя Чалдонка"
Автор книги: Оскар Хавкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
35
Не успела Анна Никитична притворить за собою дверь учительской, как следом вошла Карякина:
– Быстро вы… Уж кричала вам, кричала!
– Замерзла я. – Анна Никитична сбросила со стуком туфли, подсела к печке и протянула ноги к железной дверце. – Как же все-таки холодно у вас… Да вы садитесь, – спохватилась она, – садитесь.
– Некогда рассиживаться… Да-а, видать, не пообвыкли вы. Туфельки в эту пору у нас не носят, на катанки переходят.
Учительница не ответила. Она приоткрыла дверцу, и огненная полоса ворвалась в полумрак комнаты. Сверкнула медная ручка двери. Вспыхнул в углу, возле дивана, бело-красный муляж человека.
– Ноги сожжете! – Карякина покачала головой, подошла поближе. – Эк прихватило вас! И морозец-то пустяковый, не больше тридцати.
Огонь из печки осветил ее усталое лицо. Она сощурила покрасневшие от бессонницы глаза, внимательные и настороженные.
– Зима, говорят, нынче лютая будет, – продолжала Карякина. Она нерешительно смотрела на неподвижно сидящую учительницу. – Я вот зачем пришла. Вещи теплые для бойцов, что школьники собрали, отправили или нет?
– Вещи? Какие вещи? – переспросила Анна Никитична. – Ах, да, да! Кажется… должно быть… Да что же вы не сядете? – с некоторым раздражением сказала учительница.
– За Валерой мне надо, в садик. Я вот к чему. Мужнину лопатину сдала я в прииском, оттуда ушло. А ребятня моя в обиде: мол, нам сдавать нечего. Я что придумала: нашла шматок шерсти, хорошая шерсть, своедельная, навязала носков и варежек. Нина с Кирой помогали, а нести в школу стесняются.
Карякина замолчала, с тревожным любопытством поглядывая на учительницу.
Анна Никитична пожала плечами:
– Глупости! Ну не все ли равно? Пусть приносят!
– Да вот боятся! Засмеют – мол, что такое варежка против полушубка!
– Пусть приносят! – повторила Анна Никитична. – Я же говорю – глупости.
– Ну вот, а они свое: стыдно да стыдно. А чего стыдиться? Значит, можно? – не очень убежденно сказала Карякина. – Ну, пора мне, а то будет выговор от младшенького.
Карякина сделала шаг к двери, обернулась:
– Еще хотела вам что сказать: хорошие ребята в вашем классе. Уж я-то убедилась! Спасибо вам, сил на них немало кладете…
Не услышав ничего в ответ, она отворила дверь и тотчас же столкнулась с невысокой, коренастой девушкой.
– Здравствуйте, Любовь Васильевна!
– Здравствуй, почтальонша!
Это была Настенька-письмоносец. Огромная, набитая до отказа почтовая сумка висела у нее спереди. В обеих руках были свертки, перевязанные шпагатом, пакеты, круглые пачки бандеролей.
Карякина посмотрела на переполненную Настенькину сумку, подумала и воротилась вслед за девушкой в учительскую:
– Не уйти мне, однако, отсюда.
Настенька свалила пакеты и свертки на стол; сняв синие с ярко-зеленой каймой варежки, она старательно дула на исполосованные шпагатом красные пальцы.
– Прямо с почты. Еще в конторе не была и в продснабе. Еще надо на Первый стан, в Иванчиху.
Она перестала дуть на пальцы и занялась сумкой. Казалась непостижимой ловкость, с которой девушка разбиралась в ворохе газет, журналов, писем.
– Вот вам, Иващенко, письмецо.

Анна Никитична выхватила из рук Настеньки сложенное треугольником письмо, шире раскрыла печную дверцу, и в комнате стало светлей. Анна Никитична торопливо развернула письмо.
Карякина подошла поближе к столу. Из Настенькиной сумки выглядывали сложенные узкими полосками газетные листы, серые обложки журналов; за ними, в глубине, роились письма – толстые пачки белых, голубых, розовых конвертов.
Женщина немигающим взглядом осмотрела сумку. Неужели среди всех этих писем нет того, которое она выплакивает длинными зимними часами, того, которое согрело бы ей сердце и дало радость детям, прибавило бы сил и бодрости в суровой ее жизни?.. Не сразу заметила Настенька этот пристальный взгляд.
– Так, «Правда» – один экземпляр, «Известия» – два, «Забайкальский рабочий» – пять, «Спутник агитатора» – один. – Она испуганно взглянула на Карякину: – Ох, да что вы! Родионовой есть, Отмахову, а вам… Нету вам, ну право нету, – виновато повторила девушка.
Морщины резче обозначились на худощавом лице Карякиной, углы губ опустились.
– Не судьба мне сегодня. Что ж, хоть другим есть, и то хорошо! – Она посмотрела на Анну Никитичну своими глубокими глазами. – Вот, видать, к нашей учителке прилетела счастливая весточка. Вон как разулыбалась!
Анна Никитична оторвалась от письма. Не надевая туфель, в одних чулках, подошла она к Карякиной – близко-близко, почти вплотную:
– Вы понимаете, какая радость! Старики мои ко мне выехали! Ох, и пешком шли и в канавах отлеживались. Все же удалось выбраться и в поезд сесть. Сейчас где-то под Уралом… Хорошо бы узнать, когда поезд придет!
Подменили, что ли, Анну Никитичну? Она, стоя то на правой, то на левой ноге, проворно надевала туфли.
– Вона, сразу отогрелась! – Карякина засмеялась своим удивительно молодым смехом. – Теперь пусть мороз градусы набавляет – ништо вам!
– Ништо, ништо, Любовь Васильевна! – Учительница встряхнула длинными волосами. – Вот только новая забота: где устроить, чем накормить.
– Ничего, устроитесь. Не оставим без помощи.
Анна Никитична посмотрела с улыбкой на Карякину и слегка покраснела:
– Любовь Васильевна, а я… я хотела вам сказать: очень хорошо вы придумали насчет варежек. И знаете, как надо сделать: чтобы все, все школьники принесли и варежки и носки. Тогда и ваши поймут, что это нужно, что это не мелочь. Верно?
– Вот и хорошо, – с облегчением сказала Карякина. – Все же поняли меня! Ну, теперь пойду… Садик, должно, закрыли – как бы Валерик сам в путь-дорогу не отправился.
Учительница снова подошла к печке, собираясь перечитать письмо. Но на ее месте сидела Настенька и вертела в руках какой-то пакет.
– Вы еще здесь! – с удивлением сказала учительница. – А мне казалась, вы спешите.
– Еще одно письмо есть, – ответила девушка. – Вовсе непонятное, очень даже странное.
Настенька поднесла письмо ближе к свету.
Анна Никитична через Настенькино плечо взглянула на пакет: он лежал у девушки на ладони, невидный, цвета осеннего неба, с синей печатной маркой в правом углу, с синим гербом СССР слева, с вопросами «куда» и «кому» и точечными строчками после них, с отчеркнутыми жирной линейкой требовательными словами: «Адрес отправителя». Знакомый конверт мирного, довоенного образца.
– «Куда»: Прииск Чалдонка Читинской области, неполная средняя школа, – читала Анна Никитична. – «Кому»: Рядчиковой Антонине Дмитриевне. Что же вы сомневаетесь. От конвертов таких, конечно, мы отвыкли. А письмо… письмо, несомненно, от Алексея Яковлевича. Вот и не только одной мне сегодня счастье.
– Счастье! – усмехнулась Настенька. – Уж вы думаете, что я вроде как шарманщик с попугаем. Нелегкое мое дело – с сумкой этой ходить! Войдешь в дом и не знаешь, то ли радость, то ли горе принесла. Солдатки и ребята, прежде чем письмо принять, в глаза заглянут; рука иной раз дрожит, когда письмо протягиваешь. Вот и тут.
– Что – тут, Настенька? Ну зачем вы раньше времени!
– Анна Никитична, – зашептала таинственно Настенька, – я почерка своих клиентов, как каждый приисковый дом, знаю. У Алексея Яковлевича буквы прямые, с характером, а эти навкось полегли, будто друг от дружии убегают. Не его это рука!
– Ах, Настенька! А может, и хорошее письмо, добрая весть? Дайте сюда, я сама передам Тоне.
…Оставшись одна, Анна Никитична подошла к окну и долго глядела на посеребренные снегом сопки, на сине-золотые фонарики звезд… Нет, в самом деле права Карякина. Уж не такой мороз здесь, чтоб не стерпеть. И дети уж не такие плохие. Как это Карякина сказала: «Пилы на них кладете». Ах, как же ей теперь стыдно, как стыдно!..
36
Мороз ли, снегопад или сивер с Яблонки – Кайдалов каждый вечер надевал фуфайку, пальто, теплые боты и выходил на улицу. Постукивая по мерзлой земле осиновой палкой-дубинкой, он шел вниз по Партизанской к старым разрезам, возвращался к приисковой площади, бродил вдоль берега Урюма.
Время от времени Кайдалов останавливался; то громко застонет, или хохотнет, то возьмется рукой за грудь, то хватит палкой-дубинкой по сухим прутьям тальника. Зарослями тальника и лимовины[10]10
Лимовина – ильмовник; ильм – дерево из семейства вязовых.
[Закрыть] пробирался он от Урюма к Тунгирскому тракту, не замечая, как хлещут в лицо скользкие, обледенелые ветви.
Кайдалов по тракту вышел к электростанции. Двойные двери ее, обитые прокопченным войлоком, были приоткрыты; казалось, оттуда, из дверей, дышали в улицу горячим воздухом, нефтью и машинным маслом.
У дверей электростанции стояла крошечная шарообразная фигурка. Нельзя было сразу различить ни головы, ни ног – так плотно упаковал ее кто-то в пальто, в шапку, в варежки, в катаночки. Одни только глаза поблескивали в узеньком промежутке между шапкой и шарфом. И глаза эти, изредка помигивая, пристально смотрели на два локомобиля, вразнобой тарахтевших в глубине помещения.
Кайдалов невольно замедлил шаги и тоже заглянул внутрь электростанции.
– А они могут уехать, машины-то? – вдруг услышал он издалека снизу слабенький голосок. Слова казались маленькими, как сам парнишка, но были произнесены твердо и отчетливо.
– Не могут. Видишь, стоят на месте? – склонился над малышом Кайдалов.
«Горный кряж над кустиком багула», – подумал он и усмехнулся.
– А ты что дут один-то делаешь? – Собственный голос показался Кайдалову громким и грубым.
– Как же не могут? А колесы зачем? – спросил кустик. – Вот все уйдут отсюда, а колесы возьмут и уедут!
– Не уедут! – ответил кряж. – А ты кто?
– Я – Валера… Карякин.
– Нина Карякина твоя, что ли, сестренка?
– А чья же? Конечно, моя!
– Куда же ты идешь?
– Домой. Я из детского сада. Тетя Феня одела, я и пошел. Все ругаются: матерей, говорит, не дождешься, без рук и ног осталась, говорит. Ну, я и пошел.
«Не слова, а какие-то шарики выталкивает, – подумал Кайдалов, – круглые, легкие. А Медынька все «р» не выговаривал». – И почувствовал, как словно кольнуло в сердце тонкой и длинной иглой.
– А ты не замерз? Катаночки-то почему в снегу?
– Чуточек замерз… Я в сугроб залез.
– Ну, пойдем вместе.
– Пойдем… А вот все равно возьмут и уедут! Потому что колесы.
Они дошли до учительского дома. Кайдалов посмотрел на окна своей квартиры. Длинные, бесконечные зимние вечера, а он все один, один – просто уж невмоготу!
– А что, молодец, может, зайдем погреемся? – сказал Кайдалов. «Что это с моим голосом, совсем охрип, – думал он между тем. – Зайдет или нет?»
– А ты здесь живешь?
– Здесь.
«Не зайдет!»
– Ну ладно, давай погреемся.
Валерик, выступая каждый раз с правой ноги, взошел по ступенькам крыльца на веранду.
– Ты постой тут, в кухне, – сказал, торопливо отворяя дверь, Кайдалов, – а я лампу зажгу.
Он словно боялся, что Валера раздумает. Руки у него дрожали, когда он снимал холодное стекло десятилинейки, выкручивал фитиль, чиркал спичкой. Мальчонка тихонечко стоял у порога, и даже дыхания его не было слышно.
А когда старый учитель распаковал Валерика – размотал шарф, снял пальтишко вместе с варежками на веревочке, – то оказалось, что Валерик не круглый, а щуплый и сутуленький, с острым подбородком и острыми локотками. И глаза острые и светлые в неожиданно темных и густых ресничках. «Слова-то – шарики, а сам-то – щепочка!» – подумал Кайдалов.
– Садись-ка в кресло, у окна. Я катаночки твои подсушу.
Валерик в одних чулках проворно прошлепал к креслу и уселся, подобрав ноги. Ах, как давно не бегали детские ноги по этому некрашенному полу!..
Кайдалов держал в огромной руке мокрый Валеркин катаночек. Снег на нем растаял, катаночек потемнел, впитав воду. Кожаная латка на заднике сморщилась и отстала. «Валенок-то чуть побольше моей трубки-ганзушки, – подумал Кайдалов, – а пяточка-то худая. Отдам-ка ему старые Бедынькины – они совсем целые». Он все же поставил катаночки на еще теплую плиту, подкрутил фитиль в лампе, и кольцо огня вокруг фитиля утолстилось; в лампе запрыгали веселые язычки; стало светлее в комнате.
– А это кто там спит? – спросил Валерик и показал на стоящие рядышком две кроватки.
И вновь почувствовал Кайдалов, как кольнула сердце тонкая и длинная игла.
– Да вот, понимаешь, никто не спит! Никто… (Ох, до чего же он охрип, просто дерет все в горле!) Ты вот что… есть хочешь?
– Хочу. Ты картошку будешь варить?
– Нет, – ответил учитель из кухни хриплым, точно сдавленным голосом. – Будем кофе пить.
– Ну, давай кофу! – ответил Валерик.
И вдруг, высмотрев в комнате что-то остренькими глазками, соскользнул с кресла. Кайдалов, скрипя половицами, ходил по кухне. Он растопил плиту, налил воды в эмалированный кофейник, достал из буфета круглую коричневую банку с надписью «мокко», черпнул в ней чайной ложкой. «На донышке осталось». Хозяйничая, он то и дело вскидывал голову, прислушиваясь к тихим, неясным звукам, к бормочущему что-то голоску, и странно и удивительно было ему, что он сегодня не один… По квартире разнесся густой и пряный запах кипящего кофе. Когда Кайдалов вернулся в комнату. Валерик сидел на коврике возле кроваток и обеими руками доставал из деревянного ящичка цветные ленты и флажки, картонные игрушки: зайцев, рыбок, петушков. Лицо Валерика, и волосы, и руки были в золотых и серебряных блестках и словно сияли.
– И звезда есть! – кругло и отчетливо выговаривал он. – И звезда!
И он протягивал золоченую бумажную звезду Кайдалову. А тот стоял над ним в своих мешковатых брюках с подтяжками поверх синей фуфайки, грузный, заросший седой щетиной; он держал кофейник в руках; кофе еще булькало – крышка кофейника мелко подрагивала, и коричневая струйка сбегала по ее зеркальному боку. Кайдалов смотрел на звездочку, на ленты, на хрупкие стекляшки… Как давно не прикасались к ним детские руки – с прошлогодней елки!.. Елка стояла тогда в углу за кроватками; Бедынька и Медынька, ложась спать, трогали колючие ветки, доставали потихоньку конфеты в цветных хвостатых обертках… Ох!
– Ну, ну, – бормотал Кайдалов, – давай же пить кофе. Только черный, понимаешь, молока-то нет!
– А с сахаром?
– С сахаром.
– Ну, давай черный с сахаром. А можно, я пока звездочку подержу?
– Можно. Пей, вот твоя кружка.
– Я из блюдечки люблю, – сказал Валерик.
Кайдалов налил ему в блюдечко. Валерик держал в одной руке звезду, в другой большой кусок хлеба с маслом и прилежно выфукивал кофе. Посмотрит то на уменьшающийся кусок хлеба, то на звездочку, то на Кайдалова, склонится к блюдцу и тянет из него черную жидкость сложенными в трубочку губами.
– А для чего ее пьют – кофу? – неожиданно спросил он.
– Как для чего? Ну, чтобы сердце билось лучше.
Валерик быстро приложил руку к груди, потом пожал острым плечиком и засмеялся:
– И не лучше бьется… Ну тебя!
Через секунду Валерик снова копошился возле ящичка, шелестел серебрушками, коробочками, лентами. Что-то было в нем и от Медыньки и от Бедыньки, и Кайдалов подмечал в нем то черты сына, то черты дочери, и от этого было больно, и грустно, и хорошо… Кайдалов тяжело опустился на коврик рядом с Валериком. Тот, запустив руку в самую глубь ящика, вытянул крупную остроносую шишку, пахучую, смолистую; шишка была похожа на башню, сложенную из треугольных коричневых камней.
– Съедим шишку?
– Съедим.
Валерик отогнул щиток: из двойного гнездышка сонно смотрели тупые рыльца орешков. Валерик снял второй треугольник, третий, обнажая светло-коричневые, темно-коричневые и совсем красные орешки. Валерик вынул орешек и хрустко надкусил острыми зубами. Из развалившейся надвое скорлупы он вынул пузатенькое зернышко в тонкой, тоньше папиросной бумаги, коричневой одежке:
– Ох, вкусный какой!
Валерик надкусил второй орешек, достал зернышко и сунул его в обросшие колючим волосом губы Кайдалова.
– Попробуй! – И рассмеялся. – А тетя Феня говорит: «Детский род – все в рот». А что такое род?
Кайдалов тяжело, с хрипом вздохнул.
– У тебя болит здесь? – ткнул его Валерик пальцем в грудь. – Все хрр… хрр…
Нет, ничего не болит у Кайдалова. Он думает о кедровой шишке.
Шишечки, шишечки! Росли вы на кедрах Малетинской гривы, ночевали в срубе со стрелками зеленой травы на крыше, били вас маленькие руки березовыми палками… Вот эту шишку не обмолотили, висела она на рождественской елке, а сейчас уж совсем не похожа она на башню, а похожа на разоренный дом…
– Ничего, ничего, – говорит Кайдалов, – ничего. Чем же мы с тобой займемся? Вот я раньше, понимаешь, умел голубей делать.
Кайдалов взял с этажерки большой лист белой бумаги, сложил его в одну сторону с угла на угол, потом в другую сторону. Валерик с интересом следил за его работой. Тыча пальцем в синюю фуфайку Кайдалова, он вдруг залился смехом:
– Ой же хитрый! Ой же хитрый какой! Это разве голубь?
– А что же?
– Это же так письмо-самоделку складывают. Конвертиком. Папе на фронт. Ой, хитрый! А ты кому будешь посылать?
Валерик посмотрел на пальцы Кайдалова, комкающие бумагу, и губы у него скривились. Он положил тоненькую ладонь учителю на колено:
– А ты не плачь, не плачь, не надо…
37
Тамара пришла на совет отряда в воинственном настроении: она им всем покажет! Пугать вздумали! Заманили, окружили, еще немного – и драться бы начали! Пусть что угодно говорят, а за это им попадет и от Анны Никитичны, и от Тони, и от Сени. Правда, при виде Чугунка, его прокопченной телогрейки со свежими заплатами на рукавах, Тамара презрительно поджала губы.
– Телогрейка какая несуразная, дырье какое-то! – громко шепнула она Маше. – Не может одеваться поприличнее!
Пухлое Машино лицо налилось краской. Маша отвернулась, не ответила.
– Ишь, барыня на вате! – сказал Ерема. – Прямо от тебя прелиной несет. У него же дом сгорел, а ты…
Римма даже отодвинулась от Тамары вместе со стулом. И Тамаре стало немного не по себе.
Сначала говорили о теплых вещах: сколько собрали, что собрали, как упаковали, как отправили. Тамара поглядывала на всех с чувством превосходства: она-то уж лучшие вещи принесла! И ей было непонятно, почему вдруг Анна Никитична завела разговор о носках и варежках. Подумаешь, важность!
…А Володя в это время незаметно наблюдал за Ниной. Склонив голову, она вращала карандаш в круглой пластмассовой точилке. Странное дело, Нина смещалась в его глазах, как в кино: то вдруг придвигалась совсем близко, и чинилка казалась Володе с колесо величиной, то вдруг Нина отдалялась, становилась маленькой, и класс вытягивался в длинный, узкий коридор. Володя протирал глаза, в голове у него шумело, по спине вдруг словно кто проводил мокрой, холодной тряпкой. Нет, если бы днем тетя Вера была дома, непременно измерила бы температуру. И все же, хотя все мельтишило в глазах, Володя заметил, как замерли Нинины пальцы, когда Анна Никитична заговорила о варежках, как Нина исподлобья, недоверчиво взглянула на учительницу.
Но вот слово дали Маше.
– Мы с мамой четыре пары варежек навязали, ладненькие получились! – Круглое Машино лицо дышало радостью. – Шерсть вымыли в мыльной пене. Варежки мягонькие-мягонькие – прямо духовые!
Всех – и Машу, и Анну Никитичну, и Нину – застлало вдруг туманом. Из этого тумана показалась чинилка – ее живо вращали Нинины пальцы; из прореза чинилки коричневыми хлопьями выползала стружка. Вот, словно обложенный ватой, голос Тамары. Почему это он слышит не все, что она говорит?
– Варежки и носки… по-о-думаешь! Смеяться будут… Я… папину меховую шапку… папино… с меховым воротником…
Вот какая она! Не от души, а чтобы вперед вылезть. А он думал – добрая: бумагу подарила, карандаш предлагала… Нет, уж если что-нибудь хорошее сделает, то потом сто раз напомнит и за копейку ей рубль выкладывай. Эх!..
Володя тряхнул головой: туман исчез, и все вокруг стало видеться и слышаться со странной хрупкой отчетливостью. Вот Нина со стуком открыла крышку пенала и швырнула в пенал точилку, а на Сенином лице Володя ясно прочитал: «Ну и ну!»
– Твое пальто греть не будет! – услышал Володя выкрик Еремы.
– Это почему же не будет?
– А тогда греет, когда… когда не для форсу приносят.
– Голубятник! Хулиган!
– Кукла! Сплетница!
Ребята загалдели. Сеня постучал кулаком по парте так, что откидные крышки задрожали.
– Ну, ну, разъершились! Я вам сейчас разъясню, что такое варежки. Вот я раз в тайге, еще мальчишкой, на охоту ходил и варежку потерял. Так ознобился – пальцы чуть не остекленели. А на драге – попробуйте голой рукой за железо, если оно насквозь морозом прохвачено! А вы представьте бойца – в окопе, на мерзлой земле, под ветром, и не минуты, не часы, а ночи и дни… Нет, шуба – шубой, а варежка – варежкой. Да и другая варежка шубы дороже… Так что же, будем бойцам ну, это самое… вязанье посылать?
– Будем! Даешь варежки! И носки!
Тут снова все заволокло туманом, а в уши опять набилась вата.
– Володя, что с тобой?
– Я – ничего… Ничего, Анна Никитична!
Вот как! Уже обсуждают Тамару…
Тамара слушает Нину, презрительно поджав губы.
– Мы хотим, чтобы ты честно все рассказала, – говорит Римма, – как настоящая пионерка.
Но Тамара все отрицала: задачи она не списывала, конфет не предлагала, на Володю не наговаривала.
– Я хотела только решение сверить… У меня у самой было решено. А Нина пожадничала.
– Бессовестная! – крикнула Нина. – Ты купить меня хотела, а сама, сама… Красный галстук продаешь!
Нина отвернулась и прижалась лицом к спинке стула.
«Ну и ну!» – выразило Сенино лицо.
– Ничего не продаю! – выкрикнула Тамара. – А меня убить хотели. Заманили, окружили… Хорошо вы, Антонина Дмитриевна, пришли.
– Да, – сухо ответила вожатая, – я пришла вовремя. Может быть, ты теперь докажешь, что они неправы?
Тоня не опускала глаз с Маши Хлудневой. Девочка сидела как на угольях, поворачивалась то к Тамаре, то к Володе, то к Антонине Дмитриевне, шевелила пухлыми губами, словно говоря что-то про себя, привставала и снова садилась.
– Все они врут, – грубо сказала Тамара. – Не любят меня, и все!
«Ну и ну!» – было написано на Сенином лице. Но Сеня молчал.
Антонина Дмитриевна почувствовала, что надо помочь Маше.
– Говори, Маша, говори все, что знаешь!
Маша встала, глубоко вздохнула, посмотрела в злые Тамарины глаза.
– Ничего Тамара сверить не хотела, – мужественно сказала она. – И решения у нее никакого не было. Когда Нина ей тетрадку не дала… у меня она… задачу списала. Вот.
– За конфетку? – резко спросила Римма.
– Я не за конфетку, – еле слышно прошептала Маша, – я помочь хотела.
– Врешь, врешь, Маша! Не списывала я! – закричала вне себя Тамара. – Подговорили тебя!
– Я вру? Я? Я в теплице была, дежурная, а ты прибежала. Еще блюдце с горохом сбросила. И на столике списывала. Я все боялась, что кто-нибудь зайдет. Стыдно тебе, Тамара!
– А тебе, тебе не стыдно? – совсем забывшись, крикнула Тамара. – Сколько раз тебя выручала, сколько раз тебя мама пирогом кормила…
И тут Сеня заговорил.
– Стоп! – сказал он. – Выключай мотор! Кривое кривым не исправишь. Чем подругу-то попрекнула? Ну, списала, глупость сделала, со всяким может случиться. А подличать зачем? Мутить кругом? Врать, изворачиваться, ссорить товарищей? Да, видать, в какой логушок[11]11
Логушок – деревянная посудина.
[Закрыть] деготь попал, то уж запах ничем не выведешь. Что же, ребята, делать будем?
– Эх ты, Бобылкова! – Володя, собрав последние силы, встал с места. – Я предлагаю… исключить ее из пионеров.
Что было дальше, Володя уже не помнил.
Тоня, Анна Никитична и Сеня, отведя Володю домой, зашли к Марии Максимовне.
Они сидели, обсуждали случившееся, как вдруг Анна Никитична вспомнила про письмо и подала Тоне конверт цвета осеннего неба с синей отпечатанной маркой и гербом по углам.
Да, Настенька была права: рука, надписавшая конверт, была незнакома Тоне, и номер полевой почты был не Алешин…
Тоня медленно надорвала конверт с краю. Да, вот оно – не снежное, а настоящее письмо. Неровный бумажный лоскут, прошуршав, скользнул на пол. Она вынула из конверта вдвое сложенный лист почтовой синей бумаги, развернула его. И, едва прочитав первые строки, выпрямилась, закрыла плаза, а рука, державшая листок, упала на колени.

Вот оно, то письмо после боя…
Сеня выхватил из Тониных рук синий листок.
– Вот… – глухо сказал он. – Вот… Алеша пропал без вести…