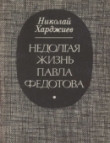Текст книги "Моя Чалдонка"
Автор книги: Оскар Хавкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
28
«Только бы кричать на детей…» Эта юная ростовчанка полагает, что для него, Кайдалова, самое радостное дело на свете – кричать, шуметь, пить водку.
Ларион Андреевич сидит на узком подоконнике в опустевшей учительской. В комнате темно и холодно, чертовски холодно, – ведь Елена Сергеевна топит не днем, а на ночь, чтобы печки не выстывали к утру. Кажется, даже бело-красный муляж человека застыл от холода в своем углу. Отличное анатомическое пособие эта модель человека! Как тонко, искусно вырисована вся нервная система! Даже удивительно, что он ничего не чувствует, не видит, не понимает. Вот счастливец! Обменяться бы с ним местами. Нет, он, Кайдалов, пожалуй, не подойдет для учебного пособия – великоват и слишком топорно сделан. И память, память, ничем не вытравишь память..
Насчет муляжа – глупости; надо идти домой. А зачем? Дома тоже темно и холодно. И то, что страшнее холода и мрака, – пустые кроватки близнецов. Покрытые пылью елочные игрушки в коробке под детским столиком. Альбомы со смешной и милой мазней…
Эх, жизнь, жизнь!.. С детских лет гнет она его, Кайдалова, – с той поры, как вытолкал его пьяный отец-приискатель из дому. С двенадцати лет привык на золоте работать – держать в руках тяжелый лоток, пожогами оттаивать мерзлую землю… И все же сколотил копейку, окончил учительскую семинарию. В брюках из мешковины сходил, да окончил! Товарищи устроились в реальных училищах – кто в Иркутске или Верхнеудинске, кто в Чите или Благовещенске, а он все по дальним приискам, в глухой тайге, в одногодичных и двухгодичных школах – с детьми старателей… Не кричал, не попивал водочку – учил и больше вашего, Анна Никитична, детей любил.
Ну, конечно, характер у него был не сахарный: там с подрядчиком поскандалишь, там спиртоносу скулу свернешь, там с одичавшим родителем вкрутую поговоришь. А с детьми ничего, ладил. Уж куда только не загоняли его, Кайдалова: за скалистые кручи, в таежные дебри, где такое бездорожье, что только раз в году санным путем выберешься. Прииск Грязнуха, прииск Ледянка, прииск Маломальский, прииск Безводный, прииск Недоступный и даже забытый богом и людьми прииск Северный полюс. И после каждого оставалось в душе немало накипи и огорчений.
Провоевал ту войну в Карпатах, был ранен, контужен, в красных партизанах проходил три года, и снова – учительствовать на прииски. Товарищи звали его в город – многие преподавали в техникумах, вузах; некоторые стали кандидатами. Его, Кайдалова, считали неудачником, фельдшером от педагогики – как же, застрял в начальной школе. А он ничего, работал себе, не скучал. Собирал с детишками таежный гербарий, учил их глазомерной съемке, учил считать и писать, разучивал с ними песни, проверял тетради. Конечно коснел, конечно отставал, конечно и характер портился. Попробуйте, поживите в глухомани без своей семьи, без своего дома, изо дня в день одно и то же: бревенчатое здание школы, приискательские лохматые ребятишки, устный счет, письмо, пение, рисование…
Вы всего-то полгода без мамаши пожили, Анна Никитична, а сколько уже ночей проплакали!
А тут – в сорок женился, в сорок два овдовел. И остался с Андрейкой-Медынькой и Люшей-Бедынькой. Нянчил, купал, готовил, стирал – недаром близнецы звали его «наш папа-мама». Эх, близнецы, близнецы! Где ваши тонкие руки, ваше теплое дыхание?..
Неудобно сидеть на узком подоконнике, и нет сил подняться, уйти. Так в самом деле недолго застыть и превратиться в бесчувственный муляж. Если бы не память, не память!..
Разве забудешь, как прошлым летом отправился он с близнецами шишковать в синий кедровник Малетинской гривы! Он бил тяжелым колотом по толстым стволам, тяжелые шишки летели на землю, и близнецы весело и шумно собирали их в мешки. «Торопись, ребятки, – подгонял он Бедыньку и Медыньку, – а то скоро кабаны и медведи на промысел выйдут». Близнецы обмолачивали орехи палками на самодельных станках, а ночью в прочно сколоченном срубе прислушивались к посвисту ветра, к шуму кедрача и жались к отцу: «Ой, медведь по орехи пришел!»
Разве забыть, как ходили поздней осенью по ягоды! Тьма-тьмущая голубики, словно синий стеклянный ковер разостлала осень по широкой пади, и кое-где стежками первый снег. Голубика, обмятая морозом, сережками свисает с тонких стебельков и необыкновенно сладка. От ягоды быстро синеют маленькие губы и ладошки. Бедынька с Медынькой размахивают туесочками и хохочут, хохочут…
Глядя в окно, сквозь тьму угадывает Кайдалов дороги, по которым ходил с близнецами.
Он обещал показать им море, и вот приехала сестра и увезла их на море, а через месяц началась война, и он остался один – с тоской, которая как гора на сердце: не сдвинешь, не шевельнешь.
Вот Мария Максимовна вчера выговаривала:
«Голубчик, работать надо. Мы все из последних сил тянемся; легко ли мне, старой, русский да историю вести? А вы бросили нас, расписание под откос пустили, заставили нас, женщин, суматошничать… Бесчувственный вы, что ли? Этак, голубчик, только дезертиры делают!»
Бесчувственный! Нет уж, Мария Максимовна, не путайте меня с муляжем, которому я завидую, не путайте. Что расписание, если вся жизнь – в пятьдесят лет – пошла под откос и впереди – ничего, пустота, и только голос памяти как радио в покинутой людьми комнате…
Рад бы не кричать, рад бы не пить! Только бы вон из школы, куда глаза глядят, только бы не видеть, не слышать детей – не видеть и не слышать их веселья, их беспечного смеха, когда нет со мною моих ненаглядных, моих единственных…
29
На большой перемене Володя долго не мог найти Нину. Еще до окончания урока он, глядя на доску, – Анна Никитична записывала домашнее задание, – тихо сказал:
– Подожди у вешалки. Поговорить надо.
– Нам говорить не о чем! – Нина даже головы не повернула.
Конечно, она не ждала Володю у вешалки. Он выбежал в ограду. Девочки в длинной телогрейке, серых катанках с «искрой» и в аккуратно повязанном синем платке нигде не было.
Выручил Степушка. Он со звонком в руке (выпросил у Елены Сергеевны) стоял у дверей школы и, как только кто-нибудь растворял ее, поглядывал на часы.
– Ой, наверное, часы остановились! – беспокоился Степушка. – Скажи, Володя, сколько минут осталось? Ты кого ищешь? Нину? Она в пионерской комнате.
– Никого я не ищу… Вот пристал!
Нина в одиночестве сидела за большим столом с журналами и газетами.
– Мне с тобой не как с девчонкой… как с звеньевой поговорить надо… Дело есть!
Нина упрямо мотнула головой. «Дело!» «Надо!» Вот так все время. То «надо» составить план обора, то «надо» подтянуть кого-нибудь в учебе. Злись, не злись, а разговаривай. И рассориться по-настоящему не дадут!
– А я не буду больше звеньевой! Все равно не буду! Я Тонечке говорила. – Она взяла в руки «Пионерскую правду», сдвинула тонкие бровки. – Ну, чего стоишь? Сказала: не бу-ду!
– Тебя не Тоня, а ребята выбирали. И вообще злись и вредничай сколько хочешь, а на общественное дело нечего переносить.
– Не мешай мне читать! – Нина старательно смотрела в газету.
– А ты послушай. Мы с Отмаховым вещи принесли – валенки, полушубки, чтобы бойцам отправить.
– Ну и молодцы! Еще не раззвонил по всей Чалдонке? Вот я, Владимир Сухоребрий, какой распрекрасный!
Нина говорила все это, а на Володю не глядела. Уж очень ее интересовала газета.
– Нигде я не звонил! Я с тобой о деле, чтобы всем отрядом, а ты оскорбляешь.
– Всем отрядом, а сам первый вылез. И не подумал посоветоваться.
– А чего тут советоваться, если помощь фронту.
– Эх, ты…
«Сейчас, наверное, гусеницей обзовет», – почему-то подумал Володя. Но ошибся: Нина не обозвала его никак, просто отмахнулась газетой.
– Эх, ты… Разве ты поймешь!
– Чего не пойму?
– Ничего! Лучше уж тайнами своими занимайся… Вместе с Тамаркой!
Опять она про тайну!
– Да какие тайны? И вовсе с Тамаркой у меня ни чего нет.
– А хоть бы и было – мне-то что?
Нина взглянула на него со злым презрением, снова сдвинула бровки и загородилась газетой.
– Вот, – сказал Володя, – а газету переверни вверх ногами читать неловко.
Неизвестно, что бы ответила Нина, но в это время в дверь клуба просунулась тоненькая рука с колокольчиком.
– Кончилась перемена! Не слышите, что ли?
Нина бросила газету и побежала к двери.
– Тебя дядя Яша в праздники на обед приглашал! – крикнул вдогонку Володя. – Всех, кто дрова возил… Приходи!
Слышала Нина или нет, трудно сказать.
30
Вот и седьмое ноября тысяча девятьсот сорок первого года. Красные флаги и лозунги на бревенчатых стенах конторы. И на кирпичных стенах мастерских. И на деревянной вышке пожарки. И по всей Приисковой улице, от Тунгирского тракта до старых разрезов. Володя постоял возле школы, около конторы, полюбовался звездой на трубе электростанции и узким проулком выбрался к Урюму. К дяде Яше было еще рано. Сидя на валунах против Тополиного острова, Володя всматривался в здание аммоналки, видневшееся у подножия сопки, глядел на мелкую шугу, скользившую по реке, и все думал, думал…
Эх, до чего же все нескладно получается! Такое важное письмо, такое важное – и пропало. А с тетей Верой он теперь уж никогда не помирится, и она с ним. Вот и с Ниной – как все глупо, какая она несправедливая! А может, она в самом деле что-нибудь узнала? Нет, к Димке надо, к Димке, надо с ним все обговорить. Он настоящий товарищ. Уедет – и останется Володя один, совсем один. А Дима как сказал: «В праздники меня уже не будет». Может, его уже и нет?..
Володя вскочил с валуна и побежал вдоль берега Урюма.
В доме Пуртовых, как и в большинстве домов на прииске, была всего одна просторная комната. Большая русская печь, слева от двери, отделяла от комнаты небольшую кухоньку и запечье – Димин уголок.
В комнате за обеденным столом, прикрытым дырявой клеенкой, сидела Прасковья Тихоновна. Слева и справа от нее пачки бумаг, сколотые булавками; поближе, под рукой, бухгалтерские счеты. Она так была занята выпиской из бумаг и выщелкиванием на счетах, что даже не повернула головы на скрип двери. Диму Володя заметил сразу. Он в своем углу за печкой, стой на коленях перед деревянной скамейкой, делал одновременно два дела: слушал радио и пришивал козырек к своему серо-зеленому картузу.
На скамейке, и на узкой железной кровати, и на фанерном ящике валялись в беспорядке Димины вещи: клетчатая ковбойка, самодельный пистолет, какая-то палка с торчащими гвоздями, раскрытый перочинный ножик, боксерская перчатка (одна-единственная!), жестяные маночки, а рядом измятые тетради и учебники с полуоторванными обложками.
На скамейке одним концом лежала лыжа, рядом – старая консервная банка с мазью и пробка. Пахло резиной, сосновой смолой, воском. Куда это он собирается? На охоту? А зачем все вещи перерыл?
– Наши оставили Харьков, – зашептал Дима, когда Володя подошел и сел на скамейку. – Бои на Волоколамском направлении… на Тульском…
Наушники, скрепленные стальной дужкой, делали Диму похожим на железнодорожного диспетчера. Дима положил картуз на скамью и прижал наушники руками, будто от этого должно было стать слышнее.
– Понимаешь, как от Москвы близко! Нет уж, дудки, хватит ждать!
– Замолчи, толкач деревянный! – не поворачивая головы, сказала Пуртова. – Цифры мне все попутаешь.
– Ожесточенные бои в Крыму… – Дима снял дужку, разъединил наушники. – Слушай, сейчас повторят. Не игрушечки!
Пуртова повернула голову. Роговые очки еще резче подчеркивали худобу ее лица.
– Я думала, гром его расшиби, он сам с собой… А ну, не будоражь меня, выключи!
Радио умолкло.
Дима сделал гримасу и, уткнув лыжу в скамейку, стал штриховать мазью ее темно-коричневую скользящую поверхность. Он растирал мазь, похожую на воск, то пробкой, то ладонью.
«Ишь, как старается, разравнивает, – думал Володя. – Это на дальний путь…»
Прасковья Тихоновна за их спиной ожесточенно перелистывала свои бумажки.
– Ты куда собрался? – шепотом спросил Володя.
Дима, оглянувшись на мать, кивнул на старую отцовскую берданку, висевшую на гвоздике, потом сложил ладони трубочкой, сделал вид, что загудел, и снова взялся за лыжу.
«Уже!»
Сердце у Володи замерло. Будто на охоту, а сам… к поезду. Нет, как же так – один! Как бы задержать. Диму?
– А тебя дядя Яша ждет, – громко сказал Володя. – Велел зайти. Вот… я зашел.
Дима свирепо посмотрел на него.
– Вечно так вот, сатана головастая! – отозвалась Прасковья Тихоновна. – Его люди ждут, а он… Обломаю лыжи твои! А ну, собирайся к Якову Лукьяновичу!
Дима расшвырял вещи, со стуком вынес лыжи в сени, а когда Прасковья Тихоновна велела ему надеть поверх ковбойки отцовский меховой жилет-безрукавку, совсем заартачился. Едва уговорил его Володя.
– Ты что! – сказал Дима, едва они сошли с крыльца. – Сам на попятный и мне мешать! Я бы к вечеру знаешь где был?
– Я не мешать, – торопливо ответил Володя, – я тоже с тобой. Я и не думаю на попятный. Только можешь ты подождать, пока вещи сдадим и отправим? Хоть два дня!
– Вещи! Вещи-то нам самим нужны. Что же, голые на фронт приедем? А потом с вами год не соберешься! То картошку убирали, то по дрова ездили, то клуб строили… Делов-то вон сколько набирается! Сводку слыхал?
И все же Дима шел рядом с Володей, все поглядывая на него сбоку. Если бы другой уговаривал, не согласился бы ни за что. А Володя… Володю он уважает. И причина на то есть. Он вспомнил Володино письмо, Володины магнитные щиты на колесах. И как запечатывал конверт. И как, таясь от Настеньки, опустил письмо в почтовый ящик. Надо было тогда все рассказать Володе, чтобы не тревожился. Все думал: вот-вот убегут, дорогой и расскажет. Хоть бы Алексей Яковлевич ответил – уж сколько времени прошло! Дошло ли до него письмо? А может быть, сейчас все рассказать Володе? Все же лучше рассказать.
– Я тебя почему дяде Яше, – вдруг заговорил Володя, – не потому только, что приглашали. Девчонки придут.
– Вот уж обрадовал! С Нинкой, что ли, тебя мирить?
– Не в этом дело. Прослышали девчонки что-то.
Дима остановился. А, значит, не зря болтала тогда Тамара! Володино письмо сразу было забыто.
– Ты что!
– А то. Все про тайну разговор заводят.
– Кто?
– Кто, кто! Девчонки, говорю!
Дима нахлобучил свой картуз с черным козырьком по самые уши.
– Ну, уж будет метелица тому, кто сболтнул! Ну и будет! Чего же ты стоишь… толкач деревянный? Скорее к дяде Яше!
31
Яков Лукьянович, постукивая деревяшкой, крутился возле плиты. Вокруг пояса он повязал полотенце, рукава белой сорочки были засучены выше локтя. «Повар» приоткрывал крышку широкой, приземистой кастрюли, пробовал, помешивал ложкой и переходил к чугунной сковородке с длинной ручкой; на сковородке что-то клокотало и потрескивало. С трудом склонившись к духовке, старик шебаршил там противнем. «Солдатушки, бравы ребятушки…» – напевал себе под нос дядя Яша.
– Заходите, заходите! Только дверь покрепче прихлопните – пес-то все в дом рвется. Доброй собаке не в дому место. А ну, Вадим, подай с верхней полочки туесок с солью… Не тот, поменьше… Вот, спасибо, теперь проходите.
– Может, вам чем помочь? – спросил Володя.
– Опоздали! Мне уж и дрова мелко нарубили и воды полную кадушку нанесли…
– А, значит, девочки уже здесь!
– Уж такие у вас справные девочки? Ни одной еще нету. Это мне Ерема подмог. И не спрашивал – начал, как медведь, ворочать. Вениамин, что ж гостей не встречаешь? Что-то там расопорились, не слышат!
Увидев Диму и Володю, маленький Отмахов быстро соскочил со скамейки, на которой сидел с Еремой. Скамейка, будто живая, встала свечкой, и Ерема съехал с нее, как с ледяной горки-катушки.
– Кабы знал, там соломы подостлал!
Дядя Яша махнул шумовкой и вновь занялся своим заревом.
Ерема быстро, несмотря на свою грузность, вскочил на ноги; гогоча, потер место ниже спины и охватил со тола какую-то книжку.
– Ага, вот сейчас спросим!
Дима небрежно взял книгу.
– «Хрестоматия по древнему миру». Какие примерные! И в праздники раззанимались.
– Да нет, Венька опять напутал: говорит, что Перикл раздавал беднякам деньги на кино. А разве в древней Греции было кино?
– Вот уж сочинил! – засмеялся Володя. – В театр, а не в кино. Кино недавно появилось.
Володя взглянул на Диму и скосил глаза в Венькину сторону: «А ну, проверь, не он ли растрезвонил про нашу затею, не он ли!»
– Ох, да я не так выразился, – вывертывался Веня. – У меня это так… нечаянно.
– За нечаянно бьют отчаянно, – сказал Дима, в упор глядя на Веню. Он подтолкнул его в угол, к сундуку, и оглянулся на Володю.
– Ну, Ерема, покажи-ка хрестоматию! – нарочно громко сказал Володя и потянул Любушкина на скамейку.
– Ты чего разболтался! – спросил между тем Дима у Вени.
Тот заморгал глазами:
– Ну, ошибся! Подумаешь, дело-то какое! Ну, пусть не кино, пусть театр!
– Вот чурка дров! Мне-то все одно – театр или кино. Ты скажи: почему разболтал девчонкам про наши дела?
– Да ты что! Пусть мне от зимоложки брюхо вспучит, пусть иссохну, как амазарская жердь[9]9
На реке Амазар растут тонкоствольные березы и ивы. Отсюда и поговорка.
[Закрыть], пусть…
Новые гости помешали маленькому Отмахову выговориться до конца.
– Вот и мы! Конечно, мальчишки уже здесь! И хоть бы кто помог дяде Яше!
Лиза была в вязаной шапочке и тоненьком осеннем пальто, перехваченном крест-накрест серой шалью. Рядом с ней, в потертой заячьей дошке, высокая, плотная Римма Журина. А Нины с ними нет…
– Где же Карякиной дочка? – Дядя Яша будто подловил Володины мысли. – Не вся бригада-то!
– А мы заходили, – Лиза метнула сердитый взгляд на Володю, – не с кем ей Валерку оставить, садик-то закрытый, а Любовь Васильевна на драгу ушла.
– Ушла? Ах, ты! Все же по-своему сделала! Опасно! Какая теперь работа – река шугой заплыла, и сивер задурил с хребта. Опасно все же! – Дядя Яша с грохотом сдвинул сковородку на край плиты, со звоном закрыл пылающее отверстие. – Да, дела! Ну, а Нина могла и с младшеньким прийти.
– Она еще, может, придет! – сказала Лиза и снова пронзила Володю взглядом.
– Ну, ну, тогда накрывайте стол, – сказал дяди Яша, но не сразу ушел на кухню: постоял несколько секунд с застывшей в руках шумовкой.
Весело сдвигали стол к старому сундуку, расставляли тарелки, раскладывали ложки, вилки. Дядя Яша торжественно водрузил кастрюлю на круглую подставку. Рядом с кастрюлей появился поднос, прикрытый салфеткой. Под салфеткой оказалось восемь маленьких серебряных стаканчиков.
– Ну что же, чалдоны, рассаживайтесь… Сбегай-ка, Вениамин, в сенцы, захвати бутылочку, в уголочке стоит – синяя, засургученная, – и заодно баночку с грибами.
Ерема выбрал место возле Лизы.
– А что, Сеня тоже ушел на драгу? – спросил он будто между прочим.
– А тебе, Любушкин, лучше знать! – вздернула Лиза острый носик.
– Никогда толком не ответишь!
Веня вернулся быстро – школьники не успели рассесться. Вместе с Веней проскользнул в комнату и Чернобоб. Поджав свою метелку, он проворно забрался под Венину кровать. Веня подал дяде запечатанную сургучом бутыль и быстренько уселся на сундуке рядом с Володей.
– Это, значит, настоечка – голубиковая. – Дядя Яша откупорил бутылку и наполнил крохотные конические стаканчики. – Помаленьку, ради праздника. Уж только родителям не говорите, не выдавайте старика. Так, а где же грибочки?
– Грибочки? А я искал, дядя Яша… нету!
– Как же нету? Высокая банка, сверху марлей повязана. Плохо ты искал. Уж я сам. – И он застучал было деревяшкой.
– Да нету же, не ищите, – поспешно сказал Веня. – Я все осмотрел.
– Что ж, коза слизала, что ли?
– Н-не знаю. – Веня посмотрел на смоляную острую мордочку, высовывавшуюся из-за коврика. – Это, может, Чернобоб? – Он осмелел и, размахивая руками, заговорил, обращаясь к товарищам: – Он знаете как маринованные грузди любит! И капусту. Ого! Больше мяса.
– Ах ты, бес этакий! Пошел отсюдова!
Чернобоб, повизгивая, бросился вон из комнаты.
Дядя Яша уселся в деревянное кресло с соломенным сиденьем и стал разливать суп в плывущие к нему со всех сторон тарелки.
– То-то я смотрю – капуста в кадушке поубавилась, – говорил старый Отмахов, поглядывая на Веню. – И как это он ее, мерзлую, выковыривает? Лапами, что ли? Ну, а с грибами совсем потеха: пес-то их вместе с банкой слопал. И марлю сжевал… Ох, и прожора этот Чернобоб! Говорю, нельзя в дом пускать.
Что Ерема хохотал, а Римма и Лиза смеялись до слез, в этом ничего удивительного не было: они же ничего не знали, а вот что Веня подхихикивал, было непонятно. Радоваться нечему! Эта кукла Тамара, видать, о чем-то догадывается, и дядя Яша не зря насчет пропажи говорит: теперь Димин план в опасности.
А дядя Яша привстал, опираясь на стол, и вознес свою стопочку:
– Что ж, ребятня, за победу над врагом, за возвращение отцов ваших. – Он подумал: – Больше наливать не буду, а потому уж сразу и за Любовь Васильевну, что сейчас геройски на драге работает, за тружеников тыла. Ура!
Шесть голосов дружно подхватили «ура», и седьмой голосок донесся от дверей, когда за столом уже умолкли:
– Ура! Ура!
Это кричал младший Карякин. Его держала за руку девочка в длинной, не по росту, телогрейке.
– Валерик! Нина!
«Все-таки пришла!» – подумал Володя.
– Ну вот, и вся дровяная бригада собралась, – объявил дядя Яша. – Вот вам похлебка, а вот еще кое-что. Догоняйте! Ветром-то, видать, как следует просвистало!
– Это что – компот? – спросил Валерик, заглядывая на дно стаканчика.
– Можно сказать, вроде компота, – ответил дядя Яша.
– У, нам в садике по целому стакану дают! – Валерик выпил, выпятил губы: – Ух, сладко! Не, такой компот тетя Феня нам не давала.
Дядя Яша рассмеялся:
– Этот «компот» очень уважал мой отставной казак из Бейтоновки, у которого я ученье проходил. Еще покрепче любил… Зато уж нас, детей, любил, как я эту принадлежность.
Дядя Яша звонко щелкнул твердым, как ореховая скорлупа, ногтем по своей деревяшке.
– Школа, думаете, такая была, как на площади, – под железной крышей? Изба голая, а посреди печь. По обе стороны печи – два «класса»: перваки и старшенькие. Казак наш, водки накушавшись, на печке лежит и в обе стороны команду подает; с печи, значит, нашим образованием руководит. Наскучит ему умственная работа, привстанет да как гаркнет: «Кто там – Яшка да Ивашка, лети стрелой за святой водой!» Это он так ханшин называл. Ну и бежишь, высунув язык, на ту сторону, в китайскую лавочку за китайской водкой.
– На ту сторону? – удивился Володя.
– Я тогда на Амуре жил. Против Бейтоновки китайский городок был – Цяо-Цзян.
Рассказывая, дядя Яша все подкладывал на овальное блюдо пышные, золотистые шанежки. Синюю кастрюлю сменила сковородка с жареной козулятиной, противни с песочным печеньем. Он угощал и приговаривал: «Ешьте, это все самозаготовки».
– Самозаготовки! – шепнула Римма Лизе. Сколько масла и муки ушло!
– И сахара, – ответила Лиза. – Наверное, весь месячный паек. – И шепотом спросила: – И что это дядя Яша все в ограду выходит? Все беспокоится о чем-то!
– Дядя Яша, – неожиданно спросил Веня, – а что казак-то, учитель твой, жив сейчас?
– А на что он тебе? – ответил из кухни Яков Лукьянович. – Понравилась тебе его наука?
– Что вы, дядя Яша! – быстро сказала Лиза. – Вене все равно, где учиться, лишь бы не учиться.
– Вот оно как! – Дядя Яша вошел в комнату. – Да… Сивер-то, ребята, какой взыграл! Словно как в сказке великан одну ноздрю зажал, а в другую дует. Того и гляди, сопки снесет. – Он сел на сундук. – Что ж это, Вениамин, про тебя говорят? Придется сейчас допрос учинить. Расскажи про отметки.
– Дядя Яша! – тоненько-тоненько сказал Веня. – Тогда у всех спроси. По алфавиту надо: к-л-м-н-о-п-р-с-т…
– Тихо. Знаю алфавит. Вызываю на «О»: Отмахов Вениамин.
Веня заерзал, завертелся:
– По физкультуре – пять, по рисованию – пять.
Он замолчал. Больше пятерок у него не было.
– По ботанике – четыре. Я еще опыты ставил и по корням сочинение писал.
– Ясно. Про ботанику хватит.
– По литературному чтению – три, по географии – три. – Веня торопился и глотал слова. – По истории, – он вдруг обрадовался, – ага, по истории три с плюсом.
– С плюсом? – переспросил Яков Лукьянович.
– Сам видел! Мария Максимовна в журнале плюсик поставила, мал-люсенький, совсем незаметный, карандашом.
– Плюсик? – опять переспросил дядя Яша. – За что? За то, что Перикл в кино ходил? По русскому-то что у тебя да по арифметике?
Веня уныло посмотрел на товарищей.
– Двойки у меня, – проговорил он еле слышно, – и по немецкому двойка…
– Так, – помолчав, сказал старый Отмахов и поднялся с сундука: – С праздником вас, Яков Лукьяныч!.. Ну ладно, вы хозяйничайте, а я на кухне покурю.
Чай был допит в полном молчании. Немножко стало веселее, когда занялись посудой. Нина и Римма принесли из кухни таз с водой, мочалку.
– Сначала чайную, потом обеденную, – сказала Нина. – Девочки моют, мальчики вытирают. Кто хочет, – добавила она.
На Володю Нина так и не посмотрела ни разу.
Дима немедленно отошел в угол, к сундуку, и стал разглядывать охотничье снаряжение дяди Яши. Гремели в тазах чашки, тарелки, звенели ложки и ножи, а Дима думал о том, где бы он был сейчас, если бы…
– Вот уж Дима никогда не поможет! – сказала Римма. – Просто даже нехорошо!
– Он вообще сегодня скучный. – Лиза показала свои остренькие, щербатые зубки. – Как же, еще воскресенье пропустили – жалко!
И загремела от удовольствия посудой.
– Ой, – схватился за ногу Володя. – Ты что, Веня, одурел, шумовкой кидаться! Косточку отбил!
– Да я нечаянно… уронил! – Маленький Отмахов в испуге переводил глаза с Володи на Диму. «Вот это номер! Лизка-то, слышите, что говорит!»
Но Дима сидел себе на сундуке, перебирая пальцами патронташ дяди Яши и пренебрежительно усмехаясь, а глаза ушли в узкие щелочки. «Значит, и Лиза прослышала».
– Всегда ты, Лизка, ерунду мелешь, – сказал он спокойно. – Краем уха услышишь, и пошла, и пошла! Язык у тебя ходуном ходит!
– «Ерунду? Ходуном?» – Лизка уперла мокрые руки в бока и взглянула на Любушкина. – А ты, Ерема, уже гоготать собрался. А хочешь, про тебя скажу? Ты все на драгу к Сене бегаешь. Что, неправда?
– Ну и что, ну и правда! – пробормотал Ерема.
– Комбинезон завел, резиновые сапоги, даже шляпу, как у Сени. Скажешь, вру?
– Да это же все отцовское! – Ерема с такой силой тер полотенцем большое синее блюдо, что Веня ожидал: вот-вот в блюде появится дырка. – И не собираюсь скрывать: все равно драгером буду. Сеня обещал выучить.
– Вот! – торжествовала Лиза. – От меня не скроешь! А кто узнал, что дяде Яше дрова возят? Я! А кто первый увидел, как Веня и Володя с тюками тащились? Я! Веня так пыхтел – я сначала подумала, что это эшелон на разъезде.
– Ох, ты! – Веня сердито вырвал из Ереминых рук полотенце. – Медведь, блюдо сломаешь! Поставь в шкафчик на кухне.
В разговор вмешалась Римма.
– Вот, мальчики, нехорошо, – сказала она. – Володя – председатель совета отряда, а только о себе подумал. От себя вещи принес, и все!
Нина с горой вытертой посуды в руках стояла у дверей кухни. Она повернула к Римме продолговатое, в светлом пушке лицо:
– Он, наверное, думает, что одним его полушубком можно всех бойцов обогреть.
Володя не успел ответить, как Нинин голос раздался из кухни:
– Ребята, а дяди Яши-то нет! И Ерема ушел.
Школьники высыпали в кухню. И правда: исчезла с табурета войлочная шляпа дяди Яши, и зеленой толстой Ереминой куртки не видать на вешалке.
– Куда же они ушли?
– Придут, – тоном хозяина сказал Веня. – Может, дрова в ограде колют… А насчет вещей, Нина, я вот что скажу: и другие принесут, кто, конечно, сознательный.
– А может, не у всех полушубки и валенки есть? – сказала Нина. – Наша мама все отцовское сдала уже – что же теперь делать? Петя просит полушубок, Кира просит, и мне надо сдать. Не все такие богатые, как Сухоребрий или Бобылкова.
Володю передернуло: «С Тамаркой в ряд поставила».
– Ну, что же, – сказал он, – может, кто согласится за тебя принести.
– Ты, что ли?
– Хоть бы и я!
– А потом по всему прииску похваляться будешь, да? Так надсмеешься, что со стыда помру!
– Я? Нина, я?
– Ты! Ты! – со слезами в голосе крикнула Нина. – Ты! Ты! Ты!
Она стояла, прижав руки к груди.
– Когда я смеялся над тобой? Ну, говори, при всех говори! Я не боюсь! – требовал Володя, стоя прямо против Нины. Родинка у него над губой словно еще больше потемнела.
– Говори же, Нина, говори скорей! – сказала Лиза.
– Говорить ей нечего, – сказал решительно Дима. – Ерунда какая-то.
– Ерунда! Да ты… да вы все надо мною смеетесь! Я знаю!
Нина, уже всхлипывая, закрыла лицо руками.
Все? Но никто нигде никогда не смеялся над Ниной!
– Выдумала тоже!
– Наплела на Володю!
– Да чего ты, Нина?
– Это даже некрасиво!
Последние слова задели Нину. Она открыла глаза.
– Некрасиво? А красиво врать, будто я списываю? Вы все за Володю – как же, «хороший товарищ», председатель совета отряда. А мне Тамара про него все рассказала!
Тамара? Вот как! Володя опешил. Он растерянно посмотрел на товарищей:
– Ребята, но я же не говорил этого, честное пионерское!
Римма оказалась самой трезвой и рассудительной. Она схватила Нину за плечи и силком усадила на место:
– Рассказывай. Сейчас же расскажи нам все!
Но Нине рассказывать не пришлось. Дверь растворилась, и в дом вбежал запыхавшийся Ерема Любушкин. Он долго мотал головой и размахивал руками, пока не совладал с дыханием:
– Дядя Яша прислал… Девочки, бегите за рабочими… Лед крупный пошел… Леспромхозовские плоты с берега сорвало… Надо предупредить, чтобы драгу увели… Ребята, айда на Первый стан!