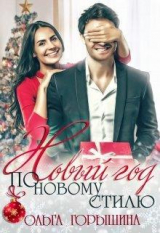
Текст книги "Новый год по новому стилю (СИ)"
Автор книги: Ольга Горышина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Глава 6.3 «Здесь или не-здесь, вот в чем вопрос»
– Лиза, она спит.
Это не вопрос. Это утверждение Гриши. Он стоял в дверях детской комнаты, а я лежала скрючившись на ковре. В ушах все еще стоял Любин крик. Нет, она произнесла просьбу тихо, но слова оставались криком маленькой души:
– Мама, не уходи!
И мама не ушла. Осталась подле кровати, в которой лежал огромный лев. Любаша вцепилась в него, не понимая, что места для мамы тогда не будет. Это понимала мама, и мое сердце не находило себе места. За что страдает мой ребёнок? За меня… За мое удовольствие…
Я не просто закрыла глаза – я зажмурилась, чтобы не разреветься от обиды на несовершенство этого мира.
Кто знал, что так будет… Я любила твоего отца, и Кирилл любил меня. И ты, ты помешала нашей любви… Но я выбрала тебя. Нет, что я вру? Я поверила бабушке Тане, что все у нас с Кириллом будет хорошо. Наивная… Наивная дурочка. А кто я сейчас? Взрослая дура! Не могу сдержать слез ни при ребёнке, ни при мужике.
Я отвернулась от кроватки и свернулась калачиком, надеясь, что детская поза сказочным образом вернёт меня в беззаботное детство, где все решают взрослые. Правильно решают…
– Спит? – я подняла голову и потёрла глаза.
Пусть думает, что я сонная, а не зареванная. Но я плакала – не сдержалась. Какая же после этого я сильная женщина?
– Лиза, пошли…
Да, за этим он и пришел: чтобы забрать меня от дочки, которая умоляла не оставлять ее одну. Так и думала, что добавит – снова одну, две ночи подряд. Нет, Любаша слишком мала, чтобы играть словами, но взгляд у нее был красноречивее любой обвинительной речи.
До чая они с Гришей не вылезали из комнаты, и я не поднималась на второй этаж специально. После ужина я с трудом открестилась от купания Любы в детской ванне, в которой обнаружилось такое количество игрушек, точно мне предлагали купать младенца. Я не промолчала, и Гриша немного обиделся. А когда я заикнулась про его неугомонный шоппинг, почти выплюнул мне в лицо, что все эти игрушки принадлежали его дочери – пока дочь еще была его. Я опустила глаза, решив, что самое верное будет просто промолчать. Илону мать увезла от отца, кажется, в три года… Тогда все понятно с игрушками…
Я не закрыла дверь в детскую – я не могла еще назвать эту комнату Любиной – не потому что хотела, чтобы Гриша пошел следом, а потому что боялась, что даже самый тихий щелчок дверью будет ему сейчас самой звонкой пощечиной. Я все думаю о себе, а мне бы подумать об отце, которого лишили любимой дочери. Пусть девочки не похожи внешне, но они обе девочки и маленькие – не верю, что Гриша, хотя бы на пару секунд, не представляет на месте Любы свою Илону. Никогда не поверю… Но должна поверить в то, что он желает моей дочери самого лучшего. Ну, не скажу же я ему прямо – что, раздевшись перед ним сама, все еще не могу раздеть перед ним Любу: он ей не папа, пока еще не папа…
В окружении игрушек Любаша немного оживилась и вместо того, чтобы после умывания залезть в постель, принялась ползать в пижаме по ковру и показывать мне игрушки.
– Люба, уже поздно. Посмотри, как жалобно и сонно глядит на нас Лева… Иди к нему. Он без тебя не уснет…
А без меня не уснет Гриша. Если он не превратился в ГАВа, у которого еще придется просить прощения. Но я попрошу – я была не права. Нам всем троим тяжело, больно и страшно начинать жить вместе. А мы начали? Или это все еще новогодний сон? Сколько не были б волшебны такие сны, наступает момент пробуждения в реальность.
– Спи, – я поцеловала прохладный дочкин лобик.
Усни, моя радость. Пожалуйста, усни. Мне очень нужно пойти к волшебнику, которого ты сама решила назвать папой.
– Мама, не уходи…
И теперь, глядя на прижавшегося к игрушке ребенка, я нарушаю данное ей слово и ухожу…
– Она никогда не спала в комнате одна, – говорю Грише уже в коридоре.
– Я тоже, – почти не разжал он губ. – Но быстро привык. К плохому тоже привыкаешь. Но ведь для Любы это хорошо – своя собственная территория. Разве нет?
– Ей страшно…
– А тебе?
Я молчала, но не опускала головы, будто Гриша держал меня за подбородок. Но нет, его руки спрятались в карманы, оттопырили их, делая хозяина похожим на индюка. Обиженного. Все еще обиженного. А он столько всего сделал для нас с Любой – по стрелке секундомера горы свернул. Молчи, глупый внутренний голос! Тут не в наличии денег дело, а в желании потратить их именно на нас. Потратить с умом и любовью. С любовью… Но как это возможно? Так быстро полюбить. Любовь с первого взгляда – удел неопытных сердец, а наши покрылись коркой. Ударишь по ней, а внутри – пустота.
– Хочешь выпить?
Вот так… Думает, по трезвому я не вынесу всего этого.
– Не хочу, – отвечаю почти что одними губами.
– Хочешь, – шепчет он в ответ и наконец отпускает подкладку кармана и берет меня за руку.
На нем домашние штаны и футболка – успел переодеться. Таким я его еще не видела. Ну вот, увидела – и что? Он не сделался ни на йоту проще и домашнее: он остался все той же сладкой загадкой, пусть и в мятых штанах. А я все в той же юбке. Или почти уже без нее – слишком задралась во время моего коверного забытья и я слишком спешила выйти к Грише, чтобы ее одергивать. И сейчас он держит мои сжатые пальцы почти что на уровне моих дрожащих голых коленок. Ну почему у меня лестница уходит из-под ног рядом с ним? Да потому что он лишает меня опоры, прижимает к груди и спускается в гостиную медленно, как победитель – а я покорной пленницей прижимаюсь носом к его плечу, пытаясь понять, каким порошком постирана футболка… Потрясающий аромат свежести и весны… в середине зимы.
Отстраняюсь от него лишь тогда, когда его рука задерживается на том кусочке материи, который уже бесполезно одергивать. Под босыми ногами мягкие ворсинки ковра. На столике – две пузатеньких коньячных рюмки – неужели действительно коньяк? Неромантично как-то пить коньяк при свечах – вернее одной, в стеклянной банке – это ее ароматом пропахло все вокруг, даже Гриша.
– Я не хочу пить ничего крепкого.
– Это рябина на коньяке, никакой крепости. Зато вкусно.
Гриша поднял оба бокала и коснулся стеклом моего носа – чуть вздернутого, чтобы он хоть в мечтах оказался выше задранного Гришей.
– А аромат-то какой… – продолжает шептать мой змей-искуситель, трогая губами противоположную стенку рюмки, и наши носы почти встречаются над коньячным морем. – Твой аромат, – он сузил глаза почти до кошачьих. – Я могу не пить, а ты пей… Чтобы не думать о всяких глупостях…
Его шепот напрягал. А еще больше – дрожь, охватившая все тело, от макушки до поджатых пальцев босых ног.
– Я думаю о Любе, – выдала я жестко, безжалостно разрушая волшебство момента.
Но Гриша поймал осколки волшебного шара и вернул нас в него одной фразой:
– Сказал же про глупости. Люба спит в обнимку со львом и видит прекрасные сны… Предлагаю тебе сделать то же самое… Твой Лев даже побрился…
И вжал рюмку прямо мне в губы, но я вывернулась, и Гриша с шумом опустил оба бокала на стеклянный столик, а потом источником шума сделал меня: я едва не вскрикнула, когда Гриша оторвал мои ноги от ковра.
– И все равно у тебя будет кружиться голова!
Один, второй, третий круг я еще считала, а потом бросила… И Гриша бросил меня на диван – наверное, промахнулся ковром: на полу для двоих больше места…
– Гриша… Не надо… Не здесь… Не так…
Я как могла уворачивалась от его губ и рук, но все равно лишилась всех нижних элементов одежды – к счастью, через ноги, и юбка не превратилась в шарфик, хотя могла…
– Гриша, ребенок…
И сам Гриша – ребенок, большой. Как и его ухо – я держала мочку между пальцев и оттягивала, оттягивала в сторону в надежде, что он наконец меня услышит. Но он слышал не слова, а междометия, которые против воли вылетали из моей груди ответом на прикосновения его горячих рук к моему раскаленному телу.
– Да выпей ты уже для спокойствия…
Гриша даже потянулся к столику, но я удержала его руку у своей груди, на которой все еще болтался расстегнутый лифчик, на сей раз с вкраплениями кружев.
– Лиза, она спит, а я не усну… Я диким зверем бродил внизу в надежде, что ты вот-вот спустишься…
Мои руки оставались поверх его футболки, и я даже впечатала пальцами ткань ему в плечи, будто желала, чтобы она срослась с кожей и та своим жаром не опалила мою.
– Гриша, Люба чутко спит…
– Здесь два этажа…
– Здесь эхо…
– А ты не кричи, я не глухой…
– Здесь светло…
Он дунул на свечи – они оказались единственным источником света. Но я видела Гришу и в темноте: глаза горят автомобильными фарами, дальним светом…
– Гриша…
Я вывернулась и ткнулась губами ему в плечо. Или даже зубами, но, к счастью, не прикусила футболку.
– Лиза, ты не хочешь? – голос был хриплый и тихий. Да и зачем орать, когда он трогает губами мое ухо. – Так и скажи прямо…
– Не здесь… – только и сумела произнести я, пока мои губы еще оставались на свободе.
Наверное, у Гриши не было ответа, и он поцелуями пытался изменить мое «не-здесь» на «здесь», но лифчик и кофта как играли роль ожерелья и шарфика, так и продолжали болтаться у меня на шее, которую под ласками я вытянула уже в лебединую.
– Лиза, нам пару дней придется спать с тобой валетом. На даче родителей это точно будет «не здесь»… Не мучай меня, пожалуйста… Раздразнила вчера и все?
– Сегодня… Это было сегодня, – еле выдохнула я, когда Гриша скользнул пальцами по моей груди, собирая в один кулак всю ненужную ткань.
– Вечность назад… Лиза, я так тебя ждал… Три месяца… И что, три поцелуя принцессы и все?
– Имей совесть… – то ли урчала, то ли стонала, то ли мяукала я, уткнувшись носом в его растрепанную шевелюру.
– Нет у меня совести, нет… – он приподнял голову и коварно улыбнулся: он убрал с моей груди только губы, но не пальцы. – Ну что, здесь или не здесь?
– Здесь… – почти что одними губами выдохнула я, почувствовав его руку ниже живота. – Холодно, – добавила уже, наверное, одним лишь взглядом.
И Гриша откуда-то вытянул плед и укрыл меня им с головой – и себя, оставляя свободу лишь рукам, чтобы наконец избавиться от жмущей ему одежды. Я ловила его губы, его пальцы, его волосы – и лишь иногда промахивалась и чувствовала на языке ворсинки пледа. Какое-то сумасшествие, а, кажется, взрослые люди…
– Тише, тише, тише…
Гриша закрыл мне рот ладонью, не губами – лицо его было наруже, но в той же темноте, что и под пледом.
– Успели…
Он дышал тяжело. Я уже и не дышала вовсе, и не слышала, и не понимала… Ничего…
– Надень мою футболку, она длинная…
Что происходит?
– Да живее ты! Она, кажется, все же ищет тебя в спальне… Дуй на лестницу!
В голове прояснилось, точно мне дали подзатыльник. Я натягивала футболку на бегу и, наверное, на левую сторону… И не одергивала.
– Мама… Мама…
Я перехватила Любашу почти у самой лестницы. Схватила ее на руки.
– Мама…
Она была в полусне и в полной обиде. Я знаю, что она хотела сказать: мама, почему ты ушла… Почему? Да потому что… Меня рвали на части слезы куда сильнее, чем минуту назад совсем другие эмоции.
На лестнице раздались легкие шаги Гриши.
– Неси ее к нам в спальню!
Так и сказал – к нам. Но как я могла вообще сейчас вслушиваться во взрослые слова, когда у меня на плече почти что рыдал ребенок?
– Лиза, она спит… Ну чего ты стоишь? Клади в кровать. Там место и на льва хватит. Игрушечного…
Гриша почти протаранил меня к открытой двери спальни. Он точно ее никогда не закрывает.
Я опустила действительно спящую Любу на подушку, Гришину, и легла рядом, в Гришиной футболке.
– Я пойду приберусь внизу и вернусь. Не засыпай без меня, пожалуйста.
Я лежала и машинально гладила ребенка по волосам. Люба пахла печеньем – как когда-то давно, когда еще сосала мою грудь. Пять минут назад ее целовал мужчина, демон-искуситель, на которого я променяла маленького белокурого ангелочка. Как же так? Как мне разорваться между ними…
– Эй, мать, выпей уже наконец. Спать будешь лучше.
Я с трудом оторвалась от ребенка и перекатилась на соседнюю подушку. Гриша заставил меня сесть. В его руках – два бокала. В глазах – никакого сожаления о содеянном.
– Ну, за хороший сон Любы!
Я не пригубила, он – тоже.
– Мы ее разбудили, – выдохнула я зло.
– Она сама проснулась на новом месте. Это простое совпадение. Я держал твой рот закрытым.
А сейчас он приставил к моим губам прохладное стекло. Приложил бы ко лбу – рюмка бы точно лопнула от накала.
– Лиз, ну что ты завелась? У всех родителей случаются проколы… Главное, все целы… Особенно я. А думал – лопну. Твоими стараниями. Какого черта коленками сверкала…
Я все еще дышала в рюмку – стекло полностью запотело: рябиновая сейчас закипит, как и я.
– Ты сам меня одел, а потом раздел. Колготки, кстати, были целыми…
– О, боже…
Он чуть откинулся назад… насколько позволяла спина негимнаста – Гриша стоял подле кровати на коленях.
– Хочешь, я их достану?
– Не хочу, – то ли со смехом, то ли с плачем выдала я.
– Тогда не ной из-за колготок. Вот пей и давай спать. Мне нужно много-много сил для встречи с господином Вербовым.
Да, господин Вербов – для жизни с вами мне и бочки рябиновой не хватит!
Но кровати на троих нам хватило. Мы с Гришей спали на второй половине. Или даже на половине половины: нашим переплетенным телам хватило бы и односпальной кровати, или вообще раскладушки. Или гамака – меня и так уже укачало на волнах настойки и настойчивой нежности моего личного господина Вербова.
Глава 6.4 «У взрослых мужчин и у маленьких девочек вопросы одинаковы»
Я лечила мандраж перед знакомством с Гришиной семьей готовкой.
– Зачем ты завела все это?
Всем этим были всего лишь сырники.
– Спасаю творог и яйца…
Зачем только я сказала про второй ингредиент рецепта! Гриша стоял далеко от плиты, но близко от меня. Слишком… Слишком усердно касаясь коленом моего бедра – точно оно у него чесалось.
– Ну, яйца ты спасать умеешь…
И говорил он явно не о куриных. Огреть бы лопаткой – так умник выбрал момент, когда у меня руки были свободны, потому что захотел заполучить эти руки себе на шею.
– На нас ребенок смотрит, – прорычала я ему в ухо.
– Она смотрит в телевизор, – коснулся он губами моего. – И вообще ребенок должен видеть правильные отношения в семье, чтобы выстроить свои, когда вырастет. Только честно, что дурного ты находишь в утреннем поцелуе?
– В десятом по счету?
– А ты их считаешь?
Я не нашлась с ответом, а он нашел мои губы.
– Сырники сгорят…
С превеликим трудом я сумела коснуться языком нёба и зубов, не столкнувшись на пути с его языком.
Гриша не разорвал поцелуя, просто схватил сковороду с огня и держал ее на вытянутой руке.
– Гриша, ты чокнутый!
Я чудом сумела оттолкнуть его в грудь, а он, как ни в чем не бывало, схватил из шкафчика блюдо и высыпал на него сырники вместе с маслом.
– Ну кто так делает?!
– Тот, кого пытаются накормить не тем завтраком! – Гриша поставил сковородку на соседнюю конфорку. – Мне нужен допинг. Понимаешь? Иначе я сдохну, не добежав до дачи.
– А ты должен туда ехать?
Несмотря на дурацкие шутки, с самого утра он действительно выглядел слишком серьезным. Меня затрясло ещё сильнее. Если бы только можно было остаться тут, в окружении роботов, а не ехать туда, где живые люди со своими суждениями и непоколебимыми мнениями о том, кто пара их сыну, а кто – нет.
– Ну… Да… – протянул он тихо, будто терялся с ответом. – Братья ждут подарки и вообще… Я обещал Любе квадроцикл. А Ленке я обещал показать бабу, на которую променял ее заботу. Поверь, ей там сейчас хуже, чем нам с тобой. Она гоняет засранцев по всему дому, чтобы они убрали за собой свинарник. А они, понятное дело, свинячат еще больше… Мальчики… Что с нас возьмешь? Орать бесполезно, а она орет. Баба, что с вас взять…
Он снова надвигался, а я – отступала к шкафчику.
– Достань новую тарелку. Я уберу масло. И выключи газ.
– Ну вот, орешь… Говорю ж, что вы с Ленкой поладите. Она хорошая. А папашу игнорируй. Он плохой – по закону жанра. Хорошим всегда достаются плохие.
– Ты разве плохой? – увернулась я от поцелуя, и Гриша попал губами в щеку.
Нет, ну сейчас ты точно пло… плохо воспитан! Нельзя подкатывать к женщине, готовящей завтрак, с грязными намерениями!
– А с чего ты решила, что ты хорошая?
Я замерла на секунду, а он растянул паузу секунд на тридцать.
– Я не хочу сырников, я хочу твои губы, а ты мне их не даешь…
Его руки с плеч поднялись к шее и тронули подбородок.
– Гриша, ты можешь хотя бы говорить потише?
Раз отговаривать от поцелуев его бесполезно, то хоть звук выключу.
– Я могу сделать телевизор погромче, – прошептал он мне в губы. – Но Люба и так не обернётся: фиксики куда интересней нас с тобой, поверь мне… Я смотрел их с братьями.
Он не просто поцеловал, он втянул мои губы с такой силой, будто пытался увеличить в объеме.
– Гриш, да что с тобой?!
Я держала его плечи на расстоянии вытянутой руки.
– Нервы… – он улыбался. – И я действительно хочу тебя целовать. Что в этом плохого?
– Сырники остынут…
– О, боже… – он театрально отвернулся. – Как вы с Еленой Владимировной похожи! Нам все еще хочется копаться в говне, а ей уже надо руки мыть и марш за стол. Не смог я ей объяснить, что мальчишкам лучше во дворе. Как меня растили? Утром стакан молока и ломоть хлеба в зубы. Днем что сумеешь, в саду найдешь. И вечером – жри, что хочешь. Но хочется просто упасть мордой в подушку и дрыхнуть, – улыбка у Гриши закончилась, на лицо снова наделась трагическая маска. – Я скучаю по тому времени. Не думал, не гадал, что буду сидеть в офисе в строгом деловом костюме и слушать бредни женщины, которую желаешь заткнуть поцелуем… Причем, слушать с каменным лицом.
– У тебя это очень хорошо получалось.
– Ещё бы! Я так старался… Не заржать…
А сейчас расхохотался, да так заразительно, что я сколько ни пыталась надуться, только улыбалась.
– Гриша, ты меня сейчас обидеть хочешь? – выговорила я с трудом сквозь щиплющий язык смех.
– Нет, поцеловать… – растягивал паршивец слова и мотал головой, как болванчик. Нет, как болван. Большой! – Поцеловать… Буду обижать тебя, пока ты меня не заткнешь поцелуем сама. Ну, сколько можно напрашиваться на поцелуй? Точно я тебе посторонний…
Господи, Вербов или Мороз, какая разница, как тебя там зовут – кто же ты, если не посторонний! И я посторонняя, а ты тащишь меня на дачу к своей семье. К семье, с которой ты не в ладах. Так нечестно…
Я отвернулась, не одарив его поцелуем, и перед моим носом возникло чистое блюдо – все же ГАВ услышал мою просьбу и исполнил. Потом отправился заваривать чай. Все так же без поцелуя. Я плохая? Ну и пусть. Он тоже нехороший. Может, у них в семье и принято целоваться в засос на людях, но это не мой вариант. И уж точно не при пятилетней дочери.
Завтрак прошёл в натянутом молчании. В королевской тишине, нарушаемой только «пожалуйста» и «спасибо». Гриша дулся – как маленький, но не серьезно. С его стороны это была какая-то странная игра: может, он видел мое напряжение и так по-дурацки пытался его снять?
Главное, что он ничего не снял с меня, хотя долгую минуту глядел на меня оценивающе. Господи, Вербов! Джинсы остаются джинсами, неважно, сколько за них отстегнули. И кофта застегнута на все пуговицы. Ее стоимость тебе не оценить: она ручной работы, связана бабушкой Таней. Она грела, несмотря на холод моих отношений с сыном покойной свекрови.
– Гриша, в чем дело?
Одежда не подходит? Не тяни, говори прямо! Надену на дачу купленный тобой деловой костюм! Для спокойствия твоей душеньки…
– Просто не могу заставить себя на тебя не смотреть, – сказал он тихо и виновато улыбнулся. – Ущипни меня, чтобы я в очередной раз убедился, что это не сон.
Я подошла, протянула руку, а он только этого и ждал: схватил, притянул к себе и впился в губы. Вот ведь хитрая зараза!
– Гриша!
Я отстранилась и отвела взгляд, который тут же упал на Любу, стоящую в коридоре почти полностью одетой. Она улыбалась. Чему, скажите на милость?
– Люба, – заговорил Гриша.
Я подняла руку – сейчас ведь ляпнет что-нибудь эдакое. И так уже его не на шутку несёт не в ту степь с разговорчиками при ребёнке. Сейчас как выдаст объяснение взаимоотношений мужчины и женщины – пятилетнему ребёнку!
– Я просто люблю твою маму, а когда любишь, постоянно хочется целовать.
Он присел на корточки. Вовремя – иначе бы моя упавшая рука снесла его дурную голову, как стрела строительного крана. Что он сказал? Только что…
– Не кукся, я тебя тоже люблю, – Гриша схватил Любу за нос и прижал, как резиновую игрушку, но она не пискнула. – Но маму больше, потому что она сама больше, верно?
Теперь они оба смотрели на меня: снизу вверх, а я и снизу и сверху покрывалась испариной. Что он только что сказал? Ребёнку? Про меня…
– Давай спросим у мамы, – продолжал Гриша будто издалека. В голове у меня шумело синее море его глаз. – Любит она меня или нет?
И снова две пары синих глаз смотрели на меня, но я молчала, проглотив распухший язык. Да и вопрос ещё не был задан. Он ведь просто предложил спросить у мамы…
– Мама, ты любишь Гришу?
Вот Люба и спросила, но я все равно не ответила. Или не отвечала слишком долго. Долго для Гриши, продолжающего сидеть у моих ног.
– Ну, любишь? – Да, он выдержал паузу очень по-дьявольски, с улыбочкой, и добавил: – Гришу?
Будто я не поняла, о ком идёт речь. Хотя как такое поймёшь? О чем он?
И Люба повторила их общий вопрос по-детски медленно, почти по слогам – как и надо для неразумной мамаши:
– Мама, ты любишь Гришу?
Они прижали меня к стене в прямом смысле. Я чувствовала спиной зеркальные створки стенного шкафа. К счастью, на спине нет глаз, и я не увижу то, что видят эти двое: моего лица.
Если Гриша сейчас не шутит, то это в сто крат обиднее – услышать признание в любви вот так, в прихожей, при ребёнке: будто он спрашивал, довольна ли я январской погодой? Нет, не довольна. Зимой должен идти снег. Настоящий. Пушистый. И подобные вопросы задают при свечах или хотя бы под пледом, но там он спрашивал лишь одно: хорошо ли мне?
Ночью мне было хорошо, а сейчас стало плохо – с неворочающимся во рту языком.
– Гриша, я…
Ну же, скажи это… Мысль изречённая может и ложь, а вот признание – оно как сказочное заклинание… из трёх слов: я – тебя – люблю. Произнесённых быстро, почти скороговоркой, пока вместе с испариной из меня не улетучилась последняя смелость.
– Ну вот… – выдохнул Гриша, точно говорил заклинание вместе со мной, и поднялся, став почти на голову меня выше: – Теперь жених может на законных основаниях поцеловать невесту. Да, Люба?
Он снова смотрел на мою дочь. Наверное, Любина мать так пылала, что он боялся сжечь глаза.
– А мама – невеста?
Господи, Люба… Уймись хотя бы ты!
– Ну не жена ж… – засмеялся в ответ Гриша, и у меня сжалось сердце и перехватило дыхание. – У неё пока нет белого платья. Только белый пуховик.
Он снова поднял глаза и руку… Но не обнял, а отодвинул меня от шкафа. И я, как заржавевший робот, со скрипом всунула руки в рукава пуховика, который Гриша распахнул для меня.
– А будет?
– Что? – не понял детского вопроса взрослый болван.
– Платье. Белое. Ты купишь?
Люба, откуда этот глагол – купишь?
– Куплю. Конечно, куплю…
Откуда? От верблюда по имени ГАВ. Купит… Он все купит… Наплевав по ходу пьесы на все приличия…
– Готовы?
У него все было готово. Все было в машине. Кроме нас.
Мы шагнули на лестницу. Он захлопнул дверь и хлопнул меня. По плечу. Или просто опустил на него руку. Слишком тяжёлую – или это я слишком ослабла под его чрезмерным напором по всем фронтам.
– Должок вернёшь? – что за вопрос к качающейся даме…
И он вернул губы мне на щеку. Только щеку.
– Все сказанное мною можешь использовать против меня… – его губы скользнули мне на ухо. – Я действительно тебя люблю. И надеюсь на твою ответную любовь не только на физическом уровне…
Так и будем стоять подле закрытой двери квартиры, в которой Люба только что решила мою судьбу?
– Гриша… Ты спешишь.
– Лиза, я опоздал…
Он говорил тихо, чтобы ребенок не слышал. А ребенок болтался на лестнице, что-то там напевая себе под нос – второй этаж, падать некуда. А мне есть куда – и это, увы, обморок, а не мужские объятия.
– Или поспешил… жениться. Я же не знал, что где-то живешь ты и мы когда-нибудь встретимся.
Я перебила его. Точно перебила, пусть и шепотом:
– Ты любил жену. Зачем ты это сейчас отрицаешь?
– Ничего я не отрицаю, – он прижался к моему лбу своим. – И до сих пор люблю Ульяну… Как друга. Понимаешь, я женился на подруге, но так и не стал для нее чем-то большим. Как и она – для меня. Не знал, что может быть что-то другое с женщиной… С другой женщиной… Лиза, я не хочу об этом… Не сейчас, не сегодня. Просто верь в мои слова, как в них верю я. Пожалуйста… Ты мне нужна, очень нужна… В постели, на кухне, в офисе, черт возьми… Заявление она напишет! По собственному желанию…
Он отстранился и поднял руку – я дернулась, непроизвольно, решив, что Гриша схватит меня за нос, как недавно Любу. Но он только провел пальцами по моей горящей щеке.
– Мы напишем заявление. Но другое. Вместе. Я даже Паркер для этого куплю. На сдачу с платья, идет?
Я вжалась щекой ему в ладонь, а собиралась ведь отстраниться и отчитать.
– Мы знакомы неделю… – голос дрожал.
– Три месяца. И не смей говорить моим про неделю, – усмехнулся Гриша. – Ты что, замуж не хочешь? Или тебе фамилия Мороз не нравится?
– Ты не Мороз, – только и сумела пролепетать я.
А он продолжал ухмыляться.
– Пока Вербов. Но это довольно легко поменять. В той семье останется довольно Вербовых мужского пола. Чего тебя не устраивает? Знаешь же по собственному опыту, что и замуж выйти, и развестись довольно легко… Было бы желание. У тебя оно есть?
– Люба ждет… – воспользовалась я своей единственной оставленной мне Вербовым защитой.
Я следила за ее плясками у перил. Он тоже весь разговор косил туда глаза, а сейчас на секунду взглянул в мои – прямо, больно, заставив меня зажмуриться.
– Гриша, не сейчас…
– Конечно, не сейчас. Сейчас зима. Еще и без снега. Июнь тебя устроит? Или лучше июль?
– Гриша…
– Елизавета Аркадьевна, вы еще какое-нибудь слово, кроме «Гриша», знаете?
Я распахнула глаза – широко. Ну, насколько позволял мой миндалевидный разрез глаз.
– Да. Поехали!
– Перевожу с женского языка: я подумаю, да?
Я на мгновение прижалась к нему – тело давало лучший ответ, но Гриша уже протягивал руку Любе: и ребенок не брал никаких минут на раздумье. Она смело сжала пальцы папы Гриши, не думая о том, что знает его меньшее количество дней, чем умеет считать.








