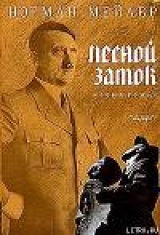
Текст книги "ЛЕСНОЙ ЗАМОК"
Автор книги: Норман Мейлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
В одном только Браунау, к примеру, он переезжал с одного постоялого двора на другой двенадцать раз. И его не больно-то волновало, что женщины, достававшиеся ему, были, увы, не того сорта, чтобы прогуливаться под ручку с офицерами императорской кавалерии. Вот уж нет! Элегантные дамы, решил он, крепости не то чтобы неприступные, но требующие планомерной и правильной осады, тогда как горничные и кухарки благодарны ему хотя бы за то, что он обратил на них внимание, и потому не поднимают шума, когда ему приходит время ретироваться.
В 1873 году он женился, причем на вдове. Изменившийся социальный статус и открывшиеся благодаря этому новые возможности требовали избрать себе в спутницы жизни если и не аристократку, то, самое меньшее, даму, и Алоис был отнюдь не разочарован собственным выбором. Конечно, ему было тридцать шесть, а вдове уже стукнуло пятьдесят, зато он испытывал к ней уважение. Вдова происходила из богатой семьи. Назвать ее красавицей было трудно, зато она приходилась дочерью высокопоставленному чиновнику императорской табачной монополии, приносящей в казну существенную часть дохода, да и ее собственное приданое кое-чего стоило. Жили молодые в достатке, держали, в частности, служанку. Да и собственное жалованье Алоиса стало уже изрядным: директор лучшей в Браунау гимназии едва ли зарабатывал больше него. По мере того как росло служебное положение Алоиса, изменялся в лучшую сторону и его мундир, прирастая золочеными пуговицами и золотыми нашивками, а его остроконечный шлем теперь украшала элегантная имперская эмблема. Усы он отпустил не хуже, чем какой-нибудь венгр, и при первом взгляде на него в глаза бросались выпяченный подбородок и массивные скулы. На таможне его подчиненные объясняли новичкам, что, обращаясь к нему, надо непременно произносить его полный чиновный титул. Ничего удивительного, что он нагулял жирок. Вскоре после свадьбы – и в основном по требованию жены – он сбрил усы и отпустил бакенбарды. А затем принялся ухаживать за ними с таким усердием, что они производили столь же внушительное впечатление, как какие-нибудь крепостные ворота. Отныне он выглядел не просто высокопоставленным чиновником на службе у императорского дома Габсбургов – он походил на самого Франца-Иосифа! Да ведь он и впрямь превратился в нечто вроде императорского факсимиле: у него было властное лицо вечного труженика на троне.
Жена Анна, урожденная Глассль-Хёрер, утратила для него, однако же, изрядную долю очарования. Произошло это примерно через два года после свадьбы, когда Алоис обнаружил, что и она, подобно ему самому, была сиротой и росла в доме у приемных родителей. Супруга, в свою очередь, начала уважать его куда меньше, с тех пор как Алоис (которому надоело плести ей небылицы о никогда не существовавшем и во всех смыслах апокрифическом господине Шикльгрубере-старшем) признался, что является незаконнорожденным и в его метрике вместо имени отца – прочерк.
Анна Глассль тут же преисполнилась решимости поправить дело. Алоису следовало узаконить свое существование. В конце концов, его матери все же удалось выйти замуж. Так почему бы не предположить, причем как нечто само собой разумеющееся, что Иоганн Георг Гидлер и впрямь был его отцом? Алоис знал, что это крайне маловероятно, но, поскольку Анна Глассль упорствовала, решил смириться. Собственная фамилия ему все равно не нравилось, и Анна Глассль была не так уж не права, настаивая на том, что, при всей успешности, сделанная им карьера была бы еще триумфальней, не обременяй его на каждом шагу столь неблагозвучное и труднопроизносимое имя.
Из Браунау Алоис отправился через Вайтру в Шпиталь, чтобы поглядеть на месте, не сможет ли ему чем-нибудь помочь Иоганн Непомук. Старик, которому уже перевалило за семьдесят, поначалу понял его неправильно. Когда Алоис объявил ему о своем желании переменить фамилию и называться впредь Гидлером, от стыда и страха Иоганна Непомука едва не хватил кондратий. Он решил, что отцом Алоиса теперь официально признают его самого. И уже готов было ринуться в контратаку: сейчас, в столь преклонном возрасте, с двумя замужними дочерьми, не говоря уж о бедняжке Еве, каково было бы ему признать свое отцовство? Но ничего такого он произнести не успел, буквально в самое последнее мгновение сообразив, что Алоис просит всего-навсего засвидетельствовать отцовство Иоганна Георга. И тут же – стариков, подобно юным девицам, с невероятной стремительностью кидает из одной крайности в другую – он страшно разозлился на Алоиса. Родной сын брезгует назвать его, Непомука, своим отцом! И лишь еще мгновение спустя он сообразил, что Георг, который был как-никак женат на Марии Анне, и впрямь является единственно возможным кандидатом в законные отцы.
В фургоне, запряженном двумя старыми клячами, Иоганн Непомук и Алоис, прихватив с собой Ромедера и парочку соседей, согласившихся дать свидетельские показания, отправились сначала в долгую поездку из Шпиталя в Штронес, а затем проехали еще несколько километров до Дёллерсгейма, что в общей сложности заняло четыре часа, да и то лишь потому, что узкий ухабистый проселок, там и сям перегороженный стволами поваленных бурей деревьев, в пригожий октябрьский денек не развезло (а развези его, ехать пришлось бы часов восемь). По прибытии в Дёллерсгейм Иоганн Непомук столкнулся лицом к лицу с тем самым священником, встречаться с которым ему, по старой памяти, меньше всего хотелось бы. Конечно, священник был нынче дряхлым, согбенным старцем, но именно он когда-то попрекал Непомука издевательством над ни в чем не повинным животным.
Оба они сразу же вспомнили об этом, хотя ни тот ни другой не подал виду. Вся компания тут же приступила к делу: Алоис, Непомук, Ромедер, парочка приехавших из Шпиталя и еще парочка прихваченных из Штронеса свидетелей. Поскольку никто из них, кроме Алоиса, не умел писать, каждый расписался одним и тем же знаком – XXX. Свидетели показали, что, будучи лично знакомы с Георгом Гидлером, «неоднократно слышали от него», будто мальчик доводится ему родным сыном. Да и покойная мать Алоиса утверждала то же самое. Все они принесли присягу.
Священник понимал, что всё здесь, мягко говоря, несколько не так. Крестьянам было страшно лжесвидетельствовать, и рука каждого из них, выводя «XXX», заметно дрожала. Одному из свидетелей, Ромедеру, на момент смерти Марии Анны никак не могло быть больше пяти лет. Стала бы она откровенничать с пятилетним малышом? Хуже того, давным-давно лежал в могиле сам Иоганн Георг. Столь сомнительный случай установления отцовства, разумеется, требовал утверждения более высокой инстанцией.
Старый священник сделал то, что привык делать многие годы: он выдал сертификат, едва заметно улыбаясь беззубым ртом. Он знал, что эти люди ему солгали.
Дату он, однако же, ставить не стал. На пожелтевшей странице старой приходской книги он вычеркнул в записи за 1 июня 1837 года слово «незаконнорожденный» и вписал в пустовавшую графу «Отец» имя Иоганна Георга, после чего улыбнулся вновь. Строго говоря, юридическая сила этого документа была более чем сомнительна, вот только не имело это никакого значения. Какая церковная инстанция в Вене захочет оспаривать подобное изменение гражданского статуса? В конце концов, церковь стремилась к тому, чтобы легализовывать вопросы отцовства, на какой бы поздней стадии речь об этом ни заходила. В некоторых частях Австрии число незаконнорожденных уже достигало сорока процентов, то есть сорок младенцев из каждых ста появлялись на свет в отсутствие официально признаваемого отца. И как знать, сколько из этих сорока были зачаты в ходе кровосмесительных соитий? Поэтому старый священник, которому пришлась не по вкусу сомнительная процедура, пусть он и оказался вынужден узаконить ее собственным авторитетом, предпочел не скреплять изменение записи в приходской книге своей подписью. Если впоследствии возникнет скандал, он всегда сможет просто-напросто от всего отречься.
Затем он старательно переписал имена лжесвидетелей, делая особый упор на различия в орфографии, связанные с происхождением из той или иной австрийской провинции (такова была, в частности, одна из причин того, что Гидлер в конце концов превратился в Гитлера).
Теперь, обзаведясь новым именем, Алоис решил задержаться на часок в Шпитале, вместо того чтобы, даже не заворачивая туда, проследовать в том же фургоне на железнодорожную станцию в Вайтре. Строго говоря, пришедшаяся ему по душе смена фамилии с Шикльгрубер на Гидлер тут же отозвалась живительными импульсами в блаженном царстве пониже пупка. Немалый жизненный опыт давным-давно убедил его в том, что подобные импульсы – один из даров, которыми оделила его сама природа. Как хороший кобель, он издалека чуял течную суку.
Уж не Иоганна ли заставила его встрепенуться? Она жила в соседнем доме с отцом, и еще на подъезде Алоис увидел, как она выглядывает из окна. Но нет, только не Иоганна. Женщина в окне выглядела старше жены Алоиса. Навестить ее сразу же расхотелось.
И все же он подошел к порогу. И вновь Кобель, живущий в паху, не обманул его. Потому что рядом с Иоганной, рано расплывшейся и обабившейся, в дверях стояла шестнадцатилетняя девушка. Одного роста с Алоисом, несомненно красивая (причем в его вкусе), скромная, но полностью сформировавшаяся, с пышной копной ослепительно черных волос и небесно-голубыми глазами. Таких глаз он еще не видел, а вот голубизну наблюдал: точно так же сиял под стеклом крупный брильянт, который однажды попался ему на глаза в каком-то музее.
Так что, едва вывернувшись из жарких объятий Иоганны, ухитрившейся многократными лобзаниями обслюнявить ему рот и щеки, Алоис снял шлем и церемонно поклонился девице.
«Это твой дядя Алоис, – сказала дочери Иоганна. – Он замечательный человек. – Она повернулась к Алоису: – Ты стал еще краше. Это, наверное, из-за мундира? – Иоганна приобняла дочь. – А это Клара».
И тут Иоганна расплакалась. Клара была ее седьмым ребенком. Из шести остальных четверо уже умерли, пятая была горбуньей, а единственный сын болел чахоткой.
«Бог наказывает нас за грехи не покладая рук», – сказала она, в ответ на что Клара только кивнула.
Но у Алоиса не было ни малейшего желания говорить о Боге. Проведи в Его обществе хоть немного времени, и твой Кобель, заскулив, бессильно подожмет хвост. Алоис предпочел побаловать себя мыслью о том, что неплохо бы познакомиться с этой племянницей поближе.
Он отправился на прогулку по деревенским окрестностям в обществе Иоганны и Клары. Дошли они и до той части земель Непомука, которые теперь принадлежали мужу Иоганны, и обнаружили его там. Иоганн Пёльцль (что, впрочем, Алоиса не удивило) оказался совершенно не похож на ослепительно голубоглазую Клару. Глаза у него были серые и тусклые, продольные складки бежали по лицу, уныло висел нос. Было совершенно ясно, что он давно уже оставил малейшую надежду на то, что честный и упорный труд поможет ему когда-нибудь разбогатеть. Впрочем, Алоис и посмотрел на него только мельком. Пёльцль постарался сделать вид, будто он очень занят. В поле оставались кое-какие скирды, зерно в которых, правда, уже испортилось настолько, что годилось на корм разве что свиньям, а Пёльцль стоял, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, как будто минута-другая, потраченная на разговор с важным гостем, обернется для него неисчислимыми убытками. Конечно, парадный мундир Алоиса не мог не вызвать у него зависти, которая только усилилась, когда гость, посетовав на хвори, преследующие его супругу, объявил, что хочет взять служанку из добропорядочной и работящей семьи. И не исключено – хотя торопиться тут некуда! – что его выбор может пасть на Клару.
Услышав о сумме, которую дочь сможет ежемесячно посылать домой, Пёльцль оказался не в состоянии возразить. Деньги, поступающие независимо от собранного с полей, лучше любого урожая, а денег-то у него, как всегда, не было. И альтернатива – в очередной раз попросить взаймы у свояка Ромедера или у тестя Непомука – не слишком радовала. Пёльцль уже слышал ругань, которая неизбежно обрушится на него дома, если он сейчас откажется. Иоганна и без того-то стала настолько сварлива, что он частенько (хотя и втайне) подумывал о том, что вместо крови у нее в жилах течет уксус. Да и выслушивать тяжелые вздохи, которыми разразится Ромедер, расставаясь с несколькими кронами, ему не хотелось.
И уж в самую последнюю очередь был он готов принять, к сведению очередное отеческое назидание старого Непомука. Это оскорбило бы его чувство справедливости. Земледелец может быть как угодно опытен и прилежен, но если ему не везет, то уж не везет, так чего ради платить дань собственному невезению дважды, выслушивая советы окружающих, вдобавок к тому, что твоя земля практически ничего не родит? Поэтому он смирился с тем, что Кларе предстоит отправиться в город поработать на дядю Алоиса, но ярость, охватившая его при этом, была особенно всепоглощающей потому, что не могла не оказаться бессильной.
Через неделю после возвращения Алоиса на службу в Браунау Клара отправилась следом с маленьким саквояжем, в котором лежали ее скромные платья и прочие бесхитростные пожитки.
4
Алоис и Анна Глассль занимали трехкомнатный номер на постоялом дворе у Штрайфа – во второй самой приличной гостинице Браунау. На чердачном этаже, где ночевала гостиничная прислуга, нашелся чуланчик и для Клары.
Какое-то время Алоис носился с мыслью о том, что Клара время от времени будет принимать его у себя в чулане, но племянница отнюдь не приветствовала его намерений, по меньшей мере таких. Всем, включая Анну Глассль, было очевидно, что Клара чрезвычайно почитает своего сделавшего столь головокружительную карьеру дядюшку, но никаких поводов для беспокойства его законной жене это не давало, по меньшей мере пока! Девушка оказалась такой набожной, что это представлялось просто невероятным, пока не вспомнишь, что всю свою недолгую жизнь она прожила бок о бок со смертью. Искорки, вспыхивающие в ее небесно-голубых глазах, намекали на присутствие ангелов – угодных Господу и, увы, уже неугодных. При взгляде на ее лицо, такое невинное, можно было усомниться, известно ли ей хоть что-то о существовании падших ангелов, не знай мы того, что бесы, подобно мошкаре, так и вьются у врат жизни, когда те затворяются за очередным мертвецом. Умершие снятся и самым невинным, и эти сны далеко не всегда бывают приятны.
Алоису же наверняка снились другие таинственные порталы: запертые врата, за которыми скрывалась девственность Клары, могли оказаться крышкой ледника. Поэтому он вовсю любезничал с племянницей, однако делал над собой сознательные усилия, чтобы ее не трогать. Жена Алоиса, к тому времени уже отчаявшаяся, как ворона со сломанным крылом, поначалу смирилась с его тягой к горничным и кухаркам, но в ходе предпринятой ею кампании по изничтожению фамилии Шикльгрубер впала в перманентную подозрительность. Никогда еще Алоису не доводилось сталкиваться с ревностью столь страстной, столь всеобъемлющей и вместе с тем столь оправданной. Но он полагал, что сумеет справиться и с этим.
Считая себя человеком, для которого главное – служба (включая безукоризненность внешнего облика и строжайшую пунктуальность, с которой выполняется ничтожнейшее дело), Алоис, разумеется, не зря простоял столько лет на таможенном посту, в корне пресекая малейшие попытки путешественников и коммивояжеров обмануть империю Габсбургов на сумму таможенного сбора или хотя бы на часть этой суммы; научившись распознавать приемы и повадки контрабандистов, он поневоле в существенной мере усвоил их. И теперь ему предстояло применить благоприобретенные навыки лжи и притворства, чтобы отвлечь внимание Анны от девицы, в чуланчик которой на чердачном этаже гостиницы он вознамерился похаживать.
Венцы в старину шутили: для достижения общественного согласия необходимо, чтобы и полицейские, и воры постоянно оттачивали собственное мастерство. Алоис часто размышлял над этой шутливой сентенцией. Применительно к нему с Анной Глассль в ней отсутствовали иронические обертона. Чем феноменальнее обострялось ее чуть ли не ясновидение, тем фантастичнее становились и выдумки, к которым он теперь прибегал.
У нее имелись все поводы для ревности. В иной день он успевал совокупиться со всеми тремя женщинами, с которыми проделывал это на постоянной основе. С утра, полупроснувшись, он ублажал жену; днем, в обеденный перерыв, который удачно совпадал со временем, когда горничные мыли полы, а Анна Глассль устраивала себе послеполуденный отдых, он повадился пристраиваться к стоящей на четвереньках избраннице сзади, так что, строго говоря, плохо помнил ее в лицо. Ну а вечером, когда Анна Глассль удалялась почивать, его ждала Фанни.
Так что выдержка и терпение, проявленные им с Кларой Пёльцль, объяснялись главным образом ночными ходками на сторону, пусть и принципиально другую: сильнее всех остальных, по крайней мере на данный момент, его интересовала девятнадцатилетняя официантка гостиничного ресторана Фанни Матцельбергер, чувственная, гибкая и, по любым меркам, обольстительная. Поначалу он отводил глаза от нее, скользящей от столика к столику, чтобы не выдать своих чувств, но было в самом движении ее бедер нечто зазывное, и это нечто подсказывало ему: Фанни порядочная девушка, которой смертельно надоела собственная порядочность.
И впрямь, как он вскоре выяснил, поднявшись к ней в чуланчик, всё на тот же чердачный этаж, она оказалась девственницей в самом мучительном и многострадальном смысле, заповеданном стародавней деревенской традицией: врата формальной невинности стояли нетронутыми, чего, увы, никак нельзя было сказать о задней калитке. Алоиса подобное приглашение зайти в дом не устраивало. Его Кобель был слишком велик, чтобы как следует освоиться в «сраной сраке» (так или примерно так он изволил выразиться). Отворяя калитку, Фанни немножко покричала (сдавленным голосом, чтобы не перебудить остальных обитательниц чердака), трудно пришлось обоим. Тем безумнее оказалось само соитие. И тот и другая внезапно почувствовали, что любят друг друга, – реакция, не столь уж и редкая в тех случаях, когда приходится контрабандой протаскивать и протискивать мимо таможенного поста товар, беспрепятственный провоз которого освящен физиологией и веками.
Алоис внушал себе, что она всего лишь пригожая дочь крепкого фермера (за ней давали приличное приданое), и все же признался Фанни в том, что любит ее.
– Если любишь, почему не бросишь жену и не начнешь жить со мною?
– Брошу, когда ты меня допустишь по-настоящему.
Нет, она должна оставаться девственницей. Потому что, как только уступит ему, так сразу же залетит. Ей это известно. А потом родит ему ребенка. И еще одного. А потом умрет.
– Как ты можешь знать такие вещи?
– У нас в роду есть цыгане. Может, я сама ведьма!
– Что за чушь!
– Нет, не чушь. Ты паршивый кобель, а я ведьма. Только ведьмы берут себе в рот такую гадость. Мне теперь страшно пойти на исповедь.
– Вот и держись от попов подальше. Они сосут кровь, как упыри. Только доверься им, и они не оставят от тебя и мокрого места.
Вновь и вновь спорили они о том, идти ли ей к исповеди или нет. Ей все больше хотелось уступить ему, полностью поддаться силе его желания, и наконец она так и сделала и всего через месяц объявила о том, что беременна. И не самое ли время теперь, поинтересовалась она, рассказать обо всем его жене?
Он уже не доверял Фанни. Как же она позволила себе залететь, если так боится смерти, думал он. Кроме того, он успел опутать жену паутиной столь хитро сплетенной лжи, что теперь у него просто не хватало духу во всем признаться. Лживые россказни, подобно чистой правде, обладают собственной субъективной реальностью, и эта реальность постепенно вытесняет подлинную. Анне Глассль-Хёрер-Гитлер было сейчас пятьдесят семь, а выглядела она еще на десять лет старше (хотя, к вечному недоумению Алоиса, по-прежнему была на утренней заре ненасытна). Разрыв с ней грозил обернуться существенным ухудшением его финансового положения. Хуже того, ему пришлось бы променять истинную даму на деревенскую девку – пусть и на замечательно красивую деревенскую девку, – но не сам ли он давным-давно решил, что крестьяне – нечто вроде камней? Как высоко ни запусти камень в небо, он все равно грохнется оземь. А вот истинная дама как перышко. Хотя это перышко может защекотать тебя до смерти своей ревностью. Да и отказываться от достигшего невероятных высот искусства обманывать жену было бы не столько грех, сколько просто-напросто жалко.
Вот образчик застольной беседы в ресторане гостиницы «Штрайф».
АННА ГЛАССЛЬ: Вижу, ты на нее снова пялишься.
АЛОИС: Надо же, поймала! Не будь твои глаза такими красивыми, я бы сказал, что у тебя глаз орла.
АННА ГЛАССЛЬ: Почему бы тебе не договориться с ней после того, как мы отужинаем? Оттяни ее по полной программе с моего ведома и согласия!
АЛОИС: Ты такая испорченная! И язычок у тебя такой грязный!
АННА ГЛАССЛЬ: Грязнее, чем раньше.
АЛОИС: Анна, ты исключительно умна, но на сей раз жестоко ошибаешься.
АННА ГЛАССЛЬ: Послушай-ка, дорогой мой. Я смирилась с горничными и кухарками. Сколько раз ты возвращался по ночам и от тебя несло квашеной капустой. Или, хуже того, хозяйственным мылом! Но я говорила себе, что мне это безразлично. Кобель, он и есть кобель. Но почему ты так стараешься оскорбить жену, отказывая мне в малейшей проницательности? Мы оба понимаем, что эта девушка красива. Почему бы тебе для разнообразия хоть раз в жизни не заняться любовью с женщиной, которая не похожа на остывший пирог?
АЛОИС: Что ж, я скажу тебе всю правду. Мне действительно нравится эта девушка, нравится, как она выглядит. Хотя на самом деле она не в моем вкусе. Совсем не в моем. Но в любом случае я к ней и на пушечный выстрел не подойду. О ней говорят такое! Даже не стану пересказывать, потому что тебе она, судя по всему, приглянулась.
АННА ГЛАССЛЬ: Приглянулась? Она потаскушка. Начинающая потаскушка. Абсолютно в твоем вкусе.
АЛОИС: Она больна! Я слышал, что у нее венерическое заболевание. Я к ней и на пушечный выстрел не подойду.
АННА ГЛАССЛЬ: Я тебе не верю. Ты все выдумываешь.
АЛОИС: Как тебе будет угодно. Но, смею заверить, она последняя на земле женщина, из-за которой тебе следовало бы волноваться.
АННА ГЛАССЛЬ: А из-за кого ты мне прикажешь волноваться? Из-за Клары?
АЛОИС: У тебя отличное чувство юмора. Не будь мы в общественном месте, я бы расхохотался в голос. А потом, сама знаешь, чем занялся бы. Ты такая привлекательная и вместе с тем такая испорченная. Ты бы меня еще к монашке какой-нибудь приревновала бы!
5
В конце концов Фанни объявила Анне Глассль о том, что срок у нее – два месяца и скоро этого будет ни от кого не скрыть. Для Анны это означало немедленный, полный и окончательный разрыв с Алоисом. Потому что он солгал ей, будто у девицы венерическое заболевание. Тогда как сам уже тогда знал, что она беременна, причем от него самого, – как же можно такое простить?! Кроме того, Анна Глассль настолько устала от супружеской жизни, что продолжение таковой страшило ее больше, чем неизбежное в противоположном случае одиночество. Чересчур утомительно стало собирать последние силы и прибегать к многолетнему притворству, чтобы разыгрывать на утренней заре ненасытность. Сейчас ей уже ничего не хотелось, кроме покоя. Она даже решила, что ее отчаянная ревность была не более чем попыткой перешибить вкус остывшего и спитого чая, в который, собственно говоря, и превращается это чувство, утратив изначальный жар. Поэтому она просто съехала Поскольку они с мужем были католиками, речи о разводе идти не могло. По австрийским законам даже для того, чтобы получить право на раздельное проживание, Анне предстояло доказать, что она не только разошлась характерами с Алоисом, но и испытывает к нему непреодолимое физическое отвращение. И Алоису пришлось это прочитать. Обидные слова показались ему чирьем, ни с того ни с сего выскочившим на подбородке. Это раздосадовало его так сильно, что он, не удержавшись, показал официальную бумагу собутыльникам: «Гляньте-ка, что она пишет про непреодолимое физическое отвращение. Ничего себе, непреодолимое! Да и про отвращение я мог бы вам немало порассказать, не будь это неприличным. Стоило мне свистнуть, тут же вставала раком!»
Посмеявшись, собутыльники меняли тему разговора. В те дни Алоис пребывал в крайнем раздражении не только из-за отъезда Анны Глассль. Они с Фанни жили теперь в том же трехкомнатном номере у Штрайфа. С этим-то как раз все было в порядке, воспоминания и сопоставления ничуть не тяготили его. Но тут он обнаружил, что Фанни не беременна – просто у нее случилась длительная задержка. Или это был выкидыш на ранней стадии? На сей счет она напускала туману.
Он понял, что она его чудовищно обманула, однако теперь уж ничего не попишешь. Ни с одной женщиной ему еще не было так хорошо. Разумеется, Фанни оказалась точно такою же ревнивицей, как Анна Глассль, и в самом скором времени наловчилась улавливать в его голосе, когда он обращался к другим женщинам, малейшие нотки желания. А немного спустя пробила здоровенную дыру в днище практически непотопляемого корабля, на котором Алоис собирался на всех парах приплыть в лучезарное будущее. Клара, объявила ему Фанни, должна отправиться на все четыре стороны. Иначе на все четыре стороны отправится сама Фанни.
Этого он, понятно, допустить не мог. Фанни в ближайшем будущем предстояло забеременеть уже по-настоящему; по меньшей мере, так предполагал он сам, ориентируясь на некие блаженные содрогания ее лона в мгновения наивысшего восторга, причем на содрогания обоюдные; такого рода соображения раньше не приходили ему в голову ни во время соития, ни после него. (За исключением одного-единственного раза, давным-давно, с Иоганной.) Кроме того, он чувствовал себя созревшим для того, чтобы стать отцом, желательно мальчика, которому предстояло бы в дальнейшем носить его фамилию. Да, конечно же, не в объятиях Фанни, но до или после них, он частенько подумывал о том, как она окажется на седьмом или на восьмом месяце беременности и тут-то придет черед Клары. Возможность связанных с этим уже в обозримом будущем легко предсказуемых осложнений (причем того же сорта, как те, через которые ему пришлось только что пройти) его не пугала. У себя на службе он привык разбираться с несколькими проблемами одновременно.
Что же до возможного скандала, тот его не тревожил. Да и не было оснований для тревоги. В Браунау он и без того был мишенью сплетен. Горожане осуждали его за сожительство с гражданской женой, но ни на каких верхах, кроме разве что Небес, их жалоб не принимали. Он чувствовал себя в этом городе кем-то вроде гарнизонного офицера. Деньги ему выплачивало располагавшееся в Вене Министерство финансов. И пока его служение отечеству оставалось безупречным, далекая рука Габсбургов не лезла и лезть не собиралась в его личную жизнь.
Заняв высокую должность в среднем эшелоне госслужбы, он понимал, что в верхний эшелон ему не перескочить. Зато его нынешнему положению ровным счетом ничего не угрожало. Таможне он был нужен. В конце концов, уходят долгие годы на то, чтобы набраться практического опыта, которым он располагал уже сейчас. С другой стороны, и ему самому была нужна таможня. Где бы мог он отыскать другую столь же хорошо оплачиваемую службу? Он превратился в безупречный инструмент для решения поставленных перед ним задач, но при решении любой другой задачи этот инструмент использовать было невозможно. Он был прикован к службе точно так же, как само таможенное ведомство было приковано к нему. Так что жителей Браунау можно было послать ко всем чертям. Конечно, их пересуды неприятны и небеспочвенны, однако интересного в его положении куда больше. Одна девица выносит ему сына, а другая, его племянница Клара (принимающаяся дрожать, стоит ему к ней обратиться), станет его любовницей. Разумеется, к тому времени, когда это ему понадобится, она вполне созреет. С чего бы иначе ей так дрожать прямо сейчас? Дрожит она потому, что знает: дядюшка научит ее всему, что ей хочется, и всему, чего она даже не смеет себе представить.
В эти-то тайные планы и вторглась Фанни. Клара у них работать больше не будет!
– Ты с ума сошла, – возразил было Алоис. – Неужели ты не видишь, какая она? Отправь Клару в монастырь – и она этому только обрадуется.
– Тебя заботят не ее радости, а твои. Увольняй!
– Не разговаривай со мной в таком тоне! Ты годишься мне в дочери.
– Гожусь… Знаешь польскую поговорку: отцу не стоит спать с собственной дочерью, иначе она потеряет к нему малейшее уважение.
Клару пришлось уволить. Не мог же он потерять такое чудо, как Фанни, – и потерять в обмен на зыбкое обещание Клары (если уж называть вещи своими именами) превратиться из ангелоподобной монашки в одержимую безумной страстью к дяде племянницу. Нет, столь ненадежные гарантии его не устраивали.
6
Больше всех в результате отъезда Клары пострадала сама Фанни. Потому что девицы успели проникнуться друг к дружке доверием. Как-никак им обеим предстояло научиться еще многому (причем одному и тому же!), и при всей своей несхожести они старались держаться заодно. Все испортила Клара своим патологическим неумением врать. Каждый раз, когда Фанни прохаживалась насчет того, что они с дядюшкой Алоисом вытворяют в постели, Клара заливалась румянцем. (Клара называла Алоиса Дядюшкой, и Фанни переняла у нее эту привычку.)
– Признавайся, – говорила Фанни. – Ты тоже не прочь оказаться в постели с Дядюшкой.
– Нет, – возражала Клара, и ей казалось, будто щеки просто-напросто сгорят, если она не прекратит врать. – Хотя, пожалуй, иногда мне этого и впрямь хочется. Но, уверяю тебя, я этого никогда не сделаю.
– Почему?
– Потому что с ним ты.
– Да брось ты! Меня бы такое не остановило ни на мгновение.
– Тебя, может, и не остановило бы. А вот меня ожидала бы страшная кара.
– Ты в этом так уверена? -Да.
– Может, и зря, – замечала Фанни. – Я сказала Дядюшке, что умру, если позволю ему сделать мне ребеночка; а сейчас отношусь к этому иначе. Я хочу ребеночка. И непременно заведу его.
– Конечно заведешь. И на меня можешь положиться. Я никогда не сойдусь с дядюшкой Алоисом. Ты его женщина. Я клянусь.
Тут они начинали целоваться, но в аромате этих поцелуев Фанни чудилось нечто настораживающее. Губы у Клары были твердыми, что вроде бы свидетельствовало о цельности натуры, вот только не совсем. Ночью после разговора Фанни приснилось, как Алоис занимается любовью с Кларой.







