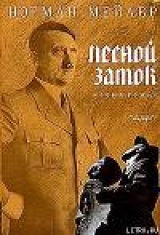
Текст книги "ЛЕСНОЙ ЗАМОК"
Автор книги: Норман Мейлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
– Убеди их не словом, а делом, – внушал я ему постоянно. – Ты пришел в мир для того, чтобы лишить жизни кого-нибудь из самых важных столпов класса угнетателей!
– Да, но кого же?
– В урочный час тебе на этого человека укажут.
Бедная императрица Елизавета. Такая гордая и такая возвышенно-поэтичная, что, отправляясь на прогулку, брала с собой всего нескольких телохранителей. Да и тем запрещалось подходить к ней ближе чем на десять шагов. И препятствовать общению с нею прохожих, которые, конечно же, непременно должны были оказаться безобидными туристами, ищущими августейшего автографа. И вот, когда она стояла в одиночестве на одетом в камень берегу Роны, Лучени преспокойно подошел к ней и заточенным напильником поразил ее прямо в сердце.
Его тут же схватили, на квартире у него произвели обыск, нашли и тщательно изучили его личный дневник. Скоро весь мир был ознакомлен с дневниковой записью: «Как мне хотелось бы убить кого-нибудь, но непременно важную персону, чтобы дело попало в газеты».
Его жертвой вполне мог бы оказаться Филипп, герцог Орлеанский, как раз в эти дни посетивший Женеву, но вместо этого стала прекрасная Сисси, императрица Елизавета. За Сисси, я знал, меня похвалят сильнее. И точно так же как приволок за длинный нос скорого на анафему священника к монастырским воротам, у которых курил маленький Ади, я направил Лучени именно туда, где стояла на набережной Елизавета.
Если читателя раздражает тот факт, что я, репрезентируя себя бесстрастным наблюдателем, способным на непредвзятое описание, вместе с тем без малейшего сожаления повествую о самых неприглядных вещах, то спешу уведомить его о том, что бесовская природа дуалистична. В какой-то мере мы являемся частью цивилизации. И если вы порой забываете о том, что наша главная цель – уничтожить цивилизацию, дабы одержать окончательную победу над Господом, и эта цель оправдывает любые средства (отличное выражение, которое я много позже позаимствовал у одного второстепенного клиента, он был, кажется, кинорежиссером), что ж, дело ваше.
В любом случае, непосредственный эффект от злодеяния оказался воистину выдающимся. Предоставлю, однако же, слово Марку Твену.
7
Этот писатель пребывал тогда в Кальтенлёйтгебене, маленьком австрийском городке в полусотне километров от Вены. Неудачно вложив деньги в новый типографский станок, Марк Твен обанкротился.
Так что ему пришлось покинуть свой дом в Хартфорде, штат Коннектикут, и отправиться в гастрольное турне по Европе; высокие гонорары за публичные лекции позволили ему частично расплатиться с долгами. На следующий день после убийства Елизаветы он написал одному из друзей в письме из Кальтенлёйтгебе-на: «Об этом убийстве будут говорить, его будут описывать в литературе и запечатлевать на полотнах и тысячу лет спустя».
Не могу передать словами восторг, охвативший меня, когда я прочитал эти строки. Мой собственный взгляд на масштаб события нашел подтверждение под пером выдающегося прозаика. На самого
Твена эта трагедия произвела такое сильное впечатление, что он вскоре разразился блистательным эссе в своей неподражаемой и вместе с тем безошибочно узнаваемой манере. Правда, по тысяче причин, слишком запутанных для того, чтобы поддаваться каталогизации или хотя бы перечислению, он предпочел не публиковать эссе. Я, однако же, при помощи одного из клиентов приобрел этот текст в собственное распоряжение.
Чем больше думаешь об этом убийстве, тем более значительным и тревожным оно представляется… Такое происходит, пожалуй, не чаще чем один раз в две тысячи лет… «Убили императрицу!» Когда эти ужасающие слова достигли моего слуха в австрийском городке – а произошло это в прошлую субботу, примерно через три часа после того, как разразилась сама трагедия, – я понял, что скорбная весть уже успела достигнуть Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Японии, Китая, Мельбурна, Кейптауна, Бомбея, Мадраса, Калькутты и весь земной шар единодушно проклинает злодея и злоумышленника.
… И кто же этот фокусник, поразивший своим выступлением весь мир? Ответ на этот вопрос полон горькой иронии. Человек с самой нижней ступени общественной лестницы, не обладающий ни талантами, ни достоинствами; бездарный, невежественный, аморальный и бесхарактерный юноша, начисто лишенный природного обаяния или каких бы то ни было иных черт, способных вызвать у окружающих уважение и приязнь; обделенный душой и сердцем, не говоря уж об уме, в такой степени, что по сравнению с ним любая расчетливая потаскуха покажется доброй самаритянкой; вольноопределяющийся, дезертировавший из армии; незадачливый резчик по камню; не удержавшийся на работе в самом захудалом заведении официант; одним словом, наглый, пустой, вздорный, грязный, вульгарный, вонючий, ядовитый двуногий хорек. И сарказм, потрясший все человечество, заключается в том, что этой твари с самого дна удалось укусить само Небо и воздвигнутый в небесных чертогах идеал Славы, Величия, Красоты и Святости! Показав тем самым нам всем, что за жалкими тварями – даже не тварями, а тенями – мы являемся. Сбросив пышные одеяния и сойдя с пьедестала, мы превращаемся в то, что мы есть на самом деле, становимся крошечными и бессильными; наши добродетели эфемерны, наша роскошь просто-напросто смехотворна. Даже в свой наивысший и самый светозарный миг мы не светила (на что претендуем и уповаем, в чем убеждаем самих себя), а всего лишь свечи, и первому встречному разгильдяю дано задуть нас.
И теперь мы поняли еще одну вещь, о которой часто забывали или пытались забыть: никто из нас не здоров психически целиком и полностью, а одна из самых распространенных форм безумия заключается в желании обратить на себя внимание, в удовольствии, извлекаемом из того, что тебе удалось обратить на себя внимание… Именно эта жажда внимания и привела к возникновению царств земных, равно как и к тысяче других изобретений и нововведений… Она заставляет королей лезть друг дружке в карман, зариться на чужие короны и владения, истреблять чужих подданных; она вдохновляет кулачных бойцов и поэтов, деревенских старост, больших и малых политиков, крупных и мелких благотворителей и победителей велосипедных гонок; она подзуживает разбойничьих атаманов, искателей приключений на Диком Западе и всевозможных наполеончиков. Все, что угодно, только бы обратить на себя внимание, только бы заставить всю деревню, целую страну или, лучше всего, планету, ликуя, вскричать: «Это он! Глядите сюда! Это он!» И вот, за какие-то жалкие пять минут, не проявив ни таланта, ни трудолюбия, ни изобретательности, этот вонючий итальяшка уделал их всех – уделал и превзошел, потому что имена остальных рано или поздно забудутся, а вот его имя – при дружеском содействии больных на всю голову газетчиков, царедворцев, царей и историков – пребудет в памяти человечества и не отгремит в веках до тех пор, пока люди не разучатся говорить. Ах, если бы это не было так грустно, как это было бы невероятно смешно!
Я не замедлил показать эссе Маэстро. Не помню, когда еще я воспринимал самого себя столь серьезно. Я понял, что наконец-то вошел в историю – если не как историческое лицо, то как его кукловод.
Маэстро обрушился на эссе с уничижительной критикой: «Я, конечно, уважаю великих писателей, но посмотри, как твой Марк Твен преувеличивает масштаб происшедшего. Он просто-напросто истерикует. "Тысяча лет» – это надо же! Бедняжку Сисси забудут лет через двадцать».
Я не осмелился задать вопрос: «А разве это событие не послужило достижению великой цели?», однако моя мысль была Им услышана.
«Послужило, еще как послужило! Но ты, подобно твоему Твену, ослеплен магией имен. Великих людей забывают точно так же, как невеликих. Но я эту спесь из тебя вытрясу. Дело не в звучном имени. Только истинно выдающийся клиент, которого мы создаем буквально или практически с нуля, может повернуть историю в нужном нам направлении. Но для этого нам следует возвести этого клиента как здание – от первого кирпичика до последнего. А убийство Сисси не имеет особой ценности. Оно не приведет к возникновению массовых беспорядков. Ходынка – та все еще служит нам, а что взять с убийства Сисси? Если бы я был гурманом, то, сорвав с дерева столь безупречный персик, с наслаждением съел бы его за минуту-другую. Примерно такое же удовольствие мне доставляет твоя безукоризненная работа с Луиджи Лучени. Но не утрачивай чувства меры. – Маэстро улыбнулся. – И вот еще что, – сказал он. – В последнем абзаце к нашему гению вернулся разум». В упомянутом Маэстро абзаце Марк Твен написал:
В весьма неубедительном перечне возможных мотивов этого страшного убийства упоминается наряду с прочим и Воля Господня. Не думаю, что Господь согласился бы с этой версией. Потому что если на это злодеяние была Воля Господня, то у нас нет ни средств, ни возможностей возложить на злоумышленника, оказывающегося в подобном случае всего лишь проводником Вышней Воли, хотя бы частичную ответственность за содеянное и Женевскому суду придется оправдать его за отсутствием состава преступления.
«Толковый он парень, этот Марк Твен, – заметил Маэстро, – и нашего брата чует за версту. Вышнюю Волю отверг, а вот Низшую разве что не назвал! Но все-таки, слава Тебе, Господи, не назвал!»
В тех редких случаях, когда Ему бывает весело, Маэстро любит от души посмеяться.
8
Как я уже упоминал, до самого покушения мне пришлось пребывать вдали от Ламбаха, а к тому времени, как с императрицей было покончено, семейство Гитлер покинуло не только второй этаж над мельницей, но и сам городок. Переехали в другой, чуть побольше (назывался он Леондинг, и население его насчитывало три тысячи жителей), что поначалу пришлось Кларе по душе, потому что переезд стал результатом хитроумной манипуляции Алоисом, предпринятой, естественно, ею же, что само по себе было для нее еще в диковинку. Долгие годы ушли у нее на то, чтобы догадаться, как можно (хотя не обязательно должно) манипулировать мужем. Богобоязненная, она отнюдь не стремилась прибегнуть к подобной тактике. Пока семья не перебралась на мельницу, Кларе никогда не приходило в голову, что муж может ее к кому-нибудь приревновать.
Клара никогда не считала себя ровней мужу, с самого начала он доминировал в семье на правах хотя бы Дядюшки. Но в последнее время она начала догадываться, что он в ней в некотором роде нуждается. Пусть и не любит ее по большому счету, но все равно нуждается.
Додумавшись до этого, она сообразила далее, что Алоис уже достаточно стар, чтобы начать терзаться ревностью. Не нарушая Господних заповедей, но самую чуточку искривляя их, она сумела вызвать у мужа такую ревность, что это побудило его затеять общесемейный исход из-под опасного крова.
Источником опасности был здоровенный и вечно прокопченный дядька – кузнец Прайзингер. Ади привязался к кузнецу, мог часами следить за его работой и слушать его рассказы. Даже никуда не уходя со своей кухни на втором этаже, Клара слышала их взволнованные голоса, звучание которых курьезным образом сливалось с производимыми ею самой звуками: она сливала, допустим, грязную воду в раковину, и тут же это событие приветствовал доносящийся снизу удар молота о наковальню.
Клара понимала, почему Ади так тянется к кузнецу. Этот человек работал с огнем. Пламя волновало и ее саму, хотя она даже не задумывалась почему. Еще в детстве ей внушили, что Бог живет во всем – и Дьявол, понятно, тоже. Если ни о чем не задумываться, то Дьяволу будет к тебе не подобраться, потому что Бог опекает и оберегает невежд: блаженны нищие духом.
Так что ей вполне хватило самого приблизительного представления о том, как бывает очарован маленький Ади в те минуты, когда кузнец раскаляет кусок металла добела, чтобы сковать его воедино с другим добела раскаленным куском металла. В результате у него получаются весьма сложные сочетания и соединения, которые, в свою очередь, становятся полезными в быту инструментами и орудиями: и оси колес он кует, и сломанные плуги чинит.
Довольно скоро у нее самой нашелся повод заглянуть в кузницу. Пришла в негодность одна из кухонных труб. Кузнец незамедлительно устранил поломку, однако Клара, к собственному изумлению, не спеша убраться восвояси, с Прайзингером еще и побеседовала. После чего получила приглашение заглядывать на чашку чаю, когда ей заблагорассудится.
Еще сильнее изумил ее тот факт, что у этого дюжего детины оказались прекрасные манеры. Он не только выказывал ей знаки величайшего уважения, но и был весьма красноречив (хотя, подобно ей самой, и был полным невеждой). Он не бахвалился, но при взгляде на него создавалось приятное впечатление (как при взгляде на Алоиса в лучшую пору жизни с ним), что перед вами человек исполненный врожденного достоинства и даже значимости. Клара сама дивилась тому, с каким удовольствием внимает его речам, сидя в единственном приличном кресле, рядом с которым, глядя на огонь как загипнотизированный, стоит ее старший сын.
Среди заказчиков Прайзингера были не только окрестные фермеры или случайные путники, которым требовалось подковать лошадь; как он объяснил Кларе, немало здешних купцов прибегало к его услугам. Кроме того, он умел лечить лошадей.
– Я, госпожа Гитлер, ничуть не хуже ветеринара. А может, еще и получше!
– Вы не шутите? – Задав столь нескромный вопрос, Клара зарумянилась от смущения.
– Госпожа Гитлер, видывал я породистых лошадей, подкованных так, что они могли разве что ковылять. А всё по одной причине. Ветеринар разбирается, конечно, в конских хворях, вот только про копыта ему почти ничего не известно.
– Наверное, вы правы. У вас ведь столько опыта!
– Да хоть у юного Адольфа спросите! В иной ярмарочный день мне случается подковать двадцать лошадей, одну за другой. Не останавливаясь.
– Понятно, – сказала Клара. – На дороге ледок – и пропал мой конек.
На что Прайзингер ответил:
– Я вижу, вы знаете, что к чему.
И Клара покраснела пуще прежнего.
– Зимний лед – это главная напасть, – продолжил меж тем Прайзингер. – Слышу такое каждую зиму. Однажды в морозный день мне пришлось подковать двадцать пять лошадей подряд, причем каждый из заказчиков еще меня поторапливал.
– Да, только господин Прайзингер торопиться не захотел, – вступил в разговор Адольф. – Он сказал мне: «Поспешишь – людей насмешишь. Гвоздь вошел как попало – лошадь захромала. А стоит лошади захромать всего один раз, и она уже не будет верить хозяину».
Теперь покраснел уже и маленький Ади. То, что сказал ему кузнец после этого, явно не предназначалось для женского слуха.
«Бывают вечера, – сказал ему тогда Прайзингер, – когда я даже присесть не могу, потому что лошадь расписалась у меня на жопе». «Расписалась на жопе?» – переспросил Ади. «Копытом. Я всегда узнаю лошадь по копыту». – «Вот как?» – «Одну зову Кривой. Другую – Крабьей, потому что копыто у нее как клешня. А какая подпись тебе нравится? У меня на жопе найдется любая». Он расхохотался, однако, заметив, что мальчик пришел в замешательство, поспешил добавить: «Да шучу я, шучу. Но любой хороший кузнец знает, что лягнуть его могут как следует». «Как часто такое случается?» – спросил мальчик. Было очевидно, что он живо представляет себе соответствующую картинку, поэтому Прайзингер предпочел увести его воображение в другую сторону. «Теперь уже редко, – сказал он. – Раз в год или еще реже. В моем ремесле нужно быть умельцем, иначе тебя не надолго хватит».
В разговоре с Кларой Прайзингер с удовольствием поведал о том, что изобрел специальную затычку для дырочек, оставленных прежними гвоздями; он явно гордился тем, что способен решать самые разнообразные проблемы. Пока он разглагольствовал, Клара то и дело поглядывала на следы копыт на голом и грязном полу. Она совершенно определенно поняла, что ей нравится этот мужчина. И уже готова была порадоваться вместе с ним из-за морского якоря, который он как раз сейчас ковал для одного богатого заказчика, – шутка ли сказать, морской якорь! все тут должно быть таким, что не подкопаешься: и лапа, и пятка, и веретено, и канат. Кларе нравилось само звучание этих слов.
– Лапа и пятка, – со вкусом повторила она.
После того как она нанесла в кузницу уже третий визит всего за две недели, Прайзингер настоял на том, что поднимется наверх и заберет у нее все ножи на заточку, а заточив их, отказался взять за это деньги. Наибольшее впечатление произвело на Клару то обстоятельство, что, хотя одежда кузнеца была перепачкана сажей, держался и двигался он с такой непринужденной осторожностью, что после его визита на ее чистенькой кухоньке не осталось и пятнышка.
Затем, в субботний вечерок, зная, что господин Гитлер в этот час будет в пивной, Прайзингер поднялся наверх в парадном костюме и свежей сорочке. Это изрядно смутило Клару (да и Анжелу); сам он, впрочем, тоже держался скованно и осмелился присесть лишь на краешек дивана.
Но задним числом Кларе этот визит понравился. Потому что вернувшийся домой Алоис при виде Прайзингера, что сидел у них на диване, держа огромные лапищи на коленях, пришел в еще большее замешательство, чем она сама. А кузнец перед уходом к тому же поцеловал ей руку, промолвив: «Благодарю за любезное приглашение».
Алоис подождал, пока они с Кларой не останутся одни.
– Но я его не приглашала! – Она отчаянно затрясла головой, словно взбалтывая мозги в поисках затерявшегося фрагмента памяти. – Хотя нет. Можно сказать, приглашала.
Но ведь она пригласила его из вежливости, исключительно из вежливости! Адольф столько времени проводит в кузнице у господина Прайзингера, что она подумала, это будет любезно – любезно, и не более того, – пригласить господина Прайзингера как-нибудь полакомиться ее штруделем. Однако точной даты она не назвала. За что отвечает головой. Так что в строгом смысле слова это никакое не приглашение.
– И ты дала ему полакомиться своим штруделем?
– Ну конечно дала. С гостями просто так не сидят.
– С гостями?
– Ну, хорошо, с соседями.
И произошло пренеприятное объяснение. Клара и сама не знала, сознательно ли подзуживает мужа, и если да, то в какой мере. И наверняка поклялась бы, что и в мыслях такого не держит. Так или иначе, ровно через два дня муж известил ее о том, что написал приятелю, по-прежнему служащему на таможне, с просьбой присмотреть для него какую-нибудь недвижимость в Линце или его окрестностях.
– Здесь мне скучно, – сказал он Кларе. – И этот вечный грохот снизу. Просто невыносимо!
Через неделю пришел ответ. Миленький домик продается по разумной цене в Леондинге, можно сказать прямо под Линцем.
И Клара, и Алоис понимали, что приобретут этот домик; понимали, даже еще не съездив на него посмотреть. У обоих имелись на то веские причины, хотя и совершенно разные.
9
На этом мы могли бы и расстаться с Прайзингером (поскольку после переезда в Леондинг никто из Гитлеров его никогда больше не встречал), но я не могу проститься с ним, не пересказав читателю одну из его последних бесед с Адольфом перед уже объявленным отъездом.
Прайзингер влюбился. Нечего и говорить, это была любовь без малейшей надежды на благополучный исход, но тем не менее он чувствовал, что нравится Кларе. Со временем из них могла бы получиться прекрасная пара. Причем связанная священными узами. Муж ее дряхлел на глазах. Тем сильнее расстроился не столько обнадеженный, сколько поощряемый самим ходом вещей Прайзингер, узнав о неизбежной скорой разлуке.
Отреагировал он, однако же, единственным возможным для себя образом. То есть ударился в доморощенную философию честного труженика и огласил результаты своих раздумий в разговоре с Адольфом. Пареньку всего девять, но в уме и любознательности ему не откажешь.
– Почему железо такое твердое? – начал он с тем, чтобы тут же ответить на собственный вопрос. – Потому что у него твердый дух. – Он помедлил. Дальнейшее течение разговора сильно зависело от того, как отнесется паренек к тому, что сейчас от него услышит. – Каждому материалу присущ особый дух, – сказал он. – Есть духи твердые, а есть и мягкие.
Юный Адольф молча кивнул. Это был знак Прайзингеру продолжать.
– Трава гнется и стелется под малейшим ветерком. Она не противится, если ты втаптываешь ее в землю ногой. А железо – наоборот. Но, заметь, железная руда таится в земле, на которой растет трава. А когда эту руду переплавишь, из нее можно выковать косу. А косы куют для того, чтобы косить ими траву.
– Интересно получается! – с искренним восхищением воскликнул Ади.
– Вот именно, интересно. На железо ты не наступишь. Железо изрежет ноги любому, кто вздумает отнестись к нему непочтительно. – Прайзингер бурно дышал: и тема ему нравилась, и то, как грамотно он ее излагает. – А всё потому, что железная руда, после того как ее закалишь в самом жарком огне, превращается в уникальное вещество!
– В уникальное? – услышав непонятное слово, переспросил мальчик.
– Ни на что не похожее. Это называется «уникальное».
– Понятно. – Помедлив, Ади задал вопрос, которого не мог не задать: – Ну а воля железа… или дух… Это-то откуда берется?
Прайзингер обрадовался умному вопросу.
– Подумай о том, каким жарким должно быть пламя, чтобы пробудить в руде дух железа. Железо тверже всего на свете, кроме духа, который и превращает его в железо. И точно такой же дух, точно такую же волю я чувствую в себе самом!
Ади чрезвычайно разволновался при мысли о том, что ему и самому предстоит выковать железную волю. Позже тем же вечером он даже допустил ошибку, попытавшись пересказать услышанное Анжеле и Эдмунду и тем самым нечаянно доведя его до слуха отца. Тот тут же принялся издеваться над простодушным кузнецом. «Отличительный признак по-настоящему глупого человека, – заметил он, – заключается в том, что он столь серьезно относится к собственному ремеслу, словно это и впрямь самое важное дело на свете».
Тем не менее рассказ Прайзингера о духе железа и железной воле сильно пригодился Адольфу впоследствии, когда у них с отцом дошло до первого серьезного рукоприкладства. Сдержанности, которую пытался развить в себе Алоис, пришел конец вечером, когда Адольф заигрался в лесу в разведчики и не заметил, что кругом давно стемнело. Как правило, ближе к вечеру Алоису стоило только свистнуть, и Ади взлетал по лестнице на второй этаж из кузницы или прибегал из прилегающего к дому кустарника. Потому что, если он не успевал примчаться, пока в воздухе еще не отзвучало эхо первого свистка, Алоис перебрасывал его через колено и пребольно шлепал по голой попке. Втайне – Алоис едва ли признался бы в этом самому себе – ему нравились на ощупь ягодицы Ади.
Этим вечером, однако же, убывающий свет просачивался сквозь ветки деревьев в лесу слишком уж интригующе. Мальчик вернулся домой, лишь когда сгустилась ночная тьма.
Алоис злился из-за умственно отсталой Паулы: как раз сегодня она попыталась было научиться скакать на месте (разумеется, без скакалки), что, как заверил врач Клару, стало бы положительным сдвигом, однако чуть ли не сразу же отказалась от этой затеи. И, как ни заклинал ее Алоис, не предпринимала новых попыток. В этот миг он и свистнул, призвав Ади. А когда возникшая после этого пауза недопустимо затянулась, Алоис воспринял это как осознанное оскорбление и, прежде чем свистнуть вновь, решил устроить мальчику самую настоящую порку.
Наслушавшись Прайзингера, Ади дал себе клятву. Он будет готов к самым страшным испытаниям. Он закалит свою волю. И вот, когда первый удар ремнем обрушился на него, Ади, закусив губу, преисполнился решимостью не издать в течение всей экзекуций ни звука.
Слезы выступили у него на глазах, но он так и не заплакал в голос. Пока Алоис истязал его, перед мысленным взором мальчика маячили железобетонные бицепсы Прайзингера. Пусть отец расшибется насмерть о его железную волю.







