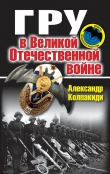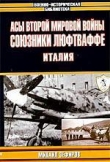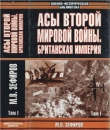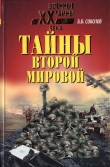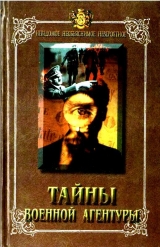
Текст книги "Тайны военной агентуры"
Автор книги: Николай Непомнящий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Роберт КЕМПНЕР
САМЫЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ ШПИОН В ИСТОРИИ
Секретные конференции в Москве, Тегеране и Каире в 1943 году на самом деле не были настолько тайными, насколько это предполагалось их организаторами. Благодаря шпиону, работавшему в британском посольстве в Анкаре, Гитлеру уже через несколько дней многое становилось известным об этих важных совещаниях союзников.
Я узнал об операции «Цицерон» – таково было условное название проводимой нацистами в Анкаре работы – случайно. Как главный обвинитель нацистских дипломатов в Нюрнберге, я среди массы других документов исследовал секретную корреспонденцию германского посольства в Анкаре. Мое внимание привлекла некая операция «Цицерон», на которую попадалось много ссылок. Я стал искать дополнительную информацию, и Хорст Вагнер, сотрудник Форин офис, отвечающий за связь с разведкой, сказал мне, что «Цицерон» был «самым крупным делом», в которое когда-либо вовлекалось его ведомство. Генерал Вальтер Шелленберг, шеф государственной и военной разведки, признал, что своим «огромным успехом» он в значительной степени обязан операции «Цицерон». Всю же эту удивительную историю я узнал, лишь когда вышел на Людвига Мойзиша.
Мойзиш, щуплый, маленький, постоянно старающийся держаться в тени человечек, прежде работал журналистом в Вене, а потом вступил в нацистскую партию и был назначен торговым атташе в Анкаре. В круг его обязанностей входило и руководство региональными операциями германской разведки. Этот человек находился под подозрением, как военный преступник, из-за письма, которое написал германский посол в Турции Франц фон Папен шефу гестапо Генриху Гиммлеру, где он хвалил Мойзиша за «отличную службу». После задержания и допроса британцами он уехал к себе на родину в Австрию и поселился где-то во французской зоне. Вновь разысканный моим ведомством Мойзиш всячески старался очиститься от подозрений. Данные им сведения поначалу показались мне неправдоподобными, но, проверенные и перепроверенные, они оказались правдой.
Ночью 26 октября 1943 года Мойзиш, занимавший дом в германском посольском комплексе в Анкаре, был разбужен настойчивым звоном телефона. Звонила фрау Енке, жена заместителя посла фон Папена,– ее муж хотел, чтобы Мойзиш немедленно явился к ним в дом.
Встретив его у двери, Енке сказал:
– У меня в гостиной сидит один малый, который готов сообщить кое-что интересное для вас. Он албанец, и его зовут Дьелло. Когда закончите беседовать, проводите его и закройте дверь.
В гостиной Мойзиш увидел маленького человека с резкими, неприятными чертами лица.
– Я могу оказать вашему правительству очень ценную услугу,– заявил он.– Но я хочу, чтобы мне хорошо заплатили за это. Я могу достать вам фотографии чрезвычайно важных документов из британского посольства. Моя цена – 5000 фунтов стерлингов за каждый документ.
Мойзиш сказал мне, что его первым желанием было указать Дьелло на дверь. Но самоуверенность этого человека, требовавшего такую громадную плату, поколебала его порыв.
– Откуда я могу знать, что вы не британский агент? – усомнился Мойзиш.
– Что ж, мне другие заплатят, если вы не захотите,– ответил Дьелло, небрежно махнув рукой в сторону советского посольства. – Вам лучше поверить моим словам – то, что я предлагаю, стоит таких денег.
На этом албанец дал понять, что завершил разговор.
– Я знаю, что вы не можете дать окончательного ответа, пока не поговорите с вашим послом,– добавил он.– Даю вам время до полудня 28-го, чтобы все обдумать.
Это значило: меньше двух дней, и Мойзиш возразил, что ему необходимо больше времени, но Дьелло сказал, что он позвонит по телефону ровно в пять в указанный день. Если ответом будет «да», он встретится с Мойзишем в условленном месте в 10 часов тем же вечером и передаст непроявленные снимки четырех совершенно секретных документов, за которые тот вручит ему 20 000 фунтов. С этим Дьелло ушел.
– Как вам понравился мой бывший слуга? – спросил на следующее утро Енке. Мойзиш изобразил удивление, и Енке с улыбкой пояснил:
– Дьелло служит камердинером в британском посольстве. И я не удивлюсь, если потом ему захочется стать оперным певцом. Как бы то ни было, он слишком умен, чтобы работать простым камердинером, поэтому я его и отпустил.
Енке согласился с Мойзишем, что 20000 фунтов – в то время более 80 000 долларов – чрезвычайно большая плата за неизвестный материал. Но он заметил, что, если эти документы действительно столь ценны, как это, по-видимому, считает Дьелло, едва ли они могут позволить себе их упустить. По предложению Енке, Мойзиш подготовил по этому вопросу докладную записку на рассмотрение послу. Позднее, тем же утром, фон Папен продиктовал срочную радиограмму в Берлин Риббентропу с запросом, в случае его одобрения, на 20000 фунтов. Деньги были привезены на следующий день на самолете.
Мойзиш и Дьелло встретились вечером 28-го. Последний без слов принял деньги и отдал маленькую алюминиевую кассету с пленкой. Мойзиш поспешил обратно в посольство и вызвал фотографа, приданного ему гестапо для секретной работы. Фон Папен и Енке тоже присоединились к нему.
Когда отпечатанные на фотостате снимки были готовы, тройка установила, что документы в самом деле стоили отданных за них денег. Один был списком агентов британской разведки в Турции. Другой представлял собой краткое изложение американского рапорта, отправленного на днях в Советский Союз, с подробным перечислением видов и количества вооружения. Третий был копией только что отправленного в Лондон меморандума сэра Хью Нэтчбулл-Хьюгессена, британского посла, в котором излагались подробности переговоров с турецким министром иностранных дел, где его пытались склонить к объявлению войны Германии. Последний документ являлся предварительным отчетом о решениях, к которым пришли на проходившей в эти дни в Москве конференции министры иностранных дел стран-союзниц Хэлл, Иден и Молотов.
У фон Папена загорелись глаза.
– Убедительно,– проговорил он.– Этот человек весьма красноречиво заявил о своих возможностях. Нам не следует называть его Дьелло, потому что, должно быть, это его имя. Назовем его Цицероном – тоже ведь был красноречивый человек.
С этого момента он стал Цицероном.
Фотодокументы были отправлены в Берлин со специальным курьером. Риббентроп немедленно показал их Гитлеру, и тот сказал, что хотел бы увидеть весь материал, который может достать Цицерон. Риббентроп дал фон Папену указание постоянно держать его в работе – но, если возможно, по более умеренным расценкам. После напряженных торгов Цицерон согласился брать по 15 000 фунтов за каждые двадцать кадров пленки с четкими изображениями. Вскоре эта сумма была снижена до 10 000. Тем не менее, за пять последующих месяцев этот человек положил себе в карман фунтов стерлингов на сумму 1000000 долларов.
Однажды в ответ на многократные расспросы, как ему удается фотографировать так много секретных документов, Цицерон объяснил Мойзишу, что Нэтчбулл-Хьюгессен меломан, и когда он сказал ему, что знает наизусть многие итальянские оперы, сэр Хью был очень доволен. После этого он стал часто просить Цицерона пропеть ту или иную арию, и вскоре тот стал не только его дворецким, но и камердинером. Однажды, когда Цицерон чистил брюки посла, он нашел в одном из карманов ключ от сейфа. Сообразив, что можно извлечь выгоду из забывчивости хозяина, он немедленно сделал дубликат ключа.
Цицерон купил фотокамеру и принялся переснимать самые важные на вид документы из сейфа посла. Обычно он приступал к фотографированию в то время, когда Нэтчбулл-Хьюгессен уезжал из города, но иногда занимался этим и ночью, когда сэр Хью спал.
Мойзиша очаровывала и одновременно отталкивала личность Цицерона: он заявил, что его отца убили англичане, но единственный интерес, который двигал этим человеком, было заработать как можно больше денег. Он стал немецким шпионом только потому, что решил: немцы заплатят за британские секреты больше других. Передаваемая Цицероном информация была просто бесценной для них.
Его фотоснимки британского отчета о Тегеранской конференции содержали подробности обсуждения открытия Второго фронта. Из фотостатических копий докладных записок сэра Хью о Каирской конференции Гитлер узнал, что британцы и русские решили заставить турок вступить в войну.
Фон Папену было поручено путем сочетания взяток и угроз сохранить Турцию нейтральной, и при выполнении этой задачи он, опираясь на информацию Цицерона, перестарался. Нуман Менеменджоглу, антинацистски настроенный министр иностранных дел Турции, стал очень настороженным и наконец сказал Нэтчбулл-Хьюгессену, что, судя по всему, в британском посольстве действует шпион.
Сэр Хью немедленно составил радиограмму, информируя Лондон о подозрениях Менеменджоглу,– копию которой Цицерон перефотографировал и тут же передал в германское посольство. Уайтхолл прислал сложную систему противовзломной сигнализации, которую Цицерон помогал устанавливать. При этом он, конечно, узнал, как ее отключать, так что мог продолжать лазить в сейф посла без риска.
Неожиданно для торжествующих немцев из посольства в Анкаре в апреле 1944 года все это столь чудесным образом налаженное дело рухнуло. В январе Мойзиш взял на работу хорошенькую секретаршу Нелли Капп, которая была дочерью бывшего германского консула в Бомбее. 6 апреля она исчезла. А позднее выяснилось, что девушка, имея антинацистские убеждения, работала на британскую разведку. Она то и выдала Цицерона Нэтчбулл-Хьюгессену.
Вскоре после высадки союзников в Нормандии Турция разорвала дипломатические отношения с Германией и наконец приготовилась вступить в войну на стороне союзников. Фон Папен вернулся в Берлин – в опалу, как он думал,– однако вскоре был награжден, как и его атташе Мойзиш.
Мойзиш сообщил мне, что он только один раз видел Цицерона после его увольнения из британского посольства. Позднее появились слухи, что он эмигрировал в Южную Америку и остался там жить под вымышленным именем.
Людвиг Мойзиш, сознавшийся в занятии допустимой правилами войны практикой шпионажа, избавился от подозрений в военных преступлениях и вернулся в свою деревеньку в Тирольских Альпах.
История шпиона Цицерона имеет ироническое завершение. Большая часть денег (эквивалент более 1000000 долларов), которые ему заплатили нацисты, оказалась фальшивой.
Джордж КЕНТ
ЗАГОВОР МИЛОСЕРДИЯ
Охваченные отвращением и стыдом жители Европы, пораженные после окончания войны фактами о шести миллионах умерщвленных нацистами евреев, могли испытать некоторое облегчение, узнав, что вместе с тем существовали тысячи европейцев, которые рисковали своими жизнями ради их спасения.
Речь идет о тех мужчинах и женщинах всех национальностей – французах, голландцах, датчанах, норвежцах, бельгийцах, итальянцах, португальцах, а также немцах – которые не могли оставаться в стороне когда другие страдали и умирали.
Эти действовавшие на свой страх и риск защитники и спасители евреев сохранили жизни не менее чем двумстам тысячам беженцев от нацистских преследований, переправив их в безопасные места или спрятав в своих домах. В самом Берлине до конца войны скрывалось пять тысяч евреев, которых постоянно переводили из одного укромного места в другое, и это означало, что в городе, где располагалось главное управление гестапо, в их спасении принимало участие не менее пятидесяти тысяч немцев.
В Дании опасности избежало практически все еврейское население. Во Франции спасли не меньше половины, а в Нидерландах – примерно пятую часть проживавших там до начала войны евреев. Норвежцы также укрыли в безопасных местах тысячи евреев.
Спасатели принадлежали ко всем общественным слоям и профессиям. Среди них были священники и крестьяне, коммерсанты и официанты, школьные учителя и полицейские, дамы и господа из высшего света. Одна бельгийская графиня спрятала у себя более ста женщин и детей. Итальянский офицер переправил из Югославии в Италию три тысячи евреев, где они жили в безопасности, в лагере, до конца войны.
В Ницце протестантский пастор спас более ста евреев, вывезя их в Италию и посадив на корабли, направляющиеся в Северную Африку. В Риме католический священник организовал подпольную типографию для изготовления фальшивых паспортов и свидетельств о рождении еврейским беглецам. На самом деле, так много священнослужителей посвятили себя спасению евреев, что уже само духовное облачение вызывало у гестапо подозрение. В одном Париже было арестовано сорок девять священников, которые помогали евреям и работали в подполье, и многие из них были потом расстреляны.
В Бордо португальский консул доктор Аристидес де Суза Мендес игнорировал указания своего правительства и выдавал визы всем евреям, которые за ними обращались. Три дня по пятнадцать часов он трудился над оформлением паспортов – в результате девять тысяч беженцев смогли выехать в Португалию из Франции. При этом он давал у себя кров и еду десяткам из них, пока они ждали билетов, а потом сам отвозил их на железнодорожную станцию на своем автомобиле.
Датчане переправили в Швецию на траулерах, грузовых кораблях, полицейских катерах, посыльных судах, шлюпках и даже байдарках все восемь тысяч проживавших в стране евреев, за исключением четырехсот семидесяти двух человек. В числе тех, кто руководил этим «маленьким Дюнкерком», были копенгагенские врачи. Они прятали беженцев в больницах, давали им фальшивые имена и вешали ложные диагнозы на их кровати, других скрывали на квартирах медсестер. Когда спасательные суда были готовы к отплытию, врачи вывезли евреев в закрытых брезентом грузовиках на пустынный берег, а оттуда переправили на корабли. На осуществление этих спасательных операций датчане из самых разных слоев общества пожертвовали в общей сложности около 2 000000 долларов.
Врачи действовали не одни. Например, один владелец магазина, стоявшего прямо напротив немецких казарм в Копенгагене, сделался на время коммивояжером; евреи сообщали ему, когда они были готовы к отправлению, и он организовывал их отъезд. Делу их спасения помогали и шведы – ни одно шведское судно не покинуло датских вод, не имея в своих трюмах хотя бы полдюжины евреев.
Одна из наиболее замечательных, однако наименее известных историй о спасении евреев связана с удивительной голландской женщиной Труусс Вайсмюллер, работницей патронажа, скрывавшей за своей грубоватой внешностью искреннюю и беззаветную любовь к людям. Спасательная деятельность фрау Вайсмюллер началась еще в 1938 году. Проезжая по лесной дороге поблизости от германской границы, она заметила бредущего впереди мальчика. Остановившись около него, она увидела, что его тело покрыто рубцами от ударов кнута, и услышала, как он прошептал:
– Они убили моих маму и папу, я видел...
Отвезя ребенка в больницу, фрау Вайсмюллер снова поехала к границе и нашла еще пятерых маленьких беглецов. Возвращаясь, она спрятала трех детей под тряпьем в задней части автомобиля, а двух укрыла под своей широкой белой юбкой.
Когда британское правительство постановило разрешить въезд в страну еврейских детишек, фрау Вайсмюллер стала одним из членов голландского комитета, занявшегося их сбором и отправкой. Она поехала в Вену, ще добилась встречи с Адольфом Эйхманом, руководившим антиеврейскими акциями в Австрии, и объяснила ему цель своей миссии.
Эйхман посмотрел в свои бумаги.
– Можете взять в субботу шестьсот человек,– объявил он.– Перевозку организуете сами. Если вы доставите их в Англию, и Англия их примет – можете забрать остальных.
Данное разрешение было поистине нереальным. Выполнить эти условия было невероятно трудно. До субботы оставалось всего пять дней, и отыскать места для шести сотен детей, запасти для них еду, организовать сопровождение, выправить таможенные и иммиграционные разрешения казалось просто невозможным. Но Труусс Вайсмюллер, которую в Амстердаме любовно прозвали «бульдозером», преодолела все препятствия. В субботу все было готово, и дети начали свое путешествие. Это был первый из целой серии поездов, которые увезли из Германии, Австрии и Чехословакии более десяти тысяч еврейских детей.
Голландцы с особой теплотой вспоминают подвиг фрау Вайсмюллер, совершенный ею в день капитуляции страны, 14 мая 1940 года. Грохот немецких сапог раздавался уже у самого Амстердама, когда женщина узнала, что в Эймейдене стоит готовое к отправлению в Англию судно, ожидающее лишь разрешения на отплытие. Она мгновенно нашла пять автобусов и усадила в них восемьдесят еврейских детишек из муниципального приюта. По дороге в автобусы запрыгивали другие евреи, укладывались на крышах и устраивались на подножках. В гавань приехало 200 человек – не бросили никого.
Другой голландец, школьный учитель Йоп Вестервил, перевел много евреев во Францию. Последними, кого он сопровождал, была группа из двадцати трех мальчиков, и, прощаясь с ними, этот благочестивый кальвинист обещал, что их постараются переправить в Палестину. Большинство из них попало туда, и сегодня память об этом человеке в Израиле живет в аллее, названной его именем. Вестервил ее не увидел: по возвращении в Голландию он был убит гестапо.
Одними из самых мужественных спасателей были немцы, так как им приходилось заниматься своей деятельностью под самым носом у гестапо. В Берлине доктор Франц Кауфманн, не еврей, работал день и ночь, заботясь об укрывающихся у него евреях, переводя их от друзей к друзьям.
– Вам лучше перестать этим заниматься,– советовали ему соратники, на что он отвечал:
– Я знаю, что рано или поздно меня схватят, но я выполняю свой высший долг и не могу перестать помогать этим несчастным.
Потом пришел день, когда это случилось: его отвели на огороженный каменной стеной двор и расстреляли.
В Катовице, в Верхней Силезии, один уполномоченный гражданской обороны построил фальшивые стены в пустующей парикмахерской и прятал за ними трех евреев.
Пожалуй, наиболее замечательным был офицер СС, квартировавший прямо над управлением СС в Берлине, который укрывал у себя еврейскую пару до самого конца войны.
Антон Шмидт, немецкий солдат, стоявший со своей частью в Вильно – теперь Вильнюс – неоднократно предупреждал местных евреев о готовящихся на них облавах. Под его надзором находились три дома, официально являвшихся собственностью немецкой армии, и в погребе каждого из них он прятал евреев, которых разыскивало гестапо.
Оскар Шиндлер, немецкий коммерсант, взявший на себя управление эмалировочным предприятием в Кракове, собрал вместе всех евреев, которых смог найти,– всего тысячу двести человек – и устроил работать у себя, объявляя их рабочими, необходимыми военной промышленности. При этом ему пришлось выплатить чинам СС значительные суммы откупных.
Одна из самых волнующих историй о спасении евреев в Польше связана с доктором Александром Миколайко-вым, проживавшим со своей женой в трехэтажном доме в Дебрице. На чердаке его дома до самого конца войны скрывалось тринадцать человек. Чердак был таким низким, что там нельзя было стоять выпрямившись, кроме того, там не было ни света, ни туалета, ни возможности помыться. По ночам доктор или его жена поднимались по приставной лестнице и передавали наверх еду, забирая ведра с испражнениями и отбросами. Когда, наконец, Дебрице было освобождено, мужчины и женщины выбрались из своего укрытия – грязные, косматые, измученные, но живые. Однако доктор не вышел к ним навстречу. Когда начался бой за город, он ушел из дома со своими хирургическими инструментами, чтобы помогать раненым, и разорвавшийся снаряд оборвал его жизнь.
Таковы человечные истории людей, которые не смогли закрыть глаза на мучения своих ближних. Никогда еще за всю нашу историю облагораживающее чувство сострадания не проявлялось более отчетливо, чем в этих самоотверженных поступках мужчин и женщин Европы, страдавших и умиравших, помогая евреям.
ОТВЕТНЫЙ УДАР 1944
«Вы вторгнетесь на Европейский континент и во взаимодействии с войсками других наций предпримете операции по наступлению в глубь Германии и уничтожению ее вооруженных сил». Так гласила директива объединенного командования британских и американских начальников штабов верховному главнокомандующему генералу Дуайту Эйзенхауэру от 12 февраля 1944 года.
Никакими мерами секретности невозможно было скрыть от противника постепенного накопления войск, припасов и кораблей в Англии. Но чтобы вторжение имело шансы на успех, место и дату проведения этой самой крупной в истории десантной операции следовало сохранять в глубочайшей тайне.
Отважные действия обыкновенных людей-патриотов, разведывательная работа людей незаурядных и специально подготовленных, добывание секретов, выслеживание шпионов – все теперь было связано с готовящимся вторжением. Предпринимались разного рода хитрости и обманы для введения противника в заблуждение, распространялись сбивающие с толку сведения. Дезинформацией буквально был пропитан воздух – для отвода «глаз» радаров посылались ложные радиосигналы, ставились помехи. В глубине оккупированной нацистами Франции прежде рассеянные по стране бойцы Сопротивления были спаяны в одну армию, готовую ударить по врагу изнутри.
Наконец в день «Д», 6 июня 1944 года, тщательно разработанные планы были приведены в действие. Восхваляемый Гитлером Атлантический вал был преодолен в считанные часы, и войска союзников устремились в глубь Франции.
Какие планы по отражению этого мощного удара союзников имелись у нацистов? Это стало известным по прошествии нескольких недель.
Наступление дня «Д» и последовавшие за ним серьезные изменения в обстановке на Европейском континенте усилили пессимистические настроения японцев, начавших терять свои островные бастионы на Тихом океане один за другим. Однако к концу года японским армиям удалось надвое разрезать Китай.