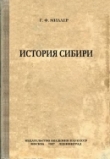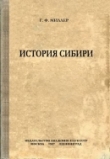Текст книги "Сибирь как колония"
Автор книги: Николай Ядринцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Когда начинались жалобы и доносы недовольных, и недовольные эти являлись часто из того же торгового сословия, которое искало наживы и монополий, то местные власти разоблачали подобных людей, как лиц, заинтересованных в злоупотреблениях, припоминали их грехи, а потому и правительство имело часто основание не придавать значения жалобам подобных людей. Этим воспользовались впоследствии Трескин и Пестель, чтобы зажать рот всяким жалобам.
Таковы были главные черты системы, существовавшей до Сперанского. Эта система, как мы видим, вырабатывалась из особенного положения края, вдали от центра управления. Кроме того, в начертаниях управления виден был след участия самих местных правителей, проводивших свои мнения и требования на высшие сферы. Таким образом, взгляд исполнителей часто руководил и законодательством, и перевершал его для Сибири. Что ненормальности управления лежали в общем свойстве принятых начал, доказывает то, что порядки пестелевского управления существовали в начале либерального царствования Александра I. Многие жалобы из Сибири находились в руках Сперанского, но правительству не представлялось возможности узнать истинное положение дел.
Во все управление Пестеля и Трескина общество, конечно, пыталось вести подземную борьбу. Когда отняты были все средства гласности, оно прибегало к доносам. Под конец управления Пестеля жалобы и доносы день ото дня становились многочисленнее, все важнее по содержанию, все разительнее по общему согласию в показаниях, пишет барон Корф. Сначала Пестель отвращал эти доносы. По поводу доноса 1808 года министр просил Пестеля «прекратить незаконные действия местного начальства». Но Пестель, сообщив отношение министра Трескину, предписывал не прекратить злоупотребления, а принять меры против подобных «изветов». Представив свои объяснения министру, он пишет, что «объяснения его (Пестеля) принять с уважением», что в его усердии не сомневаются и что сообщение ему дошедших до правительства сведений служит доказательством доверия к нему. Содержание бумаги он сообщил Трескину, чтобы «неблагонамеренные люди» знали, как правительство относится к их доносам (Мат. Стр. 35). Словом, Пестель угрожал, что все жалобы будут представлены ему. Но жалобы не прекращались. Сначала их подавали купцы, видимо, не сошедшиеся с Трескиным в своих делах. Наконец, они проникают из всех слоев общества. Генерал Куткин пишет из своего заключения грозные послания, выдвигаются мелкие чиновники и, наконец, простолюдины. Донос в это время получает как бы общественное значение и сливается в единодушный протест. Местное общество употребляет в борьбе этой все усилия, чтобы дать о себе знать. Доносы вывозятся в хлебе. В 1818 году иркутский мещанин Саламатов берется под величайшей тайной добраться до Петербурга и вручить донос лично государю. Он пробирается через Китай, через степи и сибирские леса, добирается до Петербурга, подает лично донос государю и «просит приказать его убить, чтобы избавить от тиранства Пестеля». Он был отдан на особую ответственность государем петербургскому государю генерал-губернатору Милорадовичу. Об этом мещанине писал в 1819 году Сперанский Голицыну: «В числе доносителей по здешнему краю был некто иркутский мещанин Саламатов. Бумаги его мне препровождены от графа А.А. (Аракчеева), но где он сам – мне неизвестно. По слухам же, он должен быть в Петербурге под стражею или под надзором. Человек сей, – пишет Сперанский, – разорен здешним начальством до основания и разорен несправедливо; у него здесь семеро малолетних детей почти без пропитания, бумаги его написаны глупо и бессвязно, но главные статьи о поступках Лоскутова и других в существе своем теперь обнаружены и найдены справедливыми» (Ист. имп. публ. библиот. в пам. графа Сперанского. Стр. 259–260). Это предприятие бедняка, бросившего детей и идущего под страхом смерти в Петербург, носит печать как бы гражданского подвига. К этим протестам присоединился, наконец, кроткий архиепископ иркутский Михаил. Но независимо от жалоб до правительства доходили сведения о страшных беспорядках в Сибири и голодах у инородцев. При таком положении дел пребывание Пестеля в Петербурге вызывало всеобщее негодование и насмешки. В 1815 г. в комитете министров предложено возвратить сибирского генерал-губернатора к своему посту или назначить ревизию. Но Пестель долго еще продолжал жить в Петербурге. По связям своим с Пакулевым он пользовался покровительством и поддержкой Аракчеева, и только когда Аракчеев разошелся с Пакулевым, Пестель потерял поддержку. В то же время в кабинете министров было высказано решительное мнение, что в Сибири необходима ревизия и смена Пестеля. Вместе с этим подана была записка Козодавлевым о необходимости изменить самые начала управления Сибирью и дать ей новое учреждение.
Оставался вопрос: кого послать для такой многотрудной задачи, на кого можно положиться? Выбор пал на Сперанского.
Как ни печально было положение Сибири в XVII и XVIII столетиях, но, по мере заселения ее, она приобретала все более и более значения. Довольно давно уже правительство обращало внимание на богатство этой страны. Во все XVII столетие из нее вывозили меха, устраивали рыбные и другие промыслы, добывали мамонтовую кость, отыскивали руду. Приток вольной народной колонизации в первое время был обширный: богатство соболей, лисиц, белки, песцов и т. п. привлекали сюда промышленников, нетронутые естественные запасы природы обольщали богатством. В начале XVIII столетия сложилась поговорка: «Сибирь – золотое дно». Ряд путешественников, начиная с Мессершмидта, производил исследования над обширной страной и ее минеральными богатствами. Петр Великий сосредоточивает особенное внимание на Сибири ввиду развития здесь горных промыслов; в XVIII столетии заводятся повсюду рудники и заводы с припискою к ним крестьян; в XVIII же столетии присоединяется киргизская степь, и начинается торговля с азиатскими государствами, особенно с Бухарою; бухарцы наводняют Сибирь товарами, караваны тянутся из Китая. Рядом с этим страна приобретала более и более гражданского и оседлого населения; с половины XVIII столетия пионеры колонизации и промышленники выходят из лесов и селятся деревнями, остроги и посады обстраиваются. Сибирь, таким образом, превращалась из звероловной и горной колонии понемногу в земледельческую и вместе с прочной гражданственностью начинала показывать задатки промышленного развития; но в значительной части своей страны еще оставалась неизведанной: промышленные люди, купцы, мореходы, пионеры, казаки все еще продолжали делать открытия, то огибая мысы Ледовитого океана, то углубляясь на Амур и в киргизские степи. Страна эта поэтому была во многом загадочной, и эта-то таинственность еще более возбуждала ожидания таящихся в ней сокровищ. Петр Великий направляет экспедицию к Бухаре за поисками бухарского золота; при Екатерине точно так же снаряжаются военные экспедиции в глубь Азии, является мечта о сношениях Сибири чрез Среднюю Азию с Индией; при Павле, говорят, даже была мысль предпринять поход в Индию в союзе с Наполеоном; при Александре I точно так же обращается внимание на Среднюю Азию и Индию – между прочим, мы видим, что правительство намеревается приобрести кашмирских коз.
Все это заставляло государственных людей сооружать множество планов и вообще относиться восторженно к этой стране будущего. Козодавлев называл Сибирь в официальных бумагах не иначе как «Мексика и Перу наше». С назначением в Сибирь Сперанского по этому поводу возлагали на него обширные надежды в деле устройства и управления края. Козодавлев писал, поощряя Сперанского, что «история Сибири будет делиться на две только эпохи: первая – от Ермака до Сперанского, вторая – от Сперанского до X». Кочубей в письме к Сперанскому выражался так: «От вас, конечно, никто ожидать не может, чтобы вы остановились на каких-нибудь мелочах, кои какого-нибудь пустого ревизора, подобного Селифонтову, останавливать могут. От вас ожидать будут видов государственного человека, и, если смею я сказать, виды-то сии и полезны быть могут, ибо при всех ваших способностях можно ли ожидать большого добра там, где не существует свойственных оснований к произведению оного? Вы можете составить систематическое обозрение края, представить план к образованию управления в сих колониях наших и пр., и пр., и сим, так сказать, удивить людей, мало привыкших к произведениям сего рода». Козодавлев немедленно при отправлении Сперанского, приветствуя его, посылает записку свою, читанную в комитете министров, о новых основаниях сибирского управления и прилагает книгу Прадта «Sur les Colonies» о мексиканских колониях для руководства. Граф Нессельроде пишет Сперанскому, что «друзья его будут следить за ним с участием и симпатиями». Одним словом, от Сперанского, как от смелого реформатора, ожидали все «видов государственных» или установления новой государственной точки зрения на страну. Друзья его ожидали даже чего-то грандиозного.
Не так относился сам Сперанский к своему положению. Из его переписки и материалов видно, что он далеко не разделял восторженных увлечений своих друзей. Он нимало не увлекался новой ролью, назначенной ему, он даже не имел определенных воззрений на край, в который ехал. Из его писем к дочери из Сибири видно, что при въезде в Сибирь он питал к ней даже предубеждение. Мрачным взглядом своим на страну он был обязан во многом исключительности своего положения. Известно, что поездка в Сибирь никогда не входила в план его деятельности. Самое назначение его сюда было случайно. Только что возвратясь из ссылки и находясь в Пензе губернатором, он ожидал ежеминутно своего возвращения в Петербург, и новое назначение его застало врасплох. Он принял его за приличное удаление. Хотя «поездка его была обставлена всеми наружными знаками доверия, обширными полномочиями, почетом, – говорит биограф Сперанского барон Корф, – тем не менее Сперанский понимал, что это назначение – продолжение ссылки. Все пребывание его в Сибири было отравлено этим горьким чувством[127]
[Закрыть]».
Само свое назначение в Сибирь Сперанский считал частным поручением и «последним испытанием», как он выражался в письме к дочери. «На Сперанского возложены были и ревизия края, – пишет г. Вагин, – и труды административные, и законодательные, наградою их указаны достижение цели – возвращение в Петербург».
По всему этому Сперанский смотрел на пребывание в Сибири, как на ступень к скорейшему приближению, но в то же время досадовал, что ему приходится пройти эту ступень. После этого неудивительно, что он к своему назначению относился без энтузиазма, без того увлечения, которое вдохновляло его в прежних реформах. Он спешит как бы выполнить формальность, показать свою деятельность в наиболее выгодном свете и потом поскорее оставить ее. Такое настроение не было особенно благоприятно для реформаторской деятельности. Все, что он здесь видел, это «труд Геркулеса при очищении Авгиосовых конюшен», как выразился в письме к нему граф Нессельроде. Действительно, с самого начала въезда в Сибирь Сперанскому предстояла кропотливая ревизия, которой он посвятил свое пребывание здесь. Ревизия эта не представляла особенной важности ввиду других задач, возложенных на него, однако она заняла много времени. С государственной точки зрения сам Сперанский не придал ей особого значения, и она может быть только характеристична для выяснения того положения, в каком застал Сперанский Сибирь, и личного его отношения в деле искоренения злоупотреблений. В этом случае она может быть примерна и замечательна только относительно тех приемов, какие употреблял он. Мы указывали, до чего в предшествующее управление Пестеля и Трескина развились злоупотребления и как они искусно прикрывались. Когда донесся слух о назначении Сперанского в Сибирь, в Иркутске произошла паника. Некоторые чиновники сошли с ума, как правитель дел Белявский, Кузнецов и другие. Трескин струсил. Никто не ожидал, чтобы Сибирь посетил человек бескорыстный; однако многие надеялись, что при помощи прежней системы можно замаскироваться. Но Сперанский нашел средства разоблачить злоупотребления, он дал место гласности и постарался опереться на общество. Первым делом по приезде его в Тобольск было уверить жителей, что жалобы на местное начальство не составляют преступления и что их можно приносить. Действительно, во все время проезда через Сибирь Сперанский сближается с местными жителями, останавливается у купцов, идет часто пешком за экипажем, расспрашивая крестьян. Местное общество так привыкло ко взяточничеству и поборам, что в Тюмени самому Сперанскому поднесли блюдо. «Хлеб был взят, блюдо возвращено», – отмечает он в дневнике.
Понемногу порядки сибирские открылись пред его глазами. Въехав в Тобольскую губернию, он замечает: «Главные жалобы были на земскую полицию, преимущественно на лихоимство, потому ревизия не вызвала здесь особенно строгих мер». Исправив важнейшие беспорядки, показав несколько примеров строгости и «доправив взятки» с земских чиновников, он двинулся далее. Но чем более он подвигался в глубь Сибири, тем положение края более поражало его. «Положение дел в Томской губернии было гораздо хуже, поборы тягостнее, чиновники дерзновеннее, преступления очевиднее, на самого губернатора падали сильные подозрения», – говорит он. «Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, – писал Сперанский, – что и можно было бы сделать, то здесь оставалось бы уже всех повесить. Злоупотребления вопиющие и по глупости губернатора Илличевского, по жадности его жены, по строптивому корыстолюбию брата его, губернского почтмейстера, весьма худо прикрытые…» «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем более нахожу зла, и зла почти нестерпимого, – пишет он в другом письме к Столыпину, – слухи ничего не увеличивали, и дела хуже еще слухов…» «При обозрении Тобольской губернии представлялась еще возможность пресечь или, по крайней мере, ограничить злоупотребления и до времени охранять порядок средствами, в инструкции определенными, – доносит Сперанский государю 31 июля 1819 г. – Но в Томской губернии средства сии будут недостаточны. Здесь жалоб более, существо их важнее, чиновников, не только способных, но и посредственных, еще менее и перемены их тем затруднительнее. Злоупотребления, доселе открытые, ведут к другим, еще не обнаруженным». Поэтому Сперанский спрашивал разрешения в случае надобности сменить томского и иркутского губернаторов. Из Томска уже назначаются следственные комиссии для расследования беспорядков в Нарыме и Туруханске. Из Туруханска пишет посланный на следствие Осипов: «Беспечность здешних чиновников до того велика, что я с самого приезда не могу получить ответов на свои отношения…» «Бежал бы отсюда без оглядки», – восклицает в другом письме к Сперанскому этот следователь. В Томске также учреждена была комиссия, и Сперанский спешил в Иркутск. Настоящим гнездом злоупотреблений была Иркутская губерния. Вопль жителей продолжался только до границ Иркутского уезда. В этом уезде и в самом городе жалобы вдруг смолкли: таков был ужас перед местным управлением». Исправник Лоскутов перед приездом Сперанского отобрал в своем уезде все чернила и бумагу, говорят предания. На берегу Кана Сперанского встретили вопиющие жалобы на Лоскутова, крестьяне выходили из лесов с прошениями. Лоскутова Сперанский арестовал немедленно. Говорят, что обыкновенно хладнокровный и сдержанный Сперанский здесь не выдержал. С.С. Щукин приводит в своих записках рассказ об этой встрече. Лоскутов был в мундире и едва произнес: «Исправник Лоскутов…» – «Лоскутов?… Арестовать его, бездельника!» – воскликнул Сперанский. С него сорвали шпагу и арестовали. «На границе Иркутской губернии встречен я был первым министром Трескина, – писал Сперанский Столыпину, – пресловутым Лоскутовым, исправником нижнеудинским. С двух первых слов я его отрешил и тут же арестовал, оставил за границею губернии, за Каном, как за Стиксом[128]
[Закрыть]. Мера сия была нужна, – продолжает он. – Страх его десятилетнего железного управления был таков, что на первых станциях не смели иначе приносить жалоб, как выбегая тайно на дороге из лесов». Корф прибавляет: «Когда Сперанский приказал взять Лоскутова, бывшие при этом крестьяне упали на колени и, хватая за руки Сперанского, воскликнули: «Батюшка! Да ведь это Лоскутов!» Несчастные думали, что и Сперанский бессилен пред этим человеком. В Нижнеудинске Сперанский назначил сейчас же следственную комиссию и приказал описать имение Лоскутова. У него было найдено 138243 р., кроме разных вещей, серебра, мехов, которым оценка не сделана. Все это имущество было отправлено торжественной процессией в Иркутск. «Иркутск ожидал Сперанского в волнении. Трескин приготовил иллюминацию и музыкантов. Показалась лодка, – пишет один современник. – Внимание было напряжено. «Не генерал ли губернатор? Кто такой?» – окликают иркутяне с берега. – «Имущество Лоскутова!» – отвечает прибывший офицер. Трескин побледнел. Кто-то заметил: первая батарея сбита». Из Нижнеудинска же Сперанский послал бумагу Трескину с запросом, правда ли, что приносить жалобы поселенцам на Лоскутова было запрещено самим Трескиным? Сперанский здесь был буквально завален жалобами. По день отъезда из Нижнеудинска их поступило 280. Сумма предъявленных на Лоскутова взысканий простиралась до 129000 рублей. Много жалоб поступило впоследствии. «Это были жалобы на вымогательства, жестокости, принуждения к даровой работе, насильную продажу хлеба и скота по произвольным ценам, самовольные ссуды денег за неумеренные проценты, притеснения по закупкам хлеба и натуральным повинностям, чрезвычайные денежные сборы, наконец, что торг с инородцами был захвачен исключительно в руки Лоскутова и двух его клевретов», – рассказывает г. Вагин.
По приезде Сперанского в Иркутск также были учреждены следствие и ревизия. Но жалобы в Иркутске в первые дни боялись даже подавать. При объявлении Сперанским, что Трескин устранен от должности, жители страшились, что впоследствии снова он займет место и отомстит. Иркутяне припоминали пример с губернатором Жолобовым. Трескин, кроме того, составил себе в Иркутске партию не только из чиновников, с которыми делился, но и из купцов, с которыми торговал. Но когда увидели, что подавать жалобы не опасно, то они последовали в страшном количестве. Число их достигало до 300 в день. В скором времени в иркутском казначействе была распродана вся гербовая бумага, так что делались надписи на простой, употребленной вместо гербовой. Крестьянам разрешены были словесные жалобы, и двор иркутской следственной комиссии не мог помещать просителей. Сперанскому в первое время приходилось «развивать клубок с медленностью и великим терпением», пока Трескин оставался на должности. «Корыстолюбивая, жадная монополия обличается гласом народным, – писал Сперанский, – но пред законом должно обличиться законными мерами…» «Злоупотребления очевидны, но должно доказать их. Трескин человек наглый, отменно смелый, неглуп, хотя плохо воспитан, но хитр и лукав, как демон»…
Сперанский, однако, успел открыть и разоблачить трескинскую организацию. Комиссия, учрежденная под председательством Цейера в Иркутске для раскрытия злоупотреблений, привлекла к ответственности до 216 лиц; сумма одних частных взысканий простиралась свыше двух миллионов. «Все то, что о здешних делах говорили в Петербурге, – писал Сперанский, – не только есть истина, но – и это редко бывает – истина не увеличенная». Злоупотребления были так велики, что, по мнению Сперанского, всякий другой край, менее обильный, был бы подавлен ими совершенно». «При открытии злоупотреблений даже Цейер, человек с добродушным характером, – говорит г. Вагин, – при виде ненавистных беззаконий ожесточился, расстроил свое здоровье, сделался мрачным нелюдимом, стали опасаться за его рассудок». Положение Сперанского было тем тяжелее, что он видел свою невозможность уничтожить зло, вкоренившееся годами. Он старался по возможности облегчить это положение. «Ревизия Сперанского была более собственная, нежели формальная, – говорит г. Вагин. – Он отбросил всякие формальности. Жалоб на лихоимство было так много, а законы против него так жестоки, что Сперанский решил исключить слово взятки из сибирской ревизии. Большую часть дел подобного рода он обращал в гражданские иски и приказывал удовлетворять обиженных. Словом, он прекращал множество дел домашним образом. Многих виновных он прощал и старался сохранить полную бесстрастность правосудия. В этом случае он часто выказывал даже великодушие и отрешался от того личного чувства и страсти, с какой часто совершаются дела такого рода». Напротив, эта роль по его личному характеру была неприятна. «Мое ли дело разыскивать, преследовать, обличать, ловить преступления?» – не раз с горечью восклицает он в письмах к Столыпину. «По совести я никого не обвинял, кроме тех, кои попускали злоупотребления, – пишет он ему, – но по закону все без разбора виноваты, и список их по сие время по всем трем губерниям составляет уже около 150 человек»… «Если бы успех порученного мне дела должно было измерять количеством обнаруженных злоупотреблений, – писал Сперанский Гурьеву, – то было бы мне чем утешиться. Но какое же утешение! Преследовать толпу мелких исполнителей, увлеченных примером и попущением главного их начальника! Дела сего начальства приведены теперь в такую ясность, что мудрено было бы их затмить».
В этом случае Сперанский хорошо понимал, что причины злоупотреблений лежали не в людях, а в целой системе, что злоба и преследование тут не помогут. Несмотря на то, что Сперанский множество дел разрешил сам, он должен был предать суду двух губернаторов, 48 чиновников, всех же замешано было 681 человек. Взыскания насчитывались до 2847000 руб. Все эти дела были представлены в Сибирский комитет; лица, участвовавшие в злоупотреблениях, были разделены на категории, но к более строгому наказанию были приговорены только 43 человека. Эти липа были отрешены от должности и должны были удалиться во внутренние губернии, но и тут были сделаны исключения. Трескин лишен был чинов и знаков отличия.
Как ни могла казаться снисходительной подобная ревизия по своим последствиям ввиду огромных злоупотреблений, лоскутовских неистовств и т. п., но враги Сперанского в Петербурге находили ее жестокою. До какой степени, между тем, слабы были взыскания, видно из многих фактов, приведенных в материалах. Между прочим, Сперанский сделал сначала распоряжение обвиненных в злоупотреблениях и отданных под суд отдать под надзор полиции, но вскоре и это отменил. Геденштром, уволенный за взятки, снова поступил на службу. Лоскутов отпросился в Иркутск и жил свободно. Сперанский отдавал даже такие распоряжения относительно подсудности изобличенных чиновников: «Если казенный недостаток пополнен или достаточно обеспечен, оставить дальнейшее исследование, тем более, что при настоящем положении дел и при недостатке чиновников и употребить к сему некого». И действительно, многие замешанные в делах совершенно были оставлены без взысканий, а когда были получены сведения о наложенных взысканиях, то некоторые из подсудимых, как Геденштром, задали даже пирушку.
Что Сперанский не преследовал с особенной яростью мелких чиновников старого управления, это, конечно, могло объясняться только высотою его взгляда и пониманием, что всякие преследования тут будут бесполезны; но не может не показаться странным, что в своей ревизии и изобличении Сперанский преднамеренно обошел главного виновника – Пестеля, а Трескина не обвинил даже во взятках, несмотря на улики. «Дела могли ему доставить множество материалов для обвинения Пестеля не только в крайнем произволе, но и в недобросовестности пред высшим правительством», – говорит г. Вагин. Из писем видно, что Сперанский хорошо знал ту связь, которая существовала между Пестелем и Трескиным. Он знал, что все бумаги составлялись для Пестеля в Иркутске, что Пестель покрывал Трескина и был его участник. В одном письме он говорит: «Связь с Трескиным у Пестеля другого рода, чем служебная. Не верьте бедности моего предместника». О талантах Пестеля он отзывался презрительно: «Не только Сибирью, мне кажется, ему трудно было бы управлять и Олонецкою губерниею; это самая слабая голова, какую я когда-либо знал». При всех уликах, однако, Сперанский пожелал «сделать исключение из общего правила и не говорить ничего худого или, по крайней мере, молчал о своем предместнике», как он выразился в одном письме Аракчееву. Он сначала умолчал было об ответственности Пестеля в сибирских беспорядках; но доклад его был возвращен от государя с повелением постановить заключение и о Пестеле. Действительно, указывая на причины зла, невозможно было не представить, каким образом главный управитель в продолжение нескольких лет скрывал и перерешал дела сибирского управления во всех инстанциях, пребывая постоянно в Петербурге. Но здесь, вероятно, обнаружились бы тесные отношения некоторых лиц к Пестелю, как, например, Аракчеева, а это не входило в план Сперанского, видевшего для себя за ревизией новые поприща в Петербурге. Одной ревизии, как человек государственный, Сперанский не мог придать какого-либо значения в улучшении дел и прекращении злоупотреблений в крае. Представляя краткий отчет о своей ревизии государю в 1820 г., Сперанский говорит: «Но сии меры и сами по себе недостаточны, и в исполнении их непрочны. Никакое начальство не может ручаться в продолжительном их действии, если не постановлен будет порядок управления, местному положению сего края свойственный»… «Ревизия есть дело временное, – писал он там же Голицыну, – и повторять ее часто на сих расстояниях невозможно. Порядок управления, местному положению свойственный, может один упрочить добро на долгое время. Учреждения без людей тщетны; но и люди без добрых учреждений мало доброго произвести могут». После ревизии люди остались те же в Сибири; страна терпела недостаток не только в чиновниках честных, но вообще в чиновниках. «Здесь вопрос, – писал Сперанский, – не в выборе людей честных или способных, но в положительном и совершенном недостатке даже и посредственных, даже и людей неспособных»… «Я не могу даже составить своей канцелярии, – жаловался он, – и должен довольствоваться тем, что поступило ко мне от моего предместника»… «У меня управление без людей, обширное производство дел почти без канцелярии», – прибавляет он.
У Сперанского было немного своих помощников, так как остальной штат управления некем было заменить после Трескина. Вместо Трескина назначен был иркутским губернатором вице-губернатор Зеркалев, «человек без больших способностей и даже малограмотный», «в бумагах он терпеть не мог кавык». После него был определен комендант Цейдлер, человек добрый, но по своим понятиям об управлении он, как все современники, скорее приближался к Трескину. Томским губернатором оставался Илличевский, при котором было открыто столько злоупотреблений; о способностях его Сперанский отзывался довольно презрительно. Тобольским губернатором считался 70-летний фон Брин. Про начальника Якутской области говорят материалы, что бескорыстие его было, быть может, небезупречно, но он оставался потому, что в те времена и долго еще после на этот недостаток смотрели сквозь пальцы, если только он не выходил из известных границ». Этого начальника, между тем, считали еще за дельного человека. Но в это же время оставались на местах и такие начальники, как управитель Охотского порта Ушинский, о котором в 1823 году отзывался Рикорд: «Ушинский во всех действиях своих руководствуется одною только властью начальника, не подчиняясь ни чести, ни совести, и потому решительно осмеливаюсь объявить свое мнение, что дальнейшее его управление Охотским портом противно человеческим и божеским законам». Сперанский должен был большинство чиновников, изобличенных во взяточничестве по суду, оставить на местах, потому что «некем было заменить». Несмотря на всю строгость ревизии в Иркутской губернии, Сперанский и здесь по недостатку в людях удалил очень немногих наиболее обвинявшихся чиновников. В отдаленных местах он принужден был смотреть снисходительно даже на явно виновных в злоупотреблениях. Сперанский, сменяя и заменяя другими, приходил к необходимости призывать уже отрешенных за взятки только потому, что они иногда казались менее жадными тех, кого сменяли.
Характеристический анекдот по этому поводу приводит один из старожилов С.С.Щукин. «Сперанский, ехавший по Сибири в качестве генерал-губернатора в 1819 г., изумлялся неслыханным злоупотреблениям разных лиц, – говорит Щукин в своих записках. – Он отрешил первого исправника Зинова, на которого вся жалоба состояла в удержании 50 руб., следовавших крестьянам за постройку моста; но чем ехал далее, тем жалобы возрастали. Сказывали, что по приезде в Томск он приказал написать отрешенному исправнику Зинову, чтобы он, как честнейший из исправников, приехал в Иркутск, где получил новое назначение». Самым разительным примером недостатка в чиновниках, говорит г. Вагин, служит дело об определении исправника в Туруханск. Назначив следствие в Туруханске в первом проезде по Сибири, Сперанский отрешил бывшего исправника Стыртова. Вместо него Сперанский определил Корсакова. Этот Корсаков, явившись, дрался с крестьянами, инородцами и вахтерами, не исполнял требований следователя Осипова, посланного Сперанским, хвастался тем, что брат его служит правителем дел у Сперанского, притеснял Стыртова в сдаче дел, а сам не занимался делами. О нем писал Осипов, что «ни малейшей нет надежды, чтобы по строптивости своей этот исправник приобрел любовь инородцев»… «От него уже бегают, я уж не понимаю, на что он походит», – прибавляет следователь. Сперанский предписал Корсакова сменить и назначить опять Стыртова, уже смененного по ревизии. Пока дело шло, «человек, о котором говорили, что «он не знаю, на что походит», оставался на месте почти год после этого отзыва и заменен был не лучшим. То же самое было и с другими перемещениями. Чиновники не могли изменить своих привычек и воззрений и при Сперанском. «Нравственный уровень тогдашнего чиновничества был невысок, – замечает г. Вагин. – Пример продажности подавали высшие чиновники; кроме того, у средних и низших были свои пороки: пьянство и разврат, сопряженные с буйным разгулом…» «Этих пороков были не чужды и некоторые из способнейших людей того времени, – прибавляет исследователь (Матер. Вагина. Стр. 140). – Но лучшим примером, до чего могли пасть нравы в среде сибирского чиновничества, служит опять рассказ Щукина об ожидании Сперанского. В важных случаях у Трескина собирались для совета исправники и главные лица управления. Перед приездом Сперанского на чрезвычайном конгрессе один из приближенных Трескина Третьяков предложил следующий вопрос Трескину: «А что, Н. И., Михайло Михайлович ест хлеб?» – «Как же, Алеша, не ест?» – «А если ест, то трудно ли будет с ним познакомиться? Пусть кум Андрей (один из исправников) даст столько-то, Евстафий Фомич (другой исправник) столько-то». Таким образом пересчитал всех, и решено было собрать, как тогда говорили, несколько сот тысяч рублей и поручить их Лоскутову поднесть при первом вступлении Сперанского на границу Иркутской губернии».