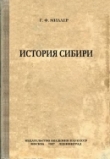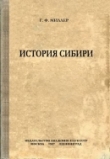Текст книги "Сибирь как колония"
Автор книги: Николай Ядринцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Пестель, понимая ошибки своих предшественников, решился первым делом упрочить свою власть в Сибири и обеспечить ее надолго. Он управлял Сибирью 14 лет до Сперанского и в это время возвел предшествовавшую систему до крайнего развития, опираясь на все предыдущие уполномочия и вытребовав новые. Пестель решился начать управление не с разоблачения злоупотреблений, как его предшественники, но с уничтожения жалоб и пресечения всякой возможности жаловаться. Тупой и ограниченный по способностям, но злой и самолюбивый, он явился в Иркутск с тем, чтобы вместо приветствия объявить обществу: «При назначении меня генерал-губернатором в Сибирь первая моя всеподданнейшая просьба была, чтобы переменить здесь белые воротники. Я был в Вятке на следствии, и там тоже белые воротники и все наголо ябедники». И Пестель засмеялся гнусливым, зловещим смехом». (Пояснен, к иркутской лет. в чтен. 1853 г., кн. 3, стр. 72). Таким образом, Пестель отнесся с явным недоверием к обществу и объявил, что будет искать причины зла в нем. По убеждениям это был защитник всякого начальнического авторитета; утвердить такой авторитет он поставил своею целью, а общество должно было погрузиться в безмолвное повиновение. В помощники он выбирает расторопного и распорядительного почтамтского чиновника Трескина, без которого не решался ехать в Сибирь. Это был раб и наперсник Пестеля. Пестель ему безусловно верил во все время своего управления, он предоставил ему полную свободу и власть, какую только мог ему передать на основании инструкции; а инструкция эта была всемогуща. Личность Трескина так характеризует г. Вагин: «Это был человек умный и деятельный», до известной степени, конечно, «но его ум и деятельность были не государственного человека, а канцелярского и полицейского чиновника. Они были устремлены только на мелочи и многописание. Трескин был превосходный исполнитель, как большая часть людей этого рода, он мог быть только хорош в хороших руках. Его предоставили самому себе, облекли высокой властью. В нем вполне развились полицейские замашки, и из него вышел невыносимый деспот». Как человек, как семьянин Трескин даже был добр; впрочем, подобных качеств не чужды самые кровожадные звери, любящие своих детенышей.
В своем управлении Трескин руководствовался вполне собственным усмотрением. «Законов он не исполнял, на министерские приказания не обращал никакого внимания», – сообщают исследования г. Вагина, он позволял себе величайшие самоуправства. Его защитник и поклонник Геденштром говорит, что «губернию он считал вотчиною, а себя – полновластным в ней приказчиком или управляющим». «Даже помещичий произвол никогда не достигал в России такого развития, как трескинский произвол в Иркутской губернии. Его можно только сравнить с произволом и мелочным вмешательством Аракчеева в военных поселениях». Оставив расторопного и самовластного Трескина распоряжаться в Сибири, Пестель уехал в Петербург и все время пребывал там. Здесь он влиял и направлял по-своему сибирские дела.
14-летнее управление Пестеля и Трескина было ознаменовано крупными злоупотреблениями, которые достаточно выяснились благодаря ревизии Сперанского и собранным ныне материалам. Взяточничество в этот период не только не уменьшилось, но еще лучше организовалось. Пресечение всякой гласности, всяких жалоб превратило его в обыкновенный порядок. «Трескин имел достойных сподвижников, – пишет г. Вагин на основании своих исторических материалов. – Жена и любимцы его бесчинствовали открыто. Агния Федоровна, жена Трескина, была «женщина домовитая», как о ней говорили, и весьма притом нестрогих правил». «К ней отправлялся всякий, кто хотел давать, – пишет иркутский летописец. – Исправники, комиссары без доклада могли входить в уборную, даже в спальню. Она называла чиновников своими детьми». В самом деле, места под конец все были заняты чиновниками, привезенными Пестелем и Трескиным «из Москвы» (Вагин. С. 11). Сам Трескин подозревался, что при заготовке хлеба в казенные магазины чрез комиссаров он имел «знатный доход». Что касается взяточничества его жены, то оно было открытое. «Довольно странно было видеть, – пишет иркутский летописец, – в передней сидящего лакея, фаворита барыни самой, записывающего, кто что принес, и толпу купцов с кульками, со свертками, цибиками[124]
[Закрыть], с анкерами[125]
[Закрыть] и тому подобным». Жители Иркутска, имевшие дела, говорили, по отзывам старожилов: «Вот, Агнесе Федоровне надо поклониться. – Купи мех соболий! Принесут мех, сторгуют его за пять, за шесть тысяч, и мех возьмут, и деньги. Другому, третьему – то же. Один-то мех раз 50 продавали» (Рассказ Обухова, приложение к т.1. Стр. 565). Она брала соболями, муфтами, рассказывает другой старожил; взятки давали губернаторше, проигрывая часто в карты. «Она за взятки, – сообщает третий современник, – раздавала места. У нее был подставной Третьяков. У них в гостином дворе были и лавочки, где они продавали, что им надарят» (Посельский. Прилож. к исслед. Вагина. Т. I. Стр. 582). Агния Федоровна жила в связи с Белявским, секретарем мужа, который управлял не только за Трескина, а и за Пестеля; он был также взяточник. Кроме того, отличались взяточничеством главный доверенный жены Трескина, Третьяков, заседатель Геденштром, человек образованный, но в то же время, по словам Корфа, «доносчик и развратник». Г-н Вагин силился смягчить приговор Корфа за ум и образование Геденштрома, но в сущности это был образованный вор. Наконец, прославился Лоскутов, который, неистовствуя, нажил огромное состояние.
Такой порядок должен был прикрывать Трескин, участвуя сам в наживе, как свидетельствуют исторические материалы. Трескину оставалось на выбор – или изменить свою систему, или сойти со своего поприща, или стереть недовольных с лица земли, и он выбрал последнее. Белявский был правою рукой и злым гением Трескина. «Все бездельники, в бараний рог надобно согнуть», – беспрестанно твердил он губернатору. «И подлинно гнули», – говорит современник. Это было тем легче сделать, что, как мы видели, сам Пестель старался задавить всякий донос и преследовать недовольных. Начало своего управления Пестель ознаменовывает гонениями двух губернаторов, тобольского и томского: Хвостова и Корнилова, за то, что те не соглашались с его мнением, и один подал, помимо Пестеля, записку министру внутренних дел об улучшении края. «К преданию их суду были выставлены не эти, а другие доводы, но они были так же ничтожны и грязны, как и первые» (Истор. исслед. Т. I. Стр. 6). Начальник провиантского депо в Тобольске генерал Куткин о чем-то поспорил с Пестелем, и тот нарочно выхлопотал право себе предавать суду провиантских и комиссариатских чиновников. Тогда он открыл мнимые злоупотребления по провиантской части и предал Куткина суду и домашнему аресту, устроив около дома его гауптвахту. Дом, имение его, фабрики около Тобольска были разорены. Сам он посылал постоянно прошения и ничего не мог добиться. Сенат несколько раз предписывал освободить Куткина, но Пестель оставлял без исполнения сенатские указы. 11 лет Куткин содержался под арестом, разорился, наполнил Сибирь воплями своих прошений и умер под стражею в 1817 г.; жена его умерла от горя, дочь ослепла от слез (Истор. исслед. Стр. 7). На провиантских чиновников было открыто гонение, «как на жидов». «Употребляя во зло свое знание сенатора, а потом члена государственного совета, Пестель настойчивым образом требовал самых жестоких наказаний тем лицам, которых преследовал. Страсть его к преследованию доходила до мелочности. Нередко сибирские судные дела переходили в общее собрание сената и в государственный совет, единственно по несогласию Пестеля с решением других сенаторов» (Истор. свед. Стр. 7). «Крайнее самолюбие, страсть к произволу, потворство своим любимцам, неумолимая мстительность – вот были отличительные черты Пестеля», – говорят материалы. Личное бескорыстие Пестеля было подвергнуто большому сомнению. «Не верьте бедности моего предместника», – писал Сперанский.
Но если Пестель мог простирать гонения на лиц сильных и значительных, то в преследовании менее значительных обывателей и подчиненных он переходил все границы. Произвольные действия Трескина на первых же порах вызвали сопротивление иркутского общества. Хозяйственная регламентация жизни и вмешательство Трескина превзошли все ожидания, как ни приучены были сибирские жители ко всякому вмешательству предшественниками Трескина. Трескин вздумал распланировать и перестроить заново Иркутск, который не славился в это время опрятностью, и решился провести это дело необыкновенно энергично. Он приказал к такому-то времени все старые дома сломать, а когда хижины не были снесены, то к сломке приступила полиция (Т. I. Стр. 573–574). Он обходил город, заходил к жителям, вмешивался в хозяйство, пробовал кушанья, чинил расправу, ежели что дурно приготовлено (Стр. 573). Он преследовал, говорят, питье чая, запрещал в огороде садить табак, насильственно заставил бурят заниматься земледелием и, наконец, пробовал отвести реку, затопляя суда. В одной из жалоб, поданных на него, говорится: «Господин генерал-губернатор Пестель и губернатор Трескин приказали собирать в полицию в городе купеческих и мещанских, а по деревням крестьянских дочерей под тем предлогом, чтобы отдавать их в замужество за поселенцев, и что одним только отцам, матерям и родственникам известно, чего стоила свобода, сопряженная с бесславием детей их» (Записка Сибирякова. Прилож. к истор. свед. Вагина. Стр. 547). Иркутское общество, приучавшееся уже ранее заявлять свои жалобы и пытавшееся к обнаружению злоупотреблений и неправды в Сибири при Якоби и Леццано, выставило кандидатом в головы Михаила Ксенофонтовича Сибирякова, личность умную и уважаемую в городе. Такой представитель общества не мог быть приятен Трескину; он видел, что общество хочет с ним бороться. Придравшись к прежней подсудности Сибирякова, он предложил выбрать другого, но дума объявила, что она «делает новые выборы единственно из повиновения распоряжениям начальства». В то же время дума и магистрат отказались исполнить требование назначения купцов при осмотре пушных товаров, опираясь справедливо, что это неустановленная повинность. Таковы были официальные причины, которыми было прикрыто неудовольствие Трескина и Пестеля. Но тайные причины состояли в подозрении Сибирякова и Мыльникова в составлении доноса, посланного в министерство внутренних дел на действия губернского начальства.
Действительно, Трескин и Пестель выставили Сибирякова и Мыльникова «вредными нарушителями общественного спокойствия» пред высшим начальством. Пестель при этом решился оклеветать общество и указать, что благому его управлению мешают только безнравственность и пороки управляемых. «Какое местное начальство может установить порядок общественный там, где разврат и самовольство состязаются с законными распоряжениями, – писал он во всеподданнейшем рапорте 1808 г., – где уже меры кротких взысканий тщетно были испытываемы и где дерзость укоренилась в средоточии общественном? Одни только примеры неупустительного строжайшего взыскания с неповинующихся могут подать способы и надежду восстановить по времени колеблемое развратом спокойствие, которого желают многие, но которое теряется в собственном их расположении к заблуждениям». Пестель просил поэтому подвергнуть общество «чувствительным и примерным взысканиям», Сибирякова же «за явное возмущение и проч.» в пример другим, как равно и Мыльникова, разослать по уездным городам Иркутской губернии. Добившись их ссылки как бы «в насмешку над сосланными», Трескин доносил, что им выбраны города, удобные для продолжения коммерческих оборотов, но вместо того им не выдавали даже паспортов, прошения не принимались. Когда родственники Сибирякова хлопотали в Петербурге, Пестель храбро и бойко отписывался, что «иркутское общество только без них может находиться в спокойствии». Вступился за Сибиряковых Сперанский, бывший тогда в силе, вступился Державин, но Пестель умел представить все по-своему и даже постоянно обижался запросами. Сибиряков так и умер в ссылке.
Установив в глазах правительства свои воззрения на ябедников, Пестель и Трескин уже смелее начали преследовать своих врагов. Мы не имеем возможности подробно излагать все случаи, занесенные в материалы, даже в сухом изложении полные самых потрясающих подробностей и напоминающих какую-то мартирологию, да это и не относится к нашей цели, имеющей в виду рассмотреть только самую систему местного управления до Сперанского, не останавливаясь на частностях. Достаточно сказать, что так же, как в Иркутске, Сибиряков и Мыльников, в Тобольске нарушителем тишины выставлялся купец Полуянов. При Пестеле же был отдан под суд откупщик Передовщиков, взявший винные откупа в Сибири, которые Трескин предварительно отдал уездным местным откупщикам.
Председатель уголовной палаты Гарновский и прокурор Петров протестовали против неправильного начатия дела, но были удалены от должности. Передовщиков же притеснялся на допросах, его заставляли подписывать показания против себя и, наконец, разорив, сослали в каторжные работы (Ист. свед. Стр. 20–22 и прил.). Такие поступки власти не могли возбудить в местном населении особенного расположения к ней. Кроме того, у Передовщикова, Сибирякова и Мыльникова были родственники, знакомые, приверженцы. Все это называлось «партией недовольных», и употреблялись все меры, чтобы уничтожить ее. Из Иркутска были высланы брат Сибирякова в Жиганск и за ним купец Дубровский. Подвергся преследованию купец Киселев, человек умный, смелый и горячий. Не было благовидного повода поступить с ним, как с прочими, поэтому придумали другой способ. Киселева объявили сумасшедшим и посадили в больницу. Там он пропал без вести. Народная молва обвиняла в этой смерти Третьякова, доверенного и любимца Трескина, который был тогда смотрителем больницы. Гонения обрушились даже на людей мелких и незначительных, как, например, на какого-то титулярного советника Петухова; служа в уездном суде, он решил дело не так, как хотел Пестель. Петухов этот протестовал против решения уездного суда, постановленного в угоду губернатору: за это он был отрешен от должности, а когда он подал жалобу на высочайшее имя, – это послужило поводом к ссылке его в Туруханск, потом – в Мезень. Но и здесь преследует его Пестель. Когда он принят был в Мезени на службу, Пестель просит сослать его в Колу, «так как мезенская округа граничит с Тобольской губернией, и потому пребывание Петухова вредно для Сибири». Это была последняя попытка повредить Петухову. Пятилетние преследования потрясли его, несчастный сошел с ума. «Мы сообщили только крупные факты, – говорится в конце материалов г. Вагина, – которые в свое время наделали большого шума, которые заверены и официальными актами, и записками современников, и преданиями. Но сколько личностей, подобных Петухову, страдало и гибло бесследно, не сохранив о себе известий даже в архивной пыли!» Множество чиновников отдавалось под суд по самым ничтожным причинам: один – за неправильную переписку прошений, другой – за продажу чужой телеги, третий – за неприличные проступки, короче, за пьянство. Основною же причиной были подозрения в недоброжелательстве начальству. Трескин держался в этом случае такой тактики: он дозволял чиновникам наживу и злоупотребления, но тем самым держал их в руках. При малейшем недовольстве он их упекал. В этом случае прощались взятки, и всегда наказывались донос и недовольство.
Вся система Пестеля сводилась, таким образом, к тому, чтобы в Сибири предоставить своему губернатору распоряжаться при помощи огромной власти по своему усмотрению и во избежание жалоб подавлять их на месте, а что доносится в Петербург – самому перехватывать и перерешать. Таким образом Пестель отрезал Сибирь от всякого правосудия. Во время своего управления он устроил строгий надзор за всем, что писалось из Сибири; он оцепил Сибирь таможнями, начал перехватывать письма, тушил прошения и бумаги в присутственных местах, наконец, обрушился на челобитчиков. Благодаря этому долго не доходило ничего до высшего правительства без ведения Пестеля, который всему давал свои объяснения. По словам старожила С.С.Щукина, Трескин не мог видеть, чтобы печатали что-нибудь из Иркутска в газетах, особенно о ценах на хлеб, которые он выставлял по-своему. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь вел переписку с Петербургом, и, заподозривши, например, в этом монголиста Игумнова, «образованнейшего человека своего времени», как сообщает г. Вагин, его начали притеснять, отдали под суд, отрешили от должности и запретили въезд в Иркутск. «Ужасными мерами уничтожения непокорных, – говорит современник, выписка которого приведена в материалах, – при неограниченном доверии высшего правительства к представлениям Пестеля или – что все равно – Трескина в Иркутске наконец все части попали если не в формальную, то, по крайней мере, в политическую зависимость от губернатора, не исключая ни военной, ни даже духовной» (Т. I. Стр. 32). Таким образом, рядом с развитием злоупотреблений усиливались и самовластие, и сила Пестеля. Произвол и злоупотребления существовали не только в Иркутске, но и в других частях Сибири. Своеволие от губернаторов усваивали и подчиненные так бывает всегда. Енисейский городничий, по словам Корфа, катался по городу на чиновниках за то, что они осмелились написать просьбу об его смене. Охотский начальник самовольно удаляет от должности своих чиновников. Третьяков, Геденштром берут пример расправы с Трескина. Лоскутов дошел до такой необузданности и смелости, что высек нижнеудинского протоиерея Орлова плетьми. «Но не одни только личные преследования были отличительною чертою сибирского управления за время Пестеля. Управление это представляло поразительный пример самых вопиющих беспорядков и злоупотреблений, приведенных в систему», – пишет далее г. Вагин. Даже и там, где выражалось стремление к внешнему порядку: чистоте улиц, правильной постройке домов и т. п., даже и там стремление это выражалось действиями, явно противными тем самым законам, которые оно, по-видимому, старалось исполнить. Некоторые отрасли по управлению были крайне запущены. По всей северной окраине Сибири народ в буквальном смысле умирал с голоду. По Иркутской губернии Трескин ввел насильственные закупки хлеба и казенную монополию хлебной торговли. Наконец, повинности населения были в высшей степени обременительны. Средством скрывать эти беспорядки служило постоянно представлять отдаленный край в самом цветущем положении и закрывать глаза бюрократическими отчетами, на которые был мастер Трескин. Все прикрывалось самой наглой официальной ложью. Пестель и Трескин обманывали не только правительство, но они хотели обмануть и местное население в противность тому, что последнее видело собственными глазами. Так, например, в 1807 г. Трескин опроверг слух, разнесшийся между жителями, что начальство не впускает крестьян в город для продажи хлеба, а жителей принуждают закупать хлеб в казенных магазинах. Трескин публикует, что запрещений таких не было, и доносит Пестелю, что слухи эти идут «от известной и оглашенной ябеднической партии». А между тем принудительная закупка хлеба во все время трескинского управления вошла в систему. «Жители Иркутска и окружающих селений очень хорошо знали, знает и потомство, – говорят материалы, – что у Трескина на бумаге делалось одно, а на деле другое». «Публикация эта имела в виду одну цель: пустить Пестелю пыль в глаза и предупредить доносы на новые злоупотребления» (Т. I. Стр. 34). Трескин искусственно повышал цены на хлеб, завел страшный скуп его, монополии, отдал их в руки комиссаров и купцов, выставлял фальшивые цифры о ценах и в то же время доносил об увеличивающейся производительности края и его благосостоянии. Последствием монополий и злоупотреблений по продовольственной части на отдаленных окраинах происходил ужасный недостаток в хлебе, начинался голод. Так, в 1811 г., а потом в 1815–16 годах, в Туруханском крае между инородцами обнаружилось людоедство. Но когда начали доноситься слухи об этом в Петербург, Пестель представлял огромные книги с бюрократическими отчетами и уверял в противном. Массами фальшивых сведений и перепиской он старался закрыть правительству глаза. Точно так же он отбивался и от всех жалоб, называя их клеветою и доносом. «Но если и был кто самым вредным и опасным доносчиком, – говорят материалы, – то разве один Пестель. В своих донесениях он осыпал клеветами сибирское население и показывал все правительству в превратном виде. В такое мрачное время стоном стонала Сибирь, и особенно Иркутская губерния» (Т. 1. Стр. 34).
Останавливаясь на этой эпохе, предшествовавшей ревизии Сперанского, мы невольно поражаемся массою злоупотреблений, обрушившихся на этот отдаленный и бедный край. Управление Пестеля нам рисуется каким-то темным пятном на фоне сибирской истории. Оно действительно кажется мрачно и поразительно, но это потому, что мы представляем его отдельно, без связи с предыдущей историей, как оно рисуется нам в материалах. Но, смотря ныне более хладнокровно и с исторической точки зрения, мы не найдем в нем ничего более обыкновенного, ничего, принадлежащего исключительно системе Пестеля и Трескина. В сущности, оно руководствовалось теми же правилами и традициями, как и предшествовавшие; оно было плодом системы и отражало все черты управления, давно укоренившегося в Сибири. Управление Пестеля было только окончательным и более решительным применением системы, подготовленной ему в том же направлении предшественниками. Последствия этой системы отражались таким же образом и ранее. «Не в этой одной эпохе, которая подверглась ревизии, обнаружены злоупотребления, – писал Сперанский Кочубею из Сибири, – и нельзя утверждать, чтобы при прежнем управлении Сибирь была в другом или лучшем положении. Напротив, с переменою людей переменялись только виды и степень злоупотреблений». Таким образом, Сперанский с высоты государственной точки зрения уже определил управление Пестеля как часть предшествовавшей системы. В управлении Пестеля действительно как в спектре отразились все крайности сибирской истории. Присущие его времени злоупотребления были в связи с административным порядком целой эпохи и основывались на свойствах управления, давно принятого. Главными недостатками этого управления могут быть отмечены ясно самовластие и произвол. Произвол этот развился естественно при том просторе действий и власти, какие сыздавна им давали огромные уполномочия. Власть воевод, губернаторов и генерал-губернаторов постоянно усиливалась, расширялась и подчинила все ведомства. Все предоставлялось личной воле и усмотрению администратора, конечно, имея в виду сообразование с законами и справедливостью. Но правитель незаметно терял почву и приобретал привычки действовать по личному произволу. «Власть личная нередко обращается в самовластие, – писал Сперанский по поводу управления Сибирью. – Люди с лучшими намерениями могут ошибаться, могут увлекаться личными взглядами – и, действуя по совести, действовать противозаконно» (Истор. свед. Т. II. Стр. 321–322). Действительно, эти черты произвола быстро усваивали люди при огромной власти в отдаленной стране. Личность здесь пользовалась тем, в чем не была ограничена, ее поведение было продуктом того положения, в которое она ставилась. Правители, недурные в России, преображались, являясь в Сибирь. «До 1819 года нигде не было такой преклонности к самовластию и жестокостям над подчиненными, как в Сибири у некоторых начальников, высших и средних, – высказывал свое мнение граф Блудов. – Все они были посылаемы туда из внутренних губерний, и казалось, что не только со вступлением в отправление им данных в сем крае должностей, но непосредственно по переезде через Урал в них исчезало всякое к ним сострадание» (Истор. свед. Т. I. Стр. 31–32). Тот же грозный Трескин является другим человеком в другой обстановке. «Долг справедливости обязывает сказать, – говорит историк, – что как частное лицо Трескин считался весьма добрым человеком и что впоследствии, когда он был уже отрешен от должности и жил в своей деревне, в нем не было и следов прежнего иркутского деспота» (Мат. Т. 1. Стр. 11).
Селифонтов, плакавший над Сибирью, точно так же преображается здесь. Правители вследствие своего положения понемногу сами начали убеждаться, что действительно все зависит от их личной воли. Они становились нетерпимы, своевольны, понемногу в управление они вносили свои личные страсти. Увлекаясь положением, они сами из себя создавали вице-роев, обставляли себя пышной обстановкой, требовали абсолютного поклонения, торжеств в честь свою и полного обожания. Закон и правительство они отодвигали на второй план, выдвигая только свою особу, внушая жителям, что только от одних их все зависит. Нигде так начальство не приучало преклоняться себе, как в Сибири, нигде оно не упражнялось более в самовластии, как здесь. «Сибирь не испытывала крепостного права, – говорит один из историков, – но она испытала гораздо худшее – административный произвол, так же, ежели не хуже, воспитывавший общество». Привычки своеволия распространились и на низших исполнителей; они шли от губернатора до отдельного заседателя. Если первые ограничивались безусловным приказанием и требованием покорности, последние вводили дисциплину и внушали к себе уважение страхом. Только одного Лоскутова почему-то прославили, но Лоскутов был один из типов того времени. В Западной Сибири был подобный же заседатель Ярцев. Сам образованный Геденштром высказывает мнение после Сперанского, что «филантропия неуместна в Сибири», «она вреднее холеры», что положение алтайских горных крестьян лучше, ибо горные правители «управляют крестьянами как хозяева и лозами могут, если хотят, принуждать к добру» (Истор. исслед. Т. II. Стр. 317). Это был общий взгляд тогдашних администраторов.
Таковы были и средства управления. Результат самовластия заключался в неограниченности власти главных сибирских правителей и в примерах необузданности, подававшихся низшим.
Второю главною чертою управления этой эпохи является наклонность к самой широкой регламентации, проходящей чрез всю историю. Новозавоеванный и пустынный край действительно сначала требовал устройства и деятельной инициативы правительства. Его необходимо было снабжать продовольствием, основывать промыслы, водружать гражданственность, но впоследствии привычка распоряжаться общественною жизнью вошла в нравы правителей и принята была за необходимую принадлежность управления. На Сибирь постоянно менялись взгляды, а поэтому предписывались новые меры и производились беспрестанные эксперименты. Сначала Сибирь считалась колонией звероловной, затем с начала XVIII века на нее имеют виды как на колонию горнозаводскую, далее обращают ее в колонию штрафную, потом земледельческую, наконец, примешиваются виды торговли с Азией и т. д. Все это давало случай каждому из администраторов вводить свои планы и перестраивать принудительно жизнь общества. Достаточно припомнить такие опыты, как десятинную пашню Сомойнова с приписью 3400 бобылей в обязательные работы, обязательное сеяние пеньки, приписки и переселение людей на рудники и заводы, чичеринское проведение дорог на Барабе, неудавшуюся ланд-милицию Леццано, в Камчатке искусственное создание казачьего войска с приписью крестьян и поселенцев, бесчисленные опыты устройства ссыльных, принуждения бурят обращаться к земледелию при Трескине, учреждение и распорядок лоскутовских поселений, продовольственное снабжение инородцев, казенные монополии, поддержание монополии и привилегий частных, как русско-американской компании, кяхтинского торга и проч., и проч. Регламентация частной жизни в прошлом столетии доходила до необыкновенной мелочности. В прошлом столетии делаются приказы не отлучаться крестьянам на ночь из дома; один управитель, как Леццано, заставляет обсаживать города березками, другой, как Трескин, планирует вновь город, ломает дома, отводит реку, преследует сеяние табака в огородах, вмешивается в домашнюю жизнь, преследует питье чаю. Лоскутов приписывает молитвы крестьянам, дает инструкции, как печь хлеб, ревизует квашню и т. п. Губернатор Чичерин с командою ездил наблюдать около города за полевыми работами крестьян. Наконец, при Трескине казна покупает весь хлеб в магазины для продажи частным лицам по высшим ценам ввиду «поощрения к хлебопашеству». Можно представить при этом, какие размеры принимала регламентация, как действовала на общество и какой простор давала злоупотреблениям.
Развитию злоупотреблений в стране способствовали ее отдаленность, отсутствие контроля и невозможность создать его. Власть сильная кому-нибудь должна была быть поручена. Обыкновенно она поручалась одному лицу. Это единоличное правление могло менее всего способствовать надзору и выбору безукоризненных агентов. На Сибирь, кроме того, утвердились с самого древнего времени воззрения, как на завоеванную и промышленную колонию. Нажива и побор развились сыздавна. Дух спекуляции переходил с частных лиц и на служилых людей. Воеводы торговали мехами, вином, зернью и проч. Они делали бесцеремонные поборы; впоследствии после преследований и кар, а также с учреждением бюрократического управления с Петра побор стал утонченный и скрытый. Нравы прежних служилых людей перешли и к старым приказным, при крутой реформе Петра, от бояр-воевод[126]
[Закрыть] к губернаторам. Отдаленная страна представляла все шансы скрывать злоупотребления. В случае доносов и жалоб канцелярский мир прикрывался целыми массами бумаг, запутывал дела перепиской, и казуистическая процедура облегчала выход взяточникам. Невозможно было уследить за подчиненными ни главному начальнику, ни правительству за главным начальником. Контингент служащих людей был постоянно один и тот же в отдаленной провинции, и людей добросовестных негде было взять. Существовало одно приказное сословие, которое только постоянно переливалось и перетасовывалось. Новые начальники привозили с собою свежих чиновников, но это всегда оказывались любимцы, на которых еще менее простирался контроль и которым еще более дозволялось, как Трескину. Надо заметить, что злоупотребления были источником настолько же обогащения и частных лиц. В Сибири промышленные люди создали кабалу и рабство инородца, торговое сословие жило монополиями. Все это было в связи с администрацией и взаимно друг друга деморализировало. Купцы в этом случае искали поощрения у правителей, закабаляя крестьян и инородцев, а правитель опирался на общество и устраивал стачку с богатыми. Так было при Трескине, который давал случай наживаться одним купцам и преследовал других. В злоупотреблениях были замешаны целые сословия. Правительство не могло знать, что совершается в Сибири, и скоро администраторы здесь выработали целую систему представлять и сочинять картину совершенно иную, чем представлял край. Отсутствие гласности представило все удобства для развития злоупотреблений.