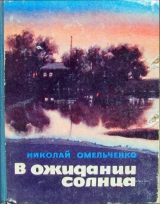
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
10. Воспоминание о шукшине
Коберский открыл балкон, чтобы выветрился табачный дым. По-прежнему сеял дождь, но все уже, видимо, свыклись с ним, город жил своей привычной вечерней жизнью: хлопали дверцы такси, натужно гудели, набирая скорость, троллейбусы, из сквера доносились звуки гитары, а в соседней подворотне ворковал чей-то неокрепший басок, перебиваемый прыскающим девчоночьим смехом.
Становилось зябко. Коберский прикрыл балкон, погасил большую, круглую, со слабыми тусклыми лампочками люстру, включил на тумбочке у кровати яркую настольную лампу, разделся и, съежившись, нырнул во влажные простыни отсыревшей постели. У него уже стало привычкой перед съемками ложиться рано. И он умел засыпать быстро, несмотря на то, что не шли из головы мысли о завтрашней съемочной площадке. Вот и сейчас он выронил газету, потянулся к лампе и выключил ее. Но почти в тот же миг раздался осторожный стук в дверь.
– Да не закрыто! – раздраженно проворчал Аникей Владимирович, полагая, что это вернулся Осеин (потому-то и не запирал дверь).
Но в ярко осветившемся проеме дверей появилась женщина и тут же быстро отпрянула.
– Ох, извините!
Он узнал голос дежурной.
– Да входите, если разбудили, – сердито сказал Коберский, чувствуя, как улетучивается сон.
– Извините, бога ради, Аникей Владимирович, никак не думала, что вы уже спите, – виновато лепетала женщина.
– Да входите же! – Он включил свет.
Она вошла, все еще извиняясь.
– Что случилось?
– Понимаете, – смущенно заговорила дежурная, – тут мы поспорили… «Калину красную» – это Шукшин про себя делал или как? Ко мне подруга пришла, ну и говорит, что это он про себя, из своей жизни, из биографии, значит… А я и говорю – нет, он был учителем в школе, потом ВГИК окончил, сама ведь читала.
– Почему же вы ей всего этого не объяснили? – еще больше рассердился Коберский и закурил.
– Да она говорит, мало ли что напишут. У нее, мол, сосед из заключения вернулся, дак вместе с Шукшиным отсиживал, вместе лес валили, в хоре лагерном пели, а освободили их по амнистии. Я, говорит, сюда подался, а Шукшин прямо в Москву, кино про это снимать… А я отвечаю, вот Аникей Владимирович его, должно, хорошо знает. Я вас в журнале на фотографии с ним видела.
– Скажите вашей подруге, что я подтверждаю ваши слова, что ее ввели в заблуждение, – раздраженно ответил Коберский.
– Спасибо, большое спасибо, – благодарно и даже как-то победно закивала дежурная.
Сна как не бывало. Может, спроси дежурная о ком-нибудь другом, он все же сумел бы себя заставить спать, но сейчас даже не старался: встал, надел шерстяной спортивный костюм, открыл балкон, взволнованно закурил и думал с грустью: «Вот и о тебе, Василь, уже сочиняют небылицы, а значит – слава. При жизни робко она шла к тебе. Читали Шукшина-писателя, знали Шукшина-актера, меньше – Шукшина-режиссера. Ярко бросилась в сердце «Калина красная», фильм мученический. Да и другие тебе давались нелегко, как и всем, кто шел в искусстве непроторенной тропкой…»
И ему вдруг вспомнился Шукшин – не таким, каким он был в последние годы, всегда усталым и немного больным, а совсем молодым, каким запомнил его с первых встреч, еще мальчишкой. Эх, надо бы все записать, чтобы осталось, – возможно, кто-нибудь когда-нибудь прочтет…
Аникей подсел к столу, открыл записную книжку и стал торопливо писать: «Я познакомился с Василием Шукшиным в конце пятидесятых годов, летом, еще будучи мальчишкой, во дворе Одесской киностудии…»
Ему не понравилась такая протокольная сухость, хотелось по-другому, ведь это было не просто знакомство с будущим товарищем и коллегой, а начало всех начал, это, в конце концов, было детство и его голубая колыбель – Одесса.
И Аникею вдруг показалось: это было так давно, что тот худенький белоголовый мальчишка совсем не он, Коберский, а кто-то другой, хотя очень-очень знакомый и чем-то странно похожий на него. Может быть, поэтому он и начал от третьего лица…
«Мальчишка жил неподалеку от киностудии в узком переулке, начинавшемся у Пролетарского бульвара и круто сбегавшем к морю. Дворы переулка в пыльных акациях были обнесены заборами из желтого, пористого, как пчелиные соты, камня, добытого из чрева Одессы – катакомб. Мальчишка, как и все его сверстники-одесситы, больше всего любил море, до неправдоподобия синее в солнечные дни и свинцово-печальное в непогоду. Когда ветер дул с моря, он вместе с крутыми волнами, перевитыми водорослями, прибивал к берегу множество мелких кисельно-скользких медуз, купаться становилось неприятно, и мальчишки устраивали игры или просто лежали на горячей гальке, бродили по опустевшему, словно осенью, пляжу.
Как-то в один из таких дней играли в прятки. Мальчишка убежал дальше всех, к киностудии, даже поднялся к границе ее владений и спрятался в каком-то сломанном контейнере, в котором сладко пахло конфетами. И тут же услышал насмешливый голос:
– Эй, ты что тут делаешь? На ночлег устроился, что ли?
– Прячусь, играем мы…
– А на мороженое заработать хочешь?
– А чего же…
– Тогда держи, – парень лет двадцати двух протянул ему сачок и ведро. – Вытащи десятка полтора медуз, только чтоб живые были, не мятые… Принесешь наверх, к съемочной площадке у бассейна.
Мальчишка вприпрыжку побежал к морю, вмиг позабыв и об игре, и о приятелях: ведь сейчас он увидит место, где снимают кино! Не раз он уже пытался заглянуть в этот таинственный двор, но проникнуть туда с улицы мешал забор, а с моря – собаки на цепях, прикрепленных к проволоке вдоль границы студии. Когда он с ведерком медуз поднимался на гору, одна из таких собак лениво вышла ему навстречу. Мальчишка остановился.
– Давай, давай, не дрейфь! – крикнул парень из толпы киношников у бассейна. – Она не тронет.
– Ага, не тронет! – недоверчиво обходил собаку мальчишка, хорошо помня, с каким остервенением эти цепные сторожа бросались на него и его сверстников, когда те пробегали мимо по берегу.
Тем не менее, собака и в самом деле равнодушно, с сытым подвыванием зевнула и вернулась к своей будке.
– Чего это она такая? – удивился мальчишка, отдавая парню сачок и ведро с медузами.
– Ученая. Когда людей много, понимает, что идет работа, съемка, вот и не трогает. А когда крадется какой-нибудь бездельник, вмиг цапнет за штаны!
– Ты чего там застрял, сейчас солнце зайдет! – донеслось сердитое из толпы киношников.
Парень бегом метнулся к бассейну, а мальчишка несмело пошел следом, то оглядываясь на собаку, то высматривая место, где можно было бы остаться незамеченным и поглядеть, для чего киношникам понадобились эти медузы. Очень любопытно было! Впрочем, все тут были настолько заняты работой, так торопились, поглядывая на небо, где к солнцу подползла огромная синевато-сизая туча, что никому не было никакого дела до чумазого одесского мальчишки.
Зато все внимание было сосредоточено на другом мальчике: лет пяти-шести, круглолицем, с ямочками на щеках, как у девчонки, с курчавыми, желтовато-белыми, как морская пена у прибоя, волосами. На него тут, видимо, все молились, слащаво улыбались ему, подмигивали, о чем-то ласково просили, как милостыню у капризного принца, – и человек в берете со съемочной камерой в руках, то припадавший на колено, то взбиравшийся на растопыренную лесенку и оттуда целившийся объективом вниз, и парень, посылавший за медузами, а теперь аккуратно опускавший их в бассейн, вокруг которого толпились люди. А мальчик, хмуро прислушиваясь к какому-то моложавому дяде с редкой седой бородкой, стоял в бассейне по шею в воде и трусливо тянул к медузам руки.
– Так, так. Хорошо, хорошо! – обрадованно кричал седобородый. А потом уже тише, с сожалением. – Эх, а все же в море было бы лучше, с волнами куда эффектнее!
– Да нельзя, нельзя, – раздраженно отвечал ему кто-то, – в море не очень спокойно, малыш не устоит, побьется о камни, а волны мы и тут сейчас устроим, соорудим!
– Да дело не в волнах… Ну, начинаем! Опустите бассейн ниже, чтобы как раз на одной плоскости с морем…
Мальчишка увидел, что бассейн вместе с медузами и дрожащим малышом вдруг стал опускаться, а вода в нем такая же синяя, как и в море…
И только потом, год спустя, когда увидел фильм и узнал этого мальца, он понял: бассейн опускали для того, чтобы его вода слилась с фоном моря. В кино получилось так (что бесконечно удивило и восхитило мальчишку): в большом, безбрежном синем море плыл малыш, храбро расталкивая большие медузы, норовившие присосаться к нему…
Съемки в этом уголке киностудии велись не часто, мальчишка уже знал это. Всякий раз, как только к морю доносилась знакомая команда «Мотор!», он бежал сюда, уже смело проходя через заслон из сторожевых собак. И скучал, когда киношники долго не появлялись. Ему очень хотелось еще заглянуть в большие павильоны, где вообще, наверное, творились чудеса. Парень, который посылал его за медузами, однажды даже пообещал провести туда. Он, как позже узнал мальчишка, был вторым режиссером, все звали его странным именем – Цаля; трудно было вообще понять, имя это, фамилия или просто кличка. Но Цаля так и не выполнил своего обещания, группа вскоре уехала из Одессы. Сделал это другой человек, хотя того, первого, попросившего собрать ему медуз, мальчишка помнил всегда, даже когда вырос…
Как-то, когда одной из собак почему-то не было – на проволоке висела лишь ее цепь, мальчишка все же решился проникнуть дальше того уголка, где стоял теперь уже пустой, полузасыпанный мусором бассейн. Шел он осторожно, посматривая по сторонам и оглядываясь, однако тут же наткнулся на человека. Мелькнуло трусливое: «Охранник!» Форма у этого дяденьки была подходящая: кирзовые сапоги, гимнастерка, галифе, причем все поношенное, выгоревшее. Ко всему еще и усы, в то время их мало кто носил, разве что старики да охранники.
Усатый держал руки в карманах и, чуть-чуть кривя улыбкой губы, спросил насмешливо:
– Ну, че уставился?
– Заблуди-и-ился, – протянул мальчишка первое, что нашлось из арсенала спасительных слов.
– Заблудился? В трех-то соснах? – Мужчина вынул руки из карманов, засмеялся и кивнул на сосны: их в этом месте действительно было три.
Мальчишка молчал.
– Знаю я вас, – хмурясь, сказал усач, – говори лучше правду, зачем тут шастаешь, коробки от пленки нужны или еще что?
– Ей-богу, дядя охранник, заблудился, – уже чисто по-одесски, просительно оправдывался мальчишка.
– Охранник? – снова рассмеялся тот. – Я похож на охранника? Нет, брат, ошибаешься… Костюм-то у меня солдатский, солдат я, хотя и бывший…
Мальчишка, поняв уже, что опасность миновала, спросил сочувственно:
– На «губе», что ли?
– О, да ты, браток, грамотный, знаешь даже, что такое «губа»?
– Читал.
– Но почему я похож на солдата, которого посадили на «губу»?
– Без погон и без ремня.
– И-и-ить ты, даже такое тонко знаешь. А на студию-то все же зачем, а?
– Просто посмотреть, – со вздохом сознался мальчишка. – Мне тут один пообещал показать, да вот уехал.
Они уселись под соснами на большом камне, подбитом сухим беловатым лишайником. У изножий деревьев сквозь плотную осыпь сосновых игл пробивалась редкая, жесткая, как и хвоя, трава. Усач вырвал травинку и, пожевывая ее, внимательно посмотрел на мальчишку:
– Вот теперь верю. Я привык, чтобы мне правду говорили ребятки. Директором школы когда-то работал…
– Вы-ы-ы? – снова уловив в глазах усача насмешку, со смелой недоверчивостью переспросил мальчишка.
– Не веришь, не похож?
– А почему солдат? Директор, если и пойдет служить в армию, то обязательно офицером будет.
– А вот я, брат, совсем другой. Рядовой я, может, когда-нибудь еще и генералом придется, а пока что – рядовой. Тебя-то как зовут?
– Аник.
– Ить ты, выходит, тоже воин. Аника-воин. Знаешь? Слыхал про такого?
– Читал. А вас как?
– Меня? Федором меня зовут.
– А отчество?
– Отчества пока что у меня нет, я еще молод, но будет, со временем будет, как и у всех…
Из-за дальней беседки вдруг появился какой-то юркий мужчина и крикнул:
– Василь! Васенька, вечно ты уединяешься. Мы тебя уже ищем, пора гримироваться.
– Ну, бывай, – протянул руку мальчишке Федор-Василь. – Приходи сюда завтра в это же время, может, что и удастся показать…
Хотя артист, как уже понял мальчишка, не назвал своего настоящего имени и, по детским понятиям, обманул его, Аник все же почему-то поверил, что тот сдержит слово, придет и обязательно покажет ему киностудию. Не поколебалась в нем эта вера даже тогда, когда артист не пришел вовремя на следующий день. Ждать пришлось долго и не под теми соснами, где они сидели в первый день, а у границы студии, на июньском солнцепеке; к соснам он пройти не смог – все собаки оказались на месте.
Уже и солнце стало скатываться к горизонту, когда мальчишка наконец услышал:
– Эй, Аника-воин, ты еще ждешь?
– Жду, – обрадованно подскочил тот.
– Ну, пошли, коли ждешь.
Артист подал мальчишке руку, помогая взобраться на крутизну подъема. Тут же, гремя цепью, подбежала собака, но не залаяла. Правда, и угодливо хвостом не помахивала, просто смотрела настороженно и испытующе, как всегда смотрят сторожа.
– Не укусит?
– Нет, – рассмеялся Василь, – если со мной – не укусит. Давай немного вот тут, где вчера, посидим. Люблю я это местечко.
– Почему? – удивился мальчишка, недоуменно разглядывая камень, подбитый, словно мехом, белым, высохшим на солнце лишайником.
Артист усмехнулся:
– Малость Алтай мне напоминает… Там у нас и сосны, только побольше этих и поветвистее, и камень тоже… но покрупнее. Знаешь Алтай, слыхал?
– Знаю, по карте… А моря у вас нет.
– Моря нет, – вздохнул Василь.
Мальчишке вдруг стало почему-то жаль его; скорее всего потому, что там, где жил или живет этот артист, не было моря. Аник смотрел на его лицо, чуть-чуть подгримированное – щеки розовенькие, а глаза, как у девицы, подведенные черным, на едва заметно выдающиеся упрямые скулы и думал, чем бы утешить этого человека, что бы такое хорошее сказать ему.
– Ничего, – приободрил обещающе, – и у вас море будет, сейчас везде моря строят!
– Ну, ну, не накаркай, – отмахнулся от него Василь. – Хватит нам на всех и этого моря. Ведь лучше-то человек не построит…
– Не построит, – согласился мальчишка, несколько смущенный тем, что не порадовал человека надеждой, а наоборот, сказал невпопад. – Такого синего никто не построит. А почему его назвали Черным, дядя? Оно ведь, наверное, самое синее среди всех морей…
– Его еще называли когда-то Русским. А Черное, говорят, потому, что в этих степях, у моря, когда-то жили племена, которых называли «черные славяне». Сами они, правда, были беленькие, вот такие, как мы с тобой, а одежды носили черные. Есть и еще предположения разные…
Коберский услышал, как кто-то, не стучась, вошел в номер. Щурясь после яркого света настольной лампы, он обернулся к двери и тут же услышал удивленный голос Осеина:
– Вы еще не спите?
– Засиделся, – буркнул Коберский, досадуя, что его так внезапно вырвали из того прекрасного мира, который зовется детством, разлучили с Одессой, с Василием Шукшиным, с которым так неожиданно свела его судьба в детстве. Нельзя сказать, что именно эта встреча и определила его судьбу. Аника-воин, даже побывав на студии, мечтал, как и каждый одесский мальчишка, стать моряком. Но потом все же случилось иное…
– Хотя бы отопление включили, – ворчал Осеин. – Промок до нитки, а посушиться негде… – От него пахло мокрой одеждой, вином и бараньим жиром. – Ну и дождяра, вот тебе и пустыня!
Мысли у Коберского смешались; он уже не в силах был вернуться к тому одесскому мальчишке, к морю, студии, но и не мог вот так бросить, не дописать, не в его это характере. Да и когда еще выпадет время и настроение?
Заканчивал Аникей свою запись совсем по-иному – уже не мог смотреть на то милое прошлое сквозь призму мальчишки. Дописывал от своего имени…
«В тот день я увидел огромные гулкие павильоны студии, побывал в гримерных, а в монтажной даже покрутил ручку моталки. Кто-то отозвал Шукшина в сторону, а вернувшись, он сказал доверительно и немного взволнованно:
– Понимаешь, разрешили мне на самого себя посмотреть…
– Как это? – не понял я.
– Ну, на ту роль, что я исполняю. Режиссеры поначалу не очень-то идут на это, уже в конце, когда картина почти готова, показывают. А тут вот разрешили…
Я молчал, не зная, уходить мне или ждать его. Молчал и Василь. Тогда я почти с обидой спросил:
– Картина-то хоть как называется?
– «Два Федора».
– А о чем она?
– О двух мужиках – маленьком и большом.
– А вы кого там играете?
– Большого, – вдруг покрутил ус Шукшин.
Мне почему-то подумалось, что усы у него приклеенные; даже стало немного не по себе – так всегда бывает, когда обнаруживаешь какую-нибудь фальшь.
– А ты не хочешь? – Шукшин хитровато посмотрел на меня.
– Что? – с замиранием сердца выдохнул я.
– Посмотреть материал? Он еще совсем не готов, и каждая сцена будет даваться в нескольких дублях. Зрителю эту кухню показывать и не следовало бы, но ты смотри, если уж хочешь что-то знать о кино. – Он почесал затылок. – В зал, конечно, тебя не пустят, но… будешь смотреть из проекции. Я договорюсь, там свой парень.
Я не знал, что такое «проекция», а она оказалась просто кинобудкой с двумя проекционными аппаратами и киномехаником – пареньком, который, как мне показалось, был ненамного старше меня. Я с ним даже заговорил на «ты», и он не обратил на это внимания, охотно все объяснял, как старому знакомому.
В квадратике крохотного окошечка экран был хорошо виден, но я долго не мог понять, о чем же фильм. По нескольку раз повторялось, как выбегает из школы детвора; женщина беззвучно шевелила губами, говоря какие-то слова, а в глазах ее стояли слезы; ехали в телячьих вагонах солдаты, пели песни, а у переезда стоял безногий на костылях и грустно провожал их глазами – это запомнилось надолго. И запомнилась мне еще сцена, которая повторялась раз пять. Федору-старшему, вернувшемуся с работы усталым и голодным, Федор-младший сварил курицу. С жадностью набросился на нее Федор-старший, но тут же узнал, что курица украдена у соседей. Тяжело на душе у старшего. Он бросает есть и говорит с упреком своему тезке: «Мы же с тобой рабочие люди…» Снова и снова повторялась эта сцена – и все повторялись эти слова, и все более хмуро выслушивал их Федор-младший.
Потом, когда я увидел картину полностью, мне почему-то было жаль, что сцена дается в фильме всего один раз, хотелось слушать ее еще и еще – странное желание, чем оно было вызвано, до сих пор объяснить не могу. Теперь, когда я отбираю дубли, они надоедают до тошноты и все время кажется, что именно того, самого нужного, лучшего дубля мы так и не сняли…
Встретились мы с ним через несколько лет. Он недавно закончил ВГИК, а я только-только в него поступил. Я следил за Шукшиным все это время, знал каждую его роль, прочел его первые напечатанные рассказы. Встретились мы с ним не во ВГИКе и не в Доме кино, где обычно встречаются киношники, а в журнале «Октябрь». Было в то время там что-то вроде литературной студии, а пригласил меня туда сокурсник со сценарного факультета, пописывающий рассказы. Мы, правда, опоздали, все уже закончилось. Из двери вышло несколько человек, среди них был и Шукшин. Когда он, распрощавшись с друзьями, остался один, я подошел к нему.
– Не узнаете?
– Нет.
Я напомнил ему Одессу, студию, «Два Федора». И тут он вспомнил, заулыбался.
– Ишь ты, во ВГИК поступил? Неужто я сбил тебя с пути праведного, соблазнил кинославой?
– Да нет, – пожал я плечами, – просто тут все как-то совпало. Увлекался в школе кинолюбительством, получил приз, заметили, рекомендовали…
– А я толкусь, толкусь – и никаких призов;– с тихим задором засмеялся Василь. – Только все учусь, учусь… все меня учат. Вот теперь сюда захаживаю… – он кивнул на здание, где помещалась редакция журнала «Октябрь».
– Читал, – сказал я, – мне нравится.
Он недовольно сморщился.
– Мелочи все это…
И после мы встречались не раз, уже как равные; но как-то вечно спешили, у каждого были свои заботы, даже водку иногда при встречах пили как-то наспех.
Последний раз мы виделись на киностудии имени Довженко в Киеве, встретились у парадных дверей, у вертушки, обнялись. Но поговорить не успели, я даже не знал, зачем он приехал в Киев, не успел рассказать о своих делах на студии – меня ждала машина, я, как всегда, куда-то опаздывал.
– Зайди, Аник, я в гостинице «Москва», триста шестидесятый номер.
– Зайду, – бросил я уже на ходу.
А он вслед:
– Вечерком заходи, завтра меня уже тут не будет…
Не зашел, что-то помешало… Это «что-то», которого я и не помню сейчас, казалось, наверное, страшно неотложным и важным, а с товарищем, мол, успеется, еще посидим, наговоримся, еще много будет встреч. Но их больше не оказалось… А теперь вот столько лет терзаюсь, и все не идут из сердца поистине бессмертные слова: «Ленивы мы и не любопытны…»
Коберский встал из-за стола, взволнованно заходил по номеру, хотел закурить, но сигаретная пачка снова была пуста. Подошел к Осеину – тот спал, укрывшись с головой. На тумбочке, рядом с очками, лежала пачка «Золотого руна», но в ней была всего лишь одна сигарета. Аникей скривился, но только махнул рукой – не станет же Осеин курить ночью, спит мертвецки, а ему закурить сейчас было просто необходимо…








