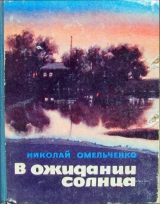
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
15. Леня и лев
Актер сразу же хорошо забегал по кафе. Как отличный слаломист, лавировал он между столами, виртуозно перебрасывал с одной руки на другую тяжелый поднос, уставленный дюжиной бутылок и еще какой-то бутафорией Единственным недостатком актера было то, что, играя, он пучил глаза да слишком театрально, на старинный лакейский манер, склонялся над столиками и говорил так, как говорят на сцене: хорошо поставленным голосом, слышным не только партеру, но и задним рядам галерки.
– Он не говорит, а изрекает, слишком много дешевого пафоса в голосе, – морщилась, хватаясь за наушники, Мишульская. – Да поубавьте же ему голос, он оглушит меня!
– Исправим, Лиля, – отмахивался Коберский.
Актер ему нравился, он оказался человеком способным и после нескольких коротких репетиций уже и глаза не выпучивал, и говорил человеческим голосом. Коберский был доволен, Мишульская тоже удовлетворенно молчала, но вот Лене Савостину пришлось туговато: акселеративно высокий актер из некоторых точек просто не мог полностью попасть в кадр – срезалась голова. Леня таскал по кафе камеру, злясь на тесноту помещения, покрикивая на осветителей, которые уже порядком взмокли, но по воле оператора безропотно таскали по залу тяжелые диги и все, что могло светить. Но все, что светит, как известно, и греет. В кафе стало так жарко, что у актера, привыкшего к лунно-холодному свету рампы, по лицу струился пот, да и сам Леня уже давно то и дело подносил к своему узковатому лбу аккуратно сложенный платок, пахнувший бензином от зажигалки.
Иногда Леня садился на скользкий пластиковый стул рядом с камерой, долго и, казалось со стороны, тупо смотрел на актера. Но все молчали, никто не торопил Савостина: все знали, что он что-то придумывает, что-то на ходу изобретает, что под его узким лбом напряженно работает талантливый мозг, а глаза – небольшие, круглые, со свинцовым отливом, как монеты, цепкие, – видят то, чего не видит никто из людей в этом кафе, где воздух уже прогрелся до температуры мартеновского цеха.
Савостин поднял руку с оттопыренными двумя пальцами, слегка повел ими в сторону, и бригадир осветителей мгновенно перекатил второй диг на полметра левее, зажег его – тот задымился, мигая и потрескивая. Леня махнул рукой, свет в диге погас. Савостин побегал по залу и снова уселся на стуле. И опять все молчали, хоть любой из группы мог бы поведать о Лене Савостине как об операторе много интересного. О нем, например, ходили легенды: снимая фильм с вертолета, висел в воздухе на веревке вниз головой, привязанный за ноги; в Южной Америке запечатлевал на пленку крокодилов под водой и т. п. Случались с Леней и курьезы, об одном из них все знают и часто рассказывают, уже многое привирая и разбавляя отсебятиной. А было все так…
Для одного из фильмов потребовался лев. Доставили его вместе с укротителем-дрессировщиком, который и стал дублером артиста, игравшего сценку со львом. Посадили зверя в клетку, сверху ее срезали почти налоловину, чтобы не видно было прутьев во время съемки. Снимали все это сверху, для этого Леню вместе с его кинокамерой плавно носила стрела небольшого автокрана. Все это было несложно, а вот со светом никак не ладилось: диги и лампы стоили за клеткой, и полосатые тени прутьев падали на льва и на дублера. Долго Савостин придумывал разные трюки со светом – все напрасно. И тогда он решил положить большую, в пятьсот свечей, лампу прямо в клетку. Положили ее в углу, подальше от зверя. Тот вначале занервничал, зарычал, недоверчиво поглядывая на яркое, невиданное им до сих пор солнце, потом попривык, успокоился, даже подошел поближе. Тепло ему, видно, понравилось, и перед тем, как все приготовились снимать сцену, а Леня повис со своей камерой над клеткой, лев подошел к лампе вплотную и даже прилег рядом, щурясь и позевывая. В огромном павильоне было прохладно, гуляли сквозняки, и лев вдруг чихнул. Слюна его попала на лампу, она лопнула – раздался мощный взрыв. Испуг швырнул льва на стенку клетки, та перевернулась, сбив своим решетчатым концом Савостина вместе с его камерой на пол. Лев перепрыгнул через оператора и, разъяренный, пошел носиться по павильону в поисках выхода. Все разбежались кто куда, а лев метнулся к приоткрытой двери, выбежал в коридор студии. У выхода дежурил пожарный и, как все его коллеги по профессии, которые, как известно, редко высыпаются, дремал. Услышав, что кто-то вышел, открыл глаза, но, увидев, что это лев, попросту не поверил (он не знал, что в павильон привезли зверя) и, видимо подумав, что это ему померещилось со сна, опять погрузился в дрему. Время было позднее, в коридоре никто не разгуливал, и все окончилось благополучно. Дрессировщик разыскал перепуганного льва где-то в темном углу, долго успокаивал его и даже, как он сказал, уговаривал вернуться в клетку, но безрезультатно. Да и вряд ли состоялись бы в тот вечер съемки – любимый киноаппарат Савостина был сильно поврежден…
– Ну что, ничего не придумаешь? – нетерпеливо усмехнулся Коберский. – Когда ты долго думаешь, у тебя обязательно что-нибудь получится этакое…
Он говорил тихо и, пожалуй, без каких-либо намеков, но вокруг раздались добродушные смешки – наверняка все вспомнили приключение со львом (тогда Леня тоже долго возился со светом).
А Савостин все сидел невозмутимо и, казалось, даже внимания не обращал на нетерпеливые жесты Коберского. Наконец, он решительно поднялся и приказал осветителям:
– Тащите сюда два стола, живо! Вон те, пустые, что в углу.
А когда их принесли и поставили один на другой, он забросил на них еще и стульчик, на котором до сих пор сидел, легко и проворно взобрался на эту пирамиду. Ассистент подал ему камеру, и все поняли по лицу Савостина, что им принято уже то решение, которое, как говорится, является единственно верным.
– Репетируем? – с опаской поглядывая на пирамиду, где уже гордо восседал Савостин, уточнил Коберский.
– Великолепно! – радовался Леня.
И снова началось то, на что очень скучно смотреть со стороны и о чем знает мало кто из зрителей, сидящих у экрана, но без чего не было бы кино.
16. Лиля Мишульская
Когда трудились, то и о дожде позабыли. Но вот все расселись по машинам, а мокрые, непросыхающие окна в них – словно из желтоватой побитой слюды: ничего сквозь них не видно. И здание гостиницы, потемневшее и какое-то нахохлившееся, казалось, стало меньше – может оттого, что перед ним разлилось целое море воды, которую не успевали принимать решетчатые колодцы у бордюров дорог. Вода охватывала здание со всех сторон, и когда налетали порывы ветра, она вскипала, пенилась, как на настоящем море, волны и брызги шлепались о стены, вселяя в сердца люден чувство беззащитного, тревожного одиночества. Может, подобное чувство ощущали не все, но к Лиле Мишульской оно пришло в тот день после съемок в кафе, тоской сжало сердце. Болела голова, и почему-то страшновато было оставаться одной в комнате, да еще сверлила мозг сердитая раздражающая мысль: почему не встретил машину Цаля? Такого еще не бывало, даже если он выпивал…
Торопливо помывшись, Лиля подогрела на электроплитке еще утренний жидкий кофе в кастрюльке, пожевала кусочек шоколадки, закурила и, нервно походив по комнате, решила разыскать Цалю. Кто же еще о нем позаботится, если не она?
В большом, как казарма, номере его не оказалось, ребята, которые жили с ним, сказали, что видели его только утром. Мишульская походила по коридорам, зашла еще в несколько номеров, потом робко постучалась к Мережко. Тот предупредительно вышел ей навстречу – вежливый, какой-то уютно-домашний в вельветовой куртке и таких же брюках, в каких-то турецких, с загнутыми носами, наверное, очень мягких и теплых комнатных туфлях. Пригласил сесть, угостил американской сигаретой. Лиля закурила и, резко, с придыханием выпустив изо рта дым, как бы пытаясь сдуть падающую на глаза рыжевато-красную, цвета ржавчины челку, спросила, стараясь не казаться очень обеспокоенной:
– Вы случайно не знаете, куда девался Цаля?
Мережко удивленно вскинул брови:
– Когда мы с ним расставались, он говорил, что хочет поработать. Что-нибудь случилось?
– Нет, нет, – глубоко затянувшись сигаретой, ответила Лиля. Она вспомнила, куда Цаля уходил работать из своего многолюдного шумного номера. – Теперь я знаю, где он, спасибо. Извините…
– Может, кофе?
– Только что пила, благодарю.
Она прошла в конец коридора и стала осторожно, неслышно подниматься по пыльной пожарной лестнице, ведущей на чердак. Ощущение беспокойства уже совсем прошло, наоборот – появилось ребяческое дурашливое желание предстать перед Цалей неожиданно, напугать его.
Цаля сидел на площадке у небольшого окна, опершись спиной о решетку перил, и что-то увлеченно писал в своей тетради. Даже сбоку было видно, что лицо его сияло от какой-то сосредоточенной улыбки. Рядом лежал его пиджак, к которому Лиля так и не успела пришить пуговицу. На цементном полу валялось множество окурков.
Лиле перехотелось пугать его, и она тихо присела на ступеньки. Окошко вдруг просветлело, в него ярким красновато-золотистым снопом ворвались лучи предвечернего низкого солнца, осветив Цалю, густо плавающие вокруг него пылинки и висящие над ним, чуть-чуть колеблющиеся пласты табачного дыма. А он и солнца не заметил, тем более, что оно тут же и спряталось. Писал и писал, потом, по-детски шевеля губами, перечитывал, снова улыбался, потирая лицо рукой. И Лиля тоже улыбалась вместе с ним, она поняла, что Цаля в эти минуты был счастлив. И не решилась мешать ему – поднялась и так же тихо, как и появилась здесь, ушла.
Захотелось вдруг пройтись, прогуляться по улице. Едва вышла из гостиницы, как опять откуда-то из переулка, обсаженного молодыми деревьями, проглянуло низкое, как бы опрокинувшееся на крыши домов солнце, заискрились мокрые тротуары, аж глазам стало больно. На душе еще больше потеплело, губы тронула улыбка, и Лиля так и несла ее до тех пор, пока не услышала знакомый голос Осеина:
– О, пани Мишульская, вы сегодня и вообще очаровательны. И это-то после изнурительного трудового дня! Видимо, то, затаенное, чему вы улыбаетесь, способно сделать даже из простой женщины красавицу.
– Вы, оказывается, и на лесть способны, – усмехнулась Лиля.
– Как говорил одни великий и бессмертный, «меняем мы на почести и лесть то лучшее, что в нашей жизни есть».
– Шекспир, – уверенно уточнила Лиля.
– О, да вы все, оказывается, знаете, все вам известно. Конечно же, Цаля просвещает, он когда-то его чуть ли не всего наизусть шпарил…
– Было кому и без Цали просвещать…
– Ну зачем же так о себе. Цаля ответил бы на это словами Талейрана: никогда не говорите дурно о себе, ваши друзья сами достаточно наговорят о вас.
– С такими не вожусь, – ответила Лиля и остановилась. – Вам в какую сторону?
– Прогоняете, не гожусь в попутчики?
– Ну что вы, Дмитрий Андреевич… – Лиля даже смутилась. – Просто мне нужно на базар. – И доверительно добавила. – Вечером там всегда дешевле.
– Я с вами, если не возражаете. Хочу чего-нибудь сладенького, восточного, да и орешков не мешало бы, тут они хорошие, дешевые…
– Странный вы, – сворачивая к рынку, сказала Мишульская, – мужчины, даже сладкоежки, обычно не признаются в том, что они любят сладкое, все бахвалятся – мы любители всего горького, нам горькую подавай. А вы – сладкое…
– Просто я всегда, Лиля, такой, какой есть на самом деле, – грустно сказал Осеин.
Старый высокий куст сирени, мимо которого они проходили, ожил от набежавшего ветерка, плеснул на Мишульскую и Осеина крупными дождевыми каплями. Лиля даже вскрикнула от неожиданности. Осеин снял забрызганные очки и, протирая их, повторил уже со вздохом:
– Да, именно такой, как есть, никого из себя не ставлю, никого не играю.
Его небольшие, почти без ресниц, глазки были сонно, по-кроличьи печальны, и эта печаль, и розоватая вмятинка от очков на переносице почему-то делали его очень похожим на мальчика, только что побитого сверстниками, исцарапанного, готового вот-вот расплакаться. Лиле даже стало жаль Осеина, она осторожно взяла его под руку.
– А другие что, не такие, какие они есть на самом деле, играют?
– Не совсем так.
Он надел очки и слегка закинул голову вверх. Теперь он снова был тем, кем его все знали: строгим, неподкупным куратором, человеком, стоящим на страже киношной эстетики и нравственности, волевым и твердым; и Лиле захотелось отнять руку, но он, будто ощутив это, повелительно прижал ее локтем и продолжал:
– Не совсем, милая, так, люди не настолько талантливы, чтобы постоянно играть то, что больше импонирует их желанию и замыслу. Такой талант дается лишь на время, для влюбленных, которые хотят понравиться друг другу. Это естественно, это в генах. Люди же зачастую лишь доигрывают тот образ, который из них создают другие. О, это они инстинктивно чувствуют, прекрасно угадывают режиссуру…
– И образ подлеца тоже?
– Ну зачем же, – засмеялся Осеин. – В жизни, как и в искусстве, главенствует, в основном, положительное начало, положительный герой. Вот его-то образ постоянно и доигрывается нами, грешными.
– А это потому, что все же положительных, добрых людей в мире больше, чем злых…
– Ну, это общеизвестно, хотя… – Осеин достал сигарету, закурил, – …хотя добро и зло всегда относительны.
– Все же злые есть злые, а добрые – добрые, они основа мира.
– Сложно все это, давайте о чем-нибудь другом, во всем этом и философы увязли по самые уши.
Мишульская спорить не умела, да и никто не говорил с ней на подобные темы, даже Цаля, которого она считала человеком начитанным и неглупым. Он тоже, едва Лиля затрагивала нечто подобное, прибегал к снисходительному тону. А ей хотелось поговорить, да еще с такими, как Осеин: когда подвернется такой случай, такая возможность? Тема добра и зла ее всегда будоражила, с этим было связано многое в ее жизни. Поняв, что Осеин не хочет продолжать тему, Лиля попыталась несколько упростить ее, как бы подойти с другого конца.
– Ладно, не будем, – хитро согласилась она, – но все же ответьте мне… Я вот давно заметила, что люди всегда заискивают не перед добрыми, а перед злыми, крикливыми, брюзгами, неуживчивыми, какими там еще… Почему?
– Наверное, из трусости, а может и от лени, которая, как ни странно, всегда является своеобразной защитой от неудобств: ладно, мол, бог с тобой, лишь бы ты на меня не напирал, не катил бочку.
– А может быть, все от той же доброты?
– Ну, милая, это опять философия, – даже передернулся Осеин.
– Вот-вот, я сейчас выступаю в роли злой, а вы – доброго ленивца, – победно засмеялась Мишульская. – Правда ведь, правда?
Они подошли к воротам рынка, обошли большую лужу, прямо от которой тянулись ряды прилавков, сейчас уже почти опустевших. Лишь кое-где за ними стояли торговки, зазывно поглядывая на редких в такой час покупателей, похваливая пучки своей редиски, лука и молодого чеснока. Ни орехов, ни того сладкого, что хотел Осеин, на прилавках уже не было. Они побродили по рядам, остановились в самом углу рынка, где на жаровне еще жарились на длинных шампурах ароматные шашлыки. Лиля сглотнула слюну, остро почувствовав голод: ведь за весь день и съела-то всего пару бутербродов да выпила две чашки кофе.
– Правда, их смугленькие тельца завораживают? – спросил Осеин.
– Правда, – созналась Мишульская.
– Берем по два.
– Что вы, два мне на неделю хватит…
– Под вино можно и по три. Какое у вас вино? – обратился Осеин к продавцу.
Тот, уже не молодой, длинный и тощий, как шампур, в высокой бараньей шапке и белом, порядком помятом и забрызганном жиром халате, виновато развел руками:
– Вина у меня не бывает, было пиво – кончилось. Наши шашлыки можно и так кушать, тысячу лет их едят без вина. Есть молодой чеснок, лук есть, приправы острые есть, вина нет, можно без вина, – сыпал он словами и тут же втыкал шампуры в длинный низкий столик со столетней, иссеченной их остриями, как тирная доска пулями.
Осеин обернулся и скользнул взглядом по ларькам – одни из них пока был открыт.
– Там вино есть, – понял его продавец.
– Простите, – кивнул Осеин Мишульской и быстро направился к ларьку.
Возвратился он с какой-то темной бутылкой, с манерным восторгом прочитал вслух Лиле:
– «Ашхабадское крепкое»!.. Пойдет, а?
– Под мои шашлыки все пойдет, – хвастливо заявил продавец.
– Не знаю, никогда не пробовала. Что это, сухое? – спросила Мишульская.
– Милая, когда же это крепкое было сухим! Но и в нем есть свое достоинство: оно хоть и дрянь, а все же сладкое. Мы его с минеральной, вытравим из него крепость газом. Минеральная вода у вас есть?
– Для хороших людей бутылка найдется, для себя держал, – продавец достал из-под прилавка бутылку «Боржоми».
– Прекрасно, милый, – одарил его царственной улыбкой Осеин.
Он разлил в стаканы вино, разбавил его минеральной, попробовал, отпив глоток.
– За неимением другого сойдет и это.
Лиля пригубила, скривилась. Это был отвратительный напиток. Но, поглядывая на шашлыки, на молодой чеснок и дразнящий ароматом пряностей соус в гофрированной тарелочке, она удовлетворенно прищурила глаза и подтвердила:
– Сойдет.
Хоть вино и было разбавлено водой, хоть и пила Мишульская мало, хмель тут же ударил ей в голову. Отпив полстакана и почти прикончив шашлык, Лиля стала громко хохотать, вспоминала все смешное из жизни группы, а потом, отпив еще глоток и закурив, сказала вдруг серьезно и убежденно:
– А знаете, Дмитрий, вы хороший куратор!
– Откуда вы это взяли? – благодушно рассмеялся Осеин, откровенно любуясь опьянением Мишульской; она ему уже начинала нравиться, казалась красивее, чем на самом деле, привлекательнее.
– Вас боятся. Когда вы выступаете, все напряжены, как струны. А когда выезжаете в группу – переполох. Вас боятся, вашего ума боятся.
– Не ума, пани Мишульская, а моей недоброжелательности, – вдруг с грустным откровением сказал Осеин.
– Так это же очень хорошо! – даже всплеснула руками Лиля.
– Что хорошо?
– То, что вы все понимаете. Мне всегда казалось, что тот, кто делает что-нибудь не так, делает другим плохо, не понимает этого, а когда он сам сознает, то это уже прекрасно!
– Наивная вы, – почти с нежностью произнес Осеин и взял ее за руку; Лиля не отняла руки.
По рыночной площади уже шаркали метлы уборщиков, стаи воробьев упали на опустевшие лавки, склевывая крохи и наполняя все вокруг своим торжествующим чириканьем.
– Базар закрывается, – вежливо напомнил продавец.
– Спасибо, уходим, – кивнул ему Осеин и, взяв Лилю уже за обе руки, сказал с веселой бесшабашностью. – А не продолжить ли нам наше приятное общение, не пойти ли в гости к одним прекрасным людям?
– К кому?
– К Саиду.
– Неудобно… – заколебалась Мишульская.
– Вообще-то, немного неудобно, я только вчера у него был, – задумался Осеин. Но вдруг снова просиял. – А не покататься ли нам на машине?
– У вас какая-то машиномания! – рассмеялась Лиля. – Цаля последнюю десятку истратил на такси, а вы хоть и не последнюю, но… Да и куда же, на ночь глядя?
– Вот именно, на ночь глядя! Романтика! Эх, забываем мы порой о ней, старушке. Пошли!
Лиля вначале даже не понимала, куда вел ее Осени, да и не спрашивала ни о чем. Ей было приятно с ним, ставшим вдруг таким веселым, простецким и ребячливым, сыпавшим всю дорогу остротами и анекдотами. Таким она видела его впервые, это льстило ее самолюбию, ведь, кроме Цали, с ней вот так давно никто не хаживал, а тут сам Дмитрий Андреевич Осеин, человек строгий и серьезней, проявил к ней интерес! И лишь когда подошли к воротам старого двора и она увидела за невысоким новеньким забором Саида, несколько растерялась, подумав, что Осеин обманул ее.
– Так мы все же в гости? – спросила.
– И да, и нет, – ответил Осеин. – Всего на минутку.
Саид встретил их со своей извечной радушной улыбкой. Дмитрий отвел его в сторону, о чем-то просительно шептал, после чего хозяин вдруг перестал улыбаться, на лице его появилась озабоченность. И снова что-то тихо говорил ему Осеин. Саид вздохнул и согласно закивал, пытался было даже улыбнуться, но улыбка вышла у него неискренняя, натянутая. После этого он вывел из гаража машину и сказал, обращаясь сразу и к Осеину, и к Митульской:
– В прошлом году Дмитрий Андреевич уже брал у меня ее… Вообще-то, когда мотор передают в чужие руки, нужна доверенность, но тогда все обошлось. Только осторожно, не нарушайте, и никто вас не остановит. Дмитрий Андреевич хорошо водит…
Да, Осеин отлично водил машину, в этом он был асом, не всем это дается – есть такие, что сидят за баранкой всю жизнь, а водить по-настоящему так и не научились. Осеин – Лиля сразу же это заметила – так тонко ощущал ритм города, как ощущают одаренные танцоры нюансы синкоп; он так чувствовал «плечи» машины, как чувствует свои собственные акробат-виртуоз, прыгающий в узкую щель между лезвиями ножей.
«Москвич» почти мгновенно вырвался из тесных улиц на гладко чернеющее в оседающих на землю сумерках шоссе и мчал, мчал в темноту, которая как бы надвигалась из пустыни. На баранке, едва касаясь ее, легко лежала рука Осеина, другая, казавшаяся Лиле тяжелой и жесткой, покоилась у нее на плече. Сквозь наплывавшую дремоту она слышала, как рука эта постепенно сползла на колено, не вызвав в Лиле никакого чувства. Она поспешно убрала руку Осеина. Но он был настойчив, рука снова легла на ее колено. «Ну и пусть, – лениво подумалось Лиле. – Мужики все одинаковы – и умные, и неумные. Как только выпьют с женщиной хоть грамм, да еще очутятся где-нибудь вот в такой ночи, так и тянутся к коленкам».
И тут же вспомнился Цаля. «Неужели он еще работает? – мелькнуло у нее тепло и усмешливо. – Вряд ли, у него никогда не хватало ни терпения, ни усидчивости». Дремота вдруг слетела с нее, захотелось поговорить, и она спросила у Осеина, снова снимая его руку с колена:
– А скажите, Дмитрий Андреевич, только откровенно, у Цали что-нибудь получится?
– Вы о чем? – недовольно взглянул на нее Осеин.
– Сценарий он пишет.
– Все мы пишем, – неопределенно сказал Осеин.
– Нет у него терпения…
– У всех его нет.
Осеин притормозил машину, свернув на обочину. «Москвич» остановился, фары погасли, лишь сзади светились подфарники, их свет бросал на стекла свои рубиновые отсветы, и казалось, что где-то далеко полыхало огромное пожарище. По крыше забарабанил дождь, капли мокро шлепались о ветровое стекло, стекая по нему розоватыми змейками.
– У всех его нет, – насмешливо повторил Осеин и обнял Лилю.
– Ну зачем это? – устало проговорила она.
– Мы ведь не дети, – ответил Осеин, и в голосе его послышалось раздражение.
– Тем более, что не дети.
– Поэтому и не будем ломаться…
Он пытался притянуть ее к себе, она вяло воспротивилась.
– Давай лучше поговорим.
– Надоело – все говорить, говорить! – уже со злобой сказал Осеин.
– Почему вы не женитесь?
– Зачем? Чтобы создавать себе подобных, постоянно тяготиться бытом и заботами? Это еще успеется. Да и о чем это мы? Идите лучше сюда. – Он вышел из машины, открыл заднюю дверцу. – Ну идите же!
– Мне и здесь хорошо, – с насмешливым кокетством ответила Мишульская.
– Да не бойся, Лиля, – переходя уже на «ты», сказал он. – Здесь такое есть у Саида, иди посмотри! – Осеин что-то вынул из кармана чехла. – На минутку…
Любопытство взяло верх, и Мишульская пересела на заднее сидение.
– Что там? – Она вглядывалась в темноте в то, что держал в руках Осеин, и наконец разобрала: это была обыкновенная бутылка.
– Домашнее, сладкое, мое любимое, то, чего не хватало нам к шашлыку. У Саида оно всегда имеется в машине. Попробуй…
– Спасибо, не хочется.
– Ну немножко, только попробуй.
Она отпила, вино было вкусным, терпко-сладким, мгновенным теплом растеклось по телу. Сразу захотелось закурить. Но не успела она достать сигареты, как ощутила на плечах сильные ухватистые руки Осеина, а его губы на своих губах. Она не оттолкнула его, но и не ответила на поцелуй. Больше того, ее вдруг разобрал смех, нервный, мгновенно обезоруживший Осеина.
– Ты чего? – все еще не отпуская ее, со злобной дрожью в голосе спросил он.
– Ой, ничего, ой, не знаю! – продолжала еще пуще смеяться она.
Осеин снова попытался прижать ее к себе, но Лиля резко оттолкнула его и, тоже переходя на «ты», выкрикнула:
– Да пусти же ты, за кого меня принимаешь? – И вышла из машины.
Где-то далеко-далеко пылал огнями город, а тут была кромешная тьма, шел дождь. Однако странно, откуда он? В темном небе роилась густая россыпь мелких звезд, наверное, одна-единственная тучка и зависла лишь над тем местом, где стояла машина, в которую Лиле не хотелось уже возвращаться.
– Садись, Лиля, поехали, я больше не буду.
– Поезжай сам! – Мишульская произнесла эти слова так, как выговаривают ругательства.
– Сумасшедшая!
– Пошел вон! – почти весело ответила она и зашагала по мокрому, в скользких отсветах далеких городских огней шоссе.
Осеин развернул машину, догнал Лилю:
– Садись же!
– Не сяду.
– Ну и оставайся, милая, черт с тобой! – крикнул он, и «Москвич», взревев, помчался в сторону города.
А Лилю вдруг охватил страх. Она шла, вслушиваясь в каждый шорох, ей чудились то змеи, которых в пустыне было великое множество (все казалось, что они переползают дорогу), то барс (она слыхала, что те обитают в пустыне и по ночам выходят на охоту), и каждый всхлип дождя, каждый звук, которого, может, и не было на самом деле, а лишь создавала его обостренная страхом Лилина фантазия, заставляли останавливаться, прислушиваться, едва не припадать к земле.
Но вот вдали ослепительно скользнули фары машины. Лиля поняла, что это возвращается за ней Осеин, и тут же сошла с дороги, спряталась за какой-то песчаный бугорок, уже не страшась ни барса, ни змей. На сердитый окрик Осеина не отозвалась. Нет, она вовсе не боялась его, не таких видела и не то познала в жизни, ее просто охватило чувство злобной мстительности: поезди, мол, поищи, покричи, поволнуйся. А еще ее душила какая-то обида…
Осеин, проехав километра два, вернулся обратно, снова звал ее, и опять она не отозвалась. «Дойду сама, – решила, – хоть до утра буду идти, а дойду сама!» И уже шагала без страха, испытывая лишь одно чувство – жалость к себе. Может быть, именно поэтому и стало вспоминаться ей самое обидное и трудное в ее жизни, что выпало ей за тридцать далеко не счастливых лет, и Лиля даже всплакнула, тихо, по-бабьи подвывая, будто страшась, что кто-то услышит ее. Так она плакала лишь однажды, когда сын, которого она родила, едва ей стукнуло девятнадцать, слабенький, с тонкими, как велосипедные рули, ручонками, умер, не дожив и до года. «Это все кино твое проклятое, командировки твои!» – кричал муж. Он был старше ее на десять лет, работал на санэпидемстанции санитарным врачом, нравился ее родным своей видной внешностью и «положительностью» – не пил и не курил.
А она полюбила его лишь за то, за что любят часто в ранней юности подобные ей дурочки – за высокий рост и красивое тонкое лицо, за умение играть на гитаре и петь про любовь песни собственного сочинения. Как выяснилось уже вскоре, ничего высокого, кроме роста, в нем не было, ничто тонкое в душе и не ночевало, а песни такие сочинял и хрипловато пел под гитару чуть ли не каждый городской мальчишка. Она, сельская девчушка, только что поступившая в ПТУ, тогда этого еще не знала. Оказалось, что он и книги-то ни одной толковой не прочел, что он, человек интеллигентной профессии, не любил ни кино, ни театра, а по телевизору смотрел только футбол да фильмы про шпионов. Для Лили же кино, едва она переступила порог студии (устроилась туда на работу после замужества), стало второй жизнью. «Положительный» муж постоянно устраивал скандалы, требуя ее ухода из студии, а один раз даже избил ее, изрубил топором все ее вещи, от рубашек до пальто, чтобы Лиля не только на киностудию, но и на улицу не могла выйти. Она выплакалась, надела мужнин костюм, подвернув длинные брюки, и в таком виде явилась на студию. Домой она больше не вернулась, домом для нее на всю жизнь стало кино…
Лиля не знала, сколько километров прошла она по этому пустынному шоссе. Было уже за полночь, когда она ступила на тротуар первой улочки города. Улица перед гостиницей тоже была пуста, лишь у двери под навесом кто-то зябко жался, куря сигарету. Лиля сразу же узнала Цалю.
– Ты еще не спишь? – обрадованно спросила она и бросилась ему на шею.
– Что случилось, где ты была? – строго спросил Цаля.
– Ходила, гуляла, думала. Я столько сегодня передумала и вспомнила!
– А я жутко переволновался, как никогда… В молодости так не волнуются, наверное! Старею…
– Нет, ты просто ревновал. Сознайся, ревновал, да?
– Было малость…
– Глупый! Замерз… – Она хотела застегнуть на его пиджаке пуговицу, но вспомнила, что так и не успела ее пришить. – Пойдем ко мне, пришью, – сказала мягко.
– Твои соседки уже спят.
– Тем лучше.
– А если не спят?
– Значит, притворятся… Они ведь добрые.








