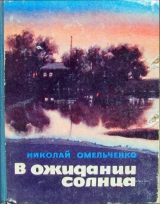
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– Кафе, дорогой, кафе, – Коберский даже обнял Александра за плечи. – Только придумай, пожалуйста, чего это им вздумалось так – именно в кафе. Поднатужься, дорогой, ты ведь можешь!
Он добродушно и весело похлопал Мережко по спине, и оба чистосердечно рассмеялись.
5. У чинары семи братьев
Цаля постучался в номер к женщинам, толкнул дверь.
– Можно?
– Ой, нет! – взвизгнул девичий голос.
– Мне Лилю, – попросил Цаля.
Вышла Мишульская. В узком коротеньком халатике, в домашних тапочках она казалась еще более хрупкой, чем на самом деле. На голове топорщилась непричесанная челка – первоклашка, и все тут, вот если бы только не морщинки у глаз, да не складки у рта, да еще, пожалуй, челка не была бы крашеной.
– Ты что в такую рань?
– Кому рань, а некоторые уже и аванс успели потратить.
– Тебе это не грозит. – Лиля быстрым, заботливым движением вскинула руку к Цалиному пиджаку и оторвала пуговицу, висевшую на одной ниточке. – Снимай, пришью.
– Потом, – отмахнулся Цаля, пряча пуговицу в карман.
– Куда ты торопишься?
– Поехали в Фирюзу, мы ведь там еще не были. Махнем пораньше, а то вдруг после обеда съемка – и тебя хватятся. Возьмем мотор.
– У тебя даже на мотор деньги есть?
– Есть, – хлопнул себя по нагрудному карману Цаля.
– Удивляешь…
– Продал Саше Мережко один из своих сюжетов.
– У него что, своих нет?
– Навалом, но чужие лучше. Так что?
– Да я тут постирушкой занялась…
– В дождь? Сушить-то где будешь?
– В ванной. Не ждать же, пока он перестанет, может, еще неделю будет. Я быстро – ты подожди, хорошо?
И Цаля ждал. Настроение у него было отличное, он даже решил немного поработать. Зашел к себе в номер, достал из-под подушки толстую общую тетрадь, в которой был записан неоконченный сценарий («Солнце моей надежды» – как он сознался однажды Лиле Мишульской). Большинство из тех, кто начинал вместе с ним, далеко пошли. Много, конечно, среди них и середнячков, но все же они при настоящем деле, каждый на своем месте, не всем же быть великими. Но любил ли кто-нибудь из них кино так, как любил его Цаля? Почти четверть века он отдал ему, начинал вторым режиссером, а потом постепенно пошел по наклонной: был и ассистентом, и осветителем, и реквизитором, а теперь вот и просто разнорабочий, сторож. Но от кино все равно ни на шаг, это единственная его любовь, первая и последняя.
Кое-кому из друзей он уже читал из этой тетрадки. Похвалили и благословили, причем не из дружеских побуждений… Теперь самое трудное – работать. В молодости он и стишатами баловался, а единственный написанный им рассказ даже напечатали в одном солидном журнале. Но то было давно…
Днем писать некогда, вечно на побегушках, ночью в номере свет мешает товарищам спать, поэтому Цаля иногда уходил на лестницу, ведущую на чердак, а когда его заставали там, с шутливой многозначительностью говорил: «Сервантес писал своего «Дон-Кихота» на чердаке, я пишу на чердачной лестнице, но все же…»
Сейчас он тоже пошел на свою лестницу. Сидел часа полтора, но за все это время лишь дописал одному из героев монолог: «Мало осталось жить, смерть уже близка. Но какое счастье, что она все же не сегодня и даже еще не завтра!» Разволновался почему-то, выкурил подряд две сигареты…
Дождь все лил, и чердачное помещение гудело от его барабанного стука. Кто-то запыхавшийся взбежал по лестнице. Цаля поднял голову от тетради. Перед ним стояла уборщица с ведром в руке.
– Фу ты, а я думаю, откуда такой дымище, уж не пожар ли? Ходили бы вы курить на улицу.
– На улице дождь, – ответил Цаля и поднялся: работать перехотелось.
Вновь пошел к Мишульской, но она еще не была готова. Томился, бродил по коридору, посидел в номере у осветителей. В то время как раз и зашел к ним Коберский, обозвал Цалю пьянчужкой, что окончательно испортило ему настроение. Перед Лилей, наконец-то управившейся со своими нехитрыми делами, он предстал хмурым и грустным.
– Что, надоело ждать, сердишься?
– Нет, нет, Лилька, просто погода как-то давит…
– А наши девочки говорят, что ты хоть и старый, но симпатичный и знаешь, на кого похож лицом? На писателя Юрия Олешу. Я, правда, сроду его не видела.
– Неужто? – насмешливо удивился Цаля. Ему-то приходилось видеть Олешу, и прозу его он любил. – Уже не увидишь, умер он… – Цаля тяжело вздохнул.
– Ну что с тобой? – взяла его за руку Лиля.
Цаля натужно улыбнулся, обнял ее.
– Поехали, Лилька!
На улице Лиля сощурилась, словно на солнце, на серые струи дождя, сбегавшие с покатого навеса, протянула к ним руку, рассмеялась:
– Куда ты меня тянешь? В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку из дому не выгонит.
– Послушай, да ты совершенно лишена чувства романтики.
– Зато ты у меня – романтик!
– Такси! – зычным театральным голосом рявкнул Цаля и кинулся из-под навеса с протянутой рукой, которая будто хотела поймать зеленый огонек на ветровом стекле машины, так уютно и зазывно манящий в непогоду.
– Да куда же ты без плаща?! – вдруг спохватилась Лиля, на ходу доставая из сумки зонт.
– Плаща у меня нет, а в пальто жарко.
– Стань хоть под зонтик…
Но Цаля уже нырнул в такси, потянул за руку Лилю, которая так и не успела открыть зонт, обнял ее и сказал таксисту:
– Покатай нас, товарищ!
– Куда? – привычно спросил таксист.
– Куда-нибудь… В Фирюзу, в Чули.
Он крепче прижал к себе Лилю, поцеловал ее в забрызганный дождем висок и пообещал:
– Я покажу тебе чинару Семи братьев. Семь братьев и одна сестра – семь большущих стволов и одна небольшая ветвь. Она, эта чинара, видела столько слез, крови и горя за свою многовековую жизнь…
– Ты и правда сегодня в миноре, – прошептала Лиля.
– Влюблен, – также шепотом ответил Цаля.
– Куда тебе, – безнадежно отмахнулась Лиля.
Машина остановилась у светофора. Здесь они увидели Коберского; Лиля, открыв окно, хвастливо-радостно что-то протараторила, а потом, когда машина тронулась, передала слова режиссера:
– Предупредил, чтобы долго не задерживались, вдруг, мол, после обеда солнце будет…
– Не будет его, – мрачно сказал Цаля. – Это он так хочет, чтобы солнце было, а его еще долго не будет – неделю, месяц, а может и год…
– Типун тебе на язык! Ты так говоришь, будто сам не ждешь его.
– Каждый ждет своего солнца, – напыщенно изрек Цаля.
– Не своего, а нашего, общего, – твердо и убежденно поправила его Лиля.
Цаля снова обнял ее, Лиля прильнула к нему, закрыла глаза и так притихла надолго, пока не миновали город. Очнулась от Цалиного восторженного возгласа:
– Смотри, чудо какое!
Подняла голову. Через мокрое стекло, сквозь негустую пелену дождя вдоль шоссе круглились беловато-лиловые облачка, крупно застывшие на земле.
– Что это? – спросила пораженная Лиля.
– Алыча цветет.
Когда въехали в Фирюзинское ущелье, дождь перестал. Серовато-коричневые скалы с редкими ростками светло-зеленой травы и бурьяна на узких тропках, неизвестно когда и какими смельчаками протоптанных, мокро и тускло блестели; кое-где по шершавым желобкам еще текли почти невидимые змейки ручейков, и величественное ущелье тихо, даже как-то домовито шуршало от их торопливого, юркого движения. А вскоре зеленым весенним блеском вспыхнула перед глазами долинка с бурлящим, бьющимся о камни потоком, с прижавшимся к нему небольшим селеньицем.
Цаля попросил шофера остановиться, и они вышли из машины. Пахло дождем, травой и сладковатым дымком. У края потока стоял мальчишка в тюбетейке, в длинном брезентовом плаще и кедах, опираясь на суковатую палку, будто старик на посох. Неподалеку, присев на корточки у тазика, перебирала тюльпаны девчушка. Она исподлобья поглядывала на Цалю и Лилю, подходивших к ней в обнимку. Глаза у девчушки хитроватые, любопытные.
– Продаешь тюльпаны? – спросил Цаля.
– Да, – кивнула та и поднялась.
Цаля протянул ей полтинник, девчушка к уже связанному букетику добавила еще несколько цветков и, улыбаясь, не вставая с корточек, подняла букет над головой.
– Спасибо, – как-то осторожно, будто они стеклянные, взяла тюльпаны Лиля.
– Как называется этот ручей? – спросил Цаля у паренька.
Не меняя позы, тот гордо ответил:
– Это не ручей, это – рэка!
– Правильно, река, – согласился Цаля и подумал о том, что для этого туркменского мальчика бурлящий поток, питающий его землю, дающий жизнь цветам и травам, действительно является такой же рекой, как для сибиряков Енисей или Иртыш, как для русских Волга, как для украинцев – Днепр.
– А это ваша жена? – вдруг поднялась и, буравя черненькими, искрящимися любопытством глазенками пришельцев, спросила девочка.
– Пока еще нет. Эта тетя не хочет выходить за меня замуж, – серьезным тоном пожаловался Цаля.
– Почему же вы ее обнимаете?
– Потому что люблю.
Девчушка захихикала и закрыла лицо мокрым платком.
– Ну что ты такое говоришь ребенку!
Лиля вдруг сердито сняла его руку с плеча и пошла к машине:
Таксист рассмеялся и заискивающе сказал:
– За такую девушку большой калым придется платить.
– А теперь калым отменен, – обернулся в сторону машины мальчишка.
– Все грамотные стали, – вздохнул шофер и резко нажал на газ.
– Мой калым тебе, Лилька, – вся моя грешная жизнь.
– Калым дают не невесте, а ее родителям, а жизнь свою ты уже тысячу раз роздал другим, – снова прильнув к его плечу, пошутила Лиля.
– Неправда, есть еще порох в пороховницах, – вдруг обозленно возразил Цаля.
– Обиделся? – Лиля закурила и направила на Цалю струйку дыма.
Он откинулся на сиденье и промолчал.
– Обиделся, – глубоко затягиваясь, заключила Лиля, и уже всю дорогу они молчали.
Машина въехала в поселок, шофер зарулил на площадку у небольшого ресторанчика.
– Приехали к Семи братьям, – сообщил своим пассажирам.
Выйдя из машины, они увидели у знаменитой чинары уже не менее знаменитую кинозвезду Веру Потапову, заменившую в фильме Галину Коберскую, и звезду восходящую – Мишу Григорьева. Миша был на полголовы ниже ее ростом, и когда они снимались в кадре рядом, Вера надевала туфли на низких каблуках. Сейчас же она надела туфли на высоких каблуках, и Миша, стоя с ней рядом и видя, как десятки глаз праздно шатающихся курортников с любопытством рассматривают их, изо всех сил тянулся вверх, чтобы казаться выше. У него даже шея удлинилась, отчего он стал похож на молодого петушка, готового вот-вот захлопать крылышками и закукарекать. В руках у Веры Потаповой, как и у Лили был букетик тюльпанов, купленных, видимо, там же, в долинке над потоком. Вот Григорьев что-то шепнул Потаповой, она наклонилась и положила на вздувшиеся под землей корни чинары букетик цветов.
– Ах, черт, нас опередили! – с веселым возмущением сказал Цаля. – Ведь это была моя идея – подарить чинаре тюльпаны. И сказал я об этом только Мише, у него ведь фантазии ни-ни. Но воспользовался… А Вера и рада: ох, как эффектно это выглядит! Кто-то даже фотографирует их…
– Фотокор какой-то, весь обвешан аппаратами, даже с мигалкой в руках. А Мишка уже втрескался по уши, совсем голову потерял!
– Она однолюбка!.. – с ласковой уважительностью сказал Цаля.
– Будешь при таком муже: тридцать лет – а уже доктор наук, альпинист, красавец!
– А разве только за это и любят? – недоуменно спросил Цаля.
– А разве этого мало?
– Иногда и этого бывает недостаточно. Пойдем, и ты положишь цветы.
– Не хочу, нас ведь не будут фотографировать, – улыбнувшись, с напускной капризностью ответила Лиля. – Да и не хочу подражать.
– Умница, – обнял ее Цаля.
– Поехали еще куда-нибудь.
– Куда?
– Туда, где никого-никого нет…
6. Частый гость
Директор киногруппы Борис Семенович Скляр в тот день успел не только приобрести коллекцию, но, проделав эту волнующую его операцию, позвонил в аэропорт, узнал, принимают ли самолеты, и тут же отправился встречать куратора. Скляр знал о давней взаимной неприязни Коберского и Осеина, и поэтому поехал в аэропорт сам. Ждать долго не пришлось, да он – в общем-то человек пунктуальный, умеющий дорожить и своим, и чужим временем, на сей раз даже не сказам бы точно, сколько же он ждал самолет, так как ни разу не взглянул на свой точнейший из точных хронометр. Ожидая прибытия лайнера, Борис Семенович был самозабвенно занят другим: усевшись в кресло подальше от людей, в уголке зала ожидания, достал из портфеля альбом с только что приобретенной коллекцией – и уже не мог от нее оторваться. Когда объявили о посадке самолета, Скляр тяжело вздохнул, как это делают люди, которых вдруг отрывают от любимого дела, осторожно спрятал альбом в портфель и со своей обычной неторопливостью и степенностью направился к двери, ведущей на летное поле.
Невысокую, несколько нескладную, худощавую фигуру Осеина Скляр узнал издали. Тот был в квадратных модных очках и в неизменно широком берете, прикрывающем лысеющую большелобую голову. Осени, слегка наклонившись, что-то говорил идущей рядом с ним девушке, вероятно, случайной попутчице. Увидев Скляра, заулыбался и, широко разведя руки в стороны, словно для объятий, заключил в своей обычной манере:
– О, сам пан директор изволят меня встречать, значит, дела в группе не ахти!
– Вы же хорошо знаете мою давнишнюю симпатию к вам, Дмитрий Андреевич. А дела в группе – как и в любой другой, когда идет дождик.
– Посмотрели мы ваш материальчик, который вы отсняли, когда еще не было дождика…
– Ну и как?
– Все как в жизни: ходят, бегают…
– Но ходят-то как – хорошо или плохо? – подражая манере Осеина, поинтересовался Скляр.
– По-всякому.
– Ну, еще музыка будет, лучше под нее ходить-то…
– Музыка?.. Музыка – это та специя, которая добавляется в фильм, чтобы или сделать его немного вкуснее, или приглушить запах тухлятины. – Осеин рассмеялся и спросил доверительно. – А что бы, по-вашему, сказал на это великий Коберский? – И сам же ответил. – Он бы недовольно скривился и проворчал: «Ты, Митя, все такой же пошляк». Верно я говорю?
– Вы всегда любите заострять, – дипломатично ответил Скляр.
Осеин так и не понял, относилось это к музыке в кино или к Коберскому.
– Все гораздо проще… – вновь неопределенно проговорил Скляр и сдержанным, приглашающим жестом руки указал на ожидавшую их машину: – Прошу сюда.
Саид, сверкая своей золотой улыбкой и прижимая обе руки к сердцу, полупоклонился гостю:
– Ашхабад приветствует вас, Дмитрий Андреевич! Вы у нас частый гость…
– О, Саидушка, Саид Шарипович, салям алейкум! Ты, я вижу, навсегда прописался к киношникам – и в прошлом, и в позапрошлом году…
– Алейкум салям! – ответил Саид. – Люблю киношников, веселые люди.
– А как там мой любимец, Ашир Саидович? – словно вдруг позабыв о Скляре, спросил Осеин у Саида, садясь с ним рядом.
– Уже большой, в пятом классе. Заходите в гости, он вас помнит, и жена моя вас тоже хорошо помнит.
– Зайду, обязательно зайду, Саид. – Осеин обернулся к Скляру и сказал восторженно. – В прошлом году Саид угошал меня таким пловом, что ай-ай-ай! Лучше плова, чем в Туркмении, нигде не едал. А натуральное вино – мед! Не то что наша кислятина. Грешен, люблю все сладкое, а восточные сладости в особенности, в них столько аромата!
Осеин на восточный манер поцокал языком, примолк, глядя перед собой. «Дворники», с хрустом трущиеся о ветровое стекло, оставляли на нем веерообразные желтовато-серые потеки из глины и песка.
– Снова дождь – теперь уже с песочком! – весело, будто это его обрадовало, кивнул на стекло Осеин.
– С песочком, – ответил Саид. – Это у нас бывает.
Осеин снова повернулся к Скляру и заговорил о деле:
– Так вот, просмотрели мы пятьсот метров вашей пленки. Могу сообщить и приятное. Брак не по вашей вине, это уже установлено. Виноват проявочный цех.
– От этого нам не легче.
– Ну, все же… Однако и материал нас встревожил, а это уже хуже. Впечатление такое, что Коберский все еще ищет, как бы нащупывает…
– А искусство – это прежде всего вечный поиск извините за банальные слова, – осторожно заметил Скляр.
– Это не банальщина, это – истина, но дело не в ней. Поиск поиску рознь, ведь он и называется поиском потому, что не всегда знаешь, в каком направлении идти. Вы, Борис Семенович, мудрый и многоопытный человек, не мне вам объяснять… – Осеин помолчал и вдруг заговорил почти с грустью. – Вот знаете, когда-то шли на эшафот ради того, чтобы утвердить искусство, а теперь некоторые готовы искусство повести на эшафот, лишь бы самоутвердиться.
– Надеюсь, это к Коберскому не относится? – полувопросительно произнес Скляр.
– Да нет, я просто к слову… Наше ведь дело – помочь, а я вот перед отъездом просмотрел сценарий и увидел, что в нем еще имеются кое-какие недотяжки…
– За свою многолетнюю работу в кино не помню еще ни одного сценария без этого, – пожал плечами Скляр.
– Причина – наша снисходительность, доброта… А частенько просто робость перед так называемыми корифеями. Меня раздражают добренькие. Меня коробит, когда кто-то нашептывает: «Поласковей, поласковей с ним, он хороший и талантливый парень». Хороший парень – это не профессия, а талант – это еще нечто абстрактное. Чтобы он приносил пользу, к нему еще многое нужно: и чутье, и понимание подлинных задач искусства, и кропотливый труд. Саид, правильно я говорю?
Осеин вдруг так хлопнул шофера по плечу, что тот даже вздрогнул, но тут же добродушно осклабился:
– Правильно, вы всегда говорите правильно и хорошо.
– Устами младенца глаголит истина, – полуобернувшись к Скляру, с иронической многозначительностью поднял палец Осеин.
Они въехали в город. Дождь перестал, и небо чуть-чуть просветлело.
– Может, еще сегодня и солнце будет? – с надеждой вздохнул Скляр.
– Ух, какая девушка пошла! – Припал к стеклу Осеин.
– У нас много хороших, – с гордостью сказал Саид.
– Много, – согласился Осеин. – Я вообще люблю Ашхабад, и девушки мне здесь нравятся. Даже нравится у них то, чего они немножко стесняются, считая, что это уродует их, – пендинки.
– Что это? – спросил Скляр.
– Такие маленькие оспинки на лице, образовывающиеся после укуса какой-то мошки. Мне они кажутся симпатичными. А знаете, что обозначает по-туркменски «Ашхабад»?
– «Город влюбленных», – быстро, со своей обычной улыбкой пояснил Саид.
– Во! – снова многозначительно поднял палец Осеин. – Город влюбленных. В прошлом году у меня здесь была одна… Беленькая, как цветущая черемуха. На Ферганской жила, ждала жениха из армии. Наверное, уже замужем, такая долго даже в Ашхабаде не засидится.
– У нас много других не замужем, – заговорщицки засмеялся Саид.
– Или вот, смотрите! – вновь припал к стеклу Осени. – Возьмем ее в массовку, Борис Семенович? Добрее буду…
– Нам с пендинками не подходят.
– Загримируете.
– Жениться вам надо, – покачал головой Саид.
– Зачем? Столько девушек вокруг… Да и не представляю себя в роли семьянина.
Когда подъезжали к гостинице, Скляр увидел Коберского и Мережко. Автор, что-то увлеченно доказывавший режиссеру, мог и не заметить машины. Коберский, конечно же, увидел ее наверняка, но даже не остановился, чтобы поприветствовать Осеина. Скляр отвернулся от окна и тяжело вздохнул.
7. Психологическая несовместимость
На площадке второго этажа Мережко и Коберский расстались. Александр пошел к себе, а Коберский остановился у перил и некоторое время смотрел вниз, в лестничный пролет, откуда хорошо был виден вестибюль первого этажа и куда как раз вошли Скляр с Осенным.
– А когда начинали съемки, разве тарелку не били? – спрашивал Осеин.
– Нет, Аникей Владимирович был против.
– Ах, они-с были против? Ну уж этот Аникей Владимирович… Нарушить такую традицию! Это даром ему не пройдет, бог его накажет, попомните мое слово, – добродушно рокотал иронический голос Осеина – голос, которого не мог слышать без раздражения…
– Вам письмо, – сообщила дежурная.
Коберский сразу же понял, что оно от Гали. Забыв тут же об Осеине и вообще обо всем на свете, он почти вырвал письмо из рук, даже не поблагодарил. На конверте – Галин округлый, почти детский почерк. Исполнила-таки обещание, написала. Спасибо тебе, Галка, спасибо родная! Ведь с какой неохотой и как редко даже близкие и любящие пишут сейчас друг другу письма. Все больше телефон. Жив? Жив. Здоров? Здоров. Ну как там? Нормально. А ты? Ничего. Целую. А я тебя тысячу раз. Пока. Пока. Не разговор, а какая-то морзянка. Пространность и человечность слов ограничивает лимит времени, интимность нежности вспугивает постоянная мысль о том, что вас слушает кто-то третий, любопытный и насмешливый.
Он уселся тут же, у стола дежурной, в кресло, нетерпеливо разорвал конверт и стал читать. Галка охотна писала о пробах – значит, новая роль ей пришлась по душе, а в том, что ее утвердят, он не сомневался. Писала, что уже успела отсняться для какой-то передачи по телевидению, немного подработала и посему прилетит за свой счет на несколько дней в Ашхабад погостить. Аникей понял, что Галка скучает по нему, что она любит. Тревога ревности, постоянно бередящая его душу, вдруг как-то сразу поутихла, а мысль о том, что Галка пробудет здесь хоть денек, вызвала у него такой восторг, такую неудержимую радость, что он, пугая и удивляя дежурную, видевшую его всегда сосредоточенным и хмурым, несколько раз стукнул себя кулаком по колену и рассмеялся. Он сам заметил это лишь несколько мгновений спустя, когда, откинувшись на спинку кресла, увидел, с каким насмешливым любопытством следила за ним дежурная.
– Любит? – вдруг тихо спросила она.
– Кто?
– Жена.
– А откуда вам известно, что это от жены?
– Обратный адрес прочла, да и первый раз вас таким вижу. Обычно вы все кривитесь да покрикиваете на других, а теперь вот сами с собой смеетесь…
Коберский перестал улыбаться и сказал скорее не дежурной, а самому себе:
– Как порой нам нужно совсем-совсем немного для огромной радости и отличного настроения. Вот, всего лишь одна тетрадная страничка…
И он поспешил в номер, чтобы тут же написать ответ.
По коридору навстречу ему шел своей переваливающейся походочкой Леня Савостин.
– Ну, что, шеф… Обследовал я объект под этим Змеином. Думаю, вполне подойдет. Но, по-моему, это будет слишком роскошно только для одного эпизода, накладно. Там бы снять еще парочку. Уломай автора, пусть допишет. Эх, на фоне вечернего, ярко-багрового заката солнца они на черном, летящем, как дьявол, мотоцикле…
– А там что, уже солнце есть? – нетерпеливо перебил его Коберский.
– Нет, но будет…
– А, бу-у-удет, – покачал головой режиссер и, насмешливо фыркнув, уточнил. – И обязательно ярко-багровое будет, да?
Он не стал ждать, что ответит обиженно насупившийся Савостин, пошел к себе в номер.
Положив перед собой Галкино письмо, уселся отвечать, но тут же вспомнил Леню, его извечную страсть к яркому, контрастному, порой даже вовсе не нужному для картины. Отодвинув в сторону приготовленный для письма чистый лист, открыл записную книжку и записал: «Медики говорят, что у каждого человека оптические характеристики глаза сугубо индивидуальны, все мы видим по-разному. А тут нужно видеть одинаково. Всем! Создавать единую оптику искусственно! Производство… Отсюда все наши беды, в этом большая уязвимость кино как искусства». Он подумал немного и быстро дописал: «Но все же и преимуществ у кино в тысячу раз больше!»
В дверь настойчиво постучали.
– Можно, Аникей Владимирович? – как-то непривычно робко спросил, входя, Скляр; за его спиной стоял Осеин.
– Пожалуйста, – досадливо ответил Коберский, уже заметив по непривычно растерянному виду директора, что произошло что-то неожиданное и не весьма приятное.
– В гостинице ни одного места, – извиняющимся тоном начал Скляр. – Неожиданно нагрянули туристы, их обещали расселить где-то в другом месте, но там что-то не вышло, и вот распоряжение свыше, многих даже в срочном порядке выселяют…
– Нас тоже собираются выселять?
– Нет, что вы!
– Но вы так длинно все это мне объясняете, что я подумал было…
– Вас, Аникей Владимирович, просто попросили немножко потесниться, – ступил через порог из-за спины директора Осеин. – Я вас приветствую… – Он подошел к Коберскому с протянутой рукой.
– Я вас тоже. – Коберский хотел улыбнуться, но улыбка вышла кривой и кисловатой.
– Роскошно живете, один на две кровати… Не возражаете? – Осеин поставил портфель на одну из них, ту, что давно не расстилалась, и стал снимать плащ.
– Но… ко мне жена прилетает. Вот, только что письмо получил…
Коберский бросил уничтожающий взгляд на Скляра, и тот вдруг вспомнил, что режиссер отказывался от двойного номера, но именно он, директор, уговорил его: мол, большой, роскошный «люкс» – это как раз то, что совершенно необходимо постановщику, в нем при случае и группу можно собрать для производственного разговора, да и просто солиднее, по чипу.
– Сегодня приезжает? – виновато спросил Скляр.
– Может, сегодня, может, завтра…
– Туристы должны уехать, а если и останутся, потом что-нибудь придумаем, – просяще посмотрел на него Скляр.
Коберский молчал, горько думая о том, что большего наказания, чем подселить к нему Осеина, даже злейший враг не мог придумать. Добрейший Борис Семенович, конечно же, не хотел этого, вынудили обстоятельства, но, черт бы его побрал, мог же он найти и другой какой-нибудь выход: например, переселить к нему Сашу Мережко, сам бы, в конце концов, сюда временно перебрался…
Настроение режиссера понял и сам Осеин, однако сказал со своей обычной обезоруживающей прямолинейностью:
– Разумею вас, Аникей Владимирович, разумею и сочувствую. Боитесь, так сказать, психологической несовместимости? Она, как известно, противопоказана при полете в космос, при длительных экспедициях, ну а здесь, извините меня, выхода пока все равно нет, да и, надеюсь, за короткие земные сутки мы все же не перегрызем друг другу глотки.
– Да дело не в том, я же говорю, что жена…
– Уладим, все уладим, – заверил Скляр, умоляюще глядя на Коберского.
– Ну что ж, располагайтесь…
Скляр с облегчением вздохнул и удалился. Коберский уселся за стол, убрал записную книжку и бездумно уставился в чистый лист бумаги, пытаясь собраться с мыслями, сосредоточиться, вернуть в себя те чувства, с которыми он садился, чтобы писать жене письмо – нежное и благодарное. Но выходило сухо, неуклюже. Он написал коротко, что очень ждет ее, пожаловался, что все время идет дождь, но потом, подумав, что Галя прилетит гораздо раньше, чем дойдет письмо, решил вовсе его не писать, а позвонить вечером по телефону.
Он слышал, как дежурная принесла Осеину что-то из белья, как тот вынимал и раскладывал свои вещи, плескался в ванной.
Коберский порвал недописанный листок, хотел подняться и выйти, но вспомнил, что должен заглянуть Мережко. Хотя бы скорее! Но почему молчит Осеин? Обычно рта не закрывает, а сейчас будто его и нет в номере. Обиделся? Нет, он не из тех, кто обижается по пустякам, скорее всего, собирается с мыслями, чтобы начать нелицеприятный разговор о материале фильма.
Скрипнули пружины кровати – это Осеин улегся отдыхать. Устал с дороги? Тоже не очень-то похоже на него. Скорее всего, говорить вот так с ходу не намерен, тем более, что и сам Коберский пока что ни о чем не спрашивает. А может, он тоже ждет Мережко? Скорее бы Саша приходил!
Послышался щелчок зажигалки, потянуло ароматным дымком «Золотого руна». «Курит в постели», – брезгливо подумал Коберский. Захотелось и самому закурить, достал портсигар – сигарет в нем не было; пошарил в столе, проверил валявшиеся на подоконнике коробки от папирос – в них тоже пусто. Он собрал их и бросил в корзинку для бумаг. Но запах ароматного дыма еще сильнее возбуждал желание курить. Осеин, видимо, заметил попытки Коберекого отыскать сигарету.
– Прошу мои, – сказал он.
– Спасибо, – поднялся Коберский, взял из пачки, лежавшей на тумбочке рядом с кроватью, на которой расположился Осени, сигарету и тут же увидел, что куратор читает его режиссерский сценарий; только что он лежал на той же тумбочке, где и сигареты.
– Не возражаете? – спросил Осени.
– Пожалуйста, если плохо помните.
– Всего не упомнишь, хочу еще раз просмотреть.
Коберский вновь вернулся к столу, прикурил, с наслаждением несколько раз затянулся, думая, чем бы заняться, пока придет Мережко. Машинально достал записную книжку, стал листать ее, читая старые записи.
«Вчера подслушал разговор молодых. «Гениально снял», – сказал один. «А ведь до этого гнал серятину…» – «А все после контузии, что-то сдвинулось у него, и вот, пожалуйста, – гениально!..» Думал, шутят, а потом понял: говорят серьезно. Хотелось подойти, погладить их по головкам и сказать: «Чушь все это, мальчики, настоящее искусство всегда отличалось прежде всего здоровьем: Толстой и Гете, Чаплин и Эйзенштейн…»
«Больно слушать, когда несправедливо ругают тебя или твоего товарища. Но в сто раз больнее, отвратительнее, когда незаслуженно хвалят, льстят, подхалимничают, чувствую тогда себя мухой, попавшей в патоку…»
Он полистал дальше. Или слыхал где-то, или сам выдумал? «Пошлость – это истина, из которой вышелушено ее настоящее зерно». «Боюсь зрителей взыскательных, люблю зрителей талантливых, способных на соавторство».
Читая, он наткнулся на имя Мережко, оно записано было еще в прошлом году, во время обсуждения фильма на пресс-конференции. «Поправились слова Мережко: «Когда я смотрю фильм, сажусь в зале под таким ракурсом, чтобы увидеть как можно больше хорошего…» Кое-кто улыбнулся – из тех, которые сидят на обсуждении и натужно думают: что бы такое заметить из просчетов в картине, чего не заметили другие? И когда заметят, когда выскажутся, чувствуют себя на недосягаемой высоте, тешатся мыслью, что и они помогают, что-то смыслят, причастны к искусству. Доброжелательность – это тоже талант, а точнее – свойство души талантливого человека».
Снова щелкнула зажигалка, и опять потянуло ароматным дымком. Коберский закрыл записную книжку и обернулся.
– Курите, – сказал Осеин, не отрываясь от сценария. – Кури, милый…
Это слово «милый» неприятно кольнуло Коберского, покоробило даже: не фамильярность тому была причиной (одно время они друг с другом и на «ты» были), просто почему-то ясно, отчетливо вспомнился один случай, связанный с этим самым «милый»…
Жил еще совсем недавно на свете сценарист Виталий Москаленко – бывший фронтовик, который в свои восемнадцать лет был дважды ранен, компанейский парень, заводила и добряк. Он получал за сценарии хорошие гонорары и не умел ими разумно распорядиться, тратил все деньги на неумную и бездарную свою жену, актрису, время от времени уходившую то к одному, то к другому режиссеру – в зависимости от того, у кого она снималась. В общем, он был великолепный парень, но как-то незаметно пристрастился к спиртному. Добродушнейший и смиреннейший, когда трезв, во хмелю он был неузнаваем – зол, задирист и скандален, за что нередко жестоко расплачивался. Товарищи, видя, что человек гибнет, уговорили его лечиться; Москаленко вылечился, бросил пить и вообще, как говорится, взялся за себя: располневший и обрюзгший, он завел себе строгий режим, сел на диету, похудел, помолодел, великолепно себя чувствовал, стал больше работать. Теперь, встречая иногда тех, кто еще продолжал бездумно бражничать, добродушно посмеивался над ними, а порой и советовал серьезно: «Бросил бы ты, братец, это дело, совсем другим человеком станешь, да и жизнь будет намного интереснее».








