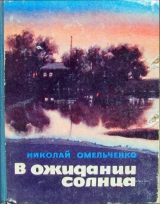
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
17. Луна и звезды
Утомительный съемочный день для большей части группы заканчивался властным режиссерским «Стоп!» и вдруг наступающей (после того, как гаснут диги и лампы) полутьмой, когда хочется немедленно смежить уставшие глаза. А вечером – отдых, его проводили кто как умел, по своему вкусу и способностям. Отдых для всех, кроме режиссеров, оператора и художника. Они еще долго сидели в номере у Коберского за журнальным столиком, вычерчивая на ошметке ватмана кадры, устало споря и сдержанно переругиваясь. А потом Жолуд написал своим разборчивым, несовременно красивым почерком «листок оповещения» на завтра, где точно указано, когда кому выходить на площадку, какая техника будет обслуживать съемку. Лист подписал Скляр, и Жолуд вывесил его в вестибюле.
Уже поздно вечером Коберскому позвонила администратор гостиницы и сказала, что для Осеина освободился номер.
– Виталий, собери и перенеси его вещи в его тридцатый, а то разбудит меня среди ночи, – попросил Аникей Жолуда, облегченно вздохнув.
Когда все ушли, взглянул на часы: они стояли, видимо, забыл завести. Услышав в коридоре голос Мережко, приоткрыл дверь:
– Который час теперь, Саша?
– Половина двенадцатого. Ты еще не спишь, к тебе можно? Как прошла съемка? – Мережко сочувственно смотрел на посеревшее от усталости лицо режиссера.
– Вроде бы нормально, – заводя часы, ответил Коберский.
В дверь постучали, заглянула дежурная.
– Аникей Владимирович, – радостно сказала она, – вы слушали последние известия?
– Нет, а что? – насторожился Коберский.
– На завтра обещают солнце!
Он поморщился и махнул рукой:
– Каждый день обещают… Спасибо вам, попробуем еще раз им поверить. – И уже к Мережко. – Чем занимался?
– Да пописал малость. Задумал-то давно, а никак не начну.
– Начнешь! – ободряюще усмехнулся Коберский. И тут же, словно ушат холодной воды: – А сценаристом настоящим ты все же никогда не станешь.
– Это почему же? – обиделся Мережко.
– Потому, что ты чистейшей воды писатель, проза твоя слишком самобытна. Писатель – это мастер, художник, а сценарист – всегда ремесленник, пусть даже хороший, даже гениальный, но все же ремесленник.
– Ну, это все спорно, – пожал плечами Мережко, усевшись в кресло. – Все это спорно, Аникуша, любое произведение, будь то сценарий или повесть, удачно, когда хорошо и ко времени написано.
– Все это так. Но все же осмелюсь утверждать, что сценарист – это литератор без своего лица, литератор, лишенный индивидуальности, пусть даже он и талантлив. А писатель, даже посредственный, имеет всегда что-то свое, присущее только ему одному, что-то самобытное. И работать вам в кино трудно потому, что, как это ни парадоксально, именно ваша самобытность и мешает вам. И нам с вами по этой же причине работать нелегко. Но мы с тобой все-таки еще поработаем. Напишешь – тащи мне, буду первым твоим читателем… – Коберский протянул ему руку.
– Посмотрим, – поднялся Мережко, – только когда это будет?
– Не прибедняйся, уверен, что это произойдет не позже, чем я закончу фильм. – Он усмехнулся. – Я даже знаю, о чем ты сейчас думал.
– О чем?
– Ничего, мол, я тебе не покажу, черта с два я с вами теперь буду связываться, угадал?
– Угадал! – рассмеялся Мережко.
– И все же никуда от нас не денешься, сам придешь, спорим?
– Видно будет…
Раздеваясь, Коберский слышал, как по коридору прошли Цаля и Мишульская: тот что-то ворчливо ей говорил, а она в ответ негромко напевала.
И почти тут же послышался осторожный стук в дверь.
– Ну кого еще там несет, неугомонные? – проворчал он. – Кто там?
За дверью не ответили, но постучали уже более настойчиво.
– Да кто же там, черт побери! – выкрикнул он, надел пижаму, сердито толкнул дверь. И едва не подкосились ноги: у порога стояла Галя. – Боже, Галка!..
– Ну? – Она, держа в руках перед собой модную дорожную сумку, качнулась по старой своей привычке с носков на каблуки; к другим такая привычка не пошла бы, вмиг полетели бы каблуки, но Галя была легкая, как пушинка. – Ну, – еще строже, ледяным голосом повторила она. – Не пишешь, не звонишь!
Он забрал у нее сумку, закрыл дверь, виновато развел руками.
– Я же только вчера от тебя письмо…
– А сам первый не мог написать? – Она сняла плащ, ища место, где бы его можно было повесить и вместе с тем скользя любопытным взглядом по номеру, по столам, по кроватям и креслам, по всему тому великому беспорядку, который царил здесь. – Не мог первый? И трешку пожалел на телефонный разговор!
– Прости, Галка. – Он взял у нее плащ, повесил его на пустой вешалке. – Прости, но ты знаешь, у меня тут такое было!..
– Да не оправдывайся, – уже не строго, а с ласковой насмешливостью произнесла она. – Что там у тебя такое? Вечно преувеличиваешь… – Она обняла его и поцеловала. А потом, уже капризно жалуясь. – Думала, не доберусь. В Баку сидели три часа, в Красноводске целых шесть, все ваш Ашхабад не принимал, дождь и дождь, а мне с детства внушили, что в пустыне дождей не бывает…
– В пустыне, как и везде, все бывает, – помогая снять кофточку, суетился вокруг нее Коберский.
– А теперь больше всего мне хочется принять ванну. Как у вас с горячей водой?
Он мигом метнулся в ванную, моля всех аллахов, чтобы те ниспослали горячую воду. Вода, к счастью, даже в этот поздний час была (наверное, иностранцы, которым так услужливо ее грели, не очень-то любили мыться).
Едва Галя вошла в ванную, Коберский заметался по номеру, заглядывая в ящики стола и тумбочки: надо же было чем-то угостить жену или хотя бы элементарно накормить с дороги. Но нашел только несколько леденцов, которые дала ему еще стюардесса в самолете, когда летел сюда, да полпачки печенья, припасенного для вечернего кофе. Постоял растерянно посреди номера, и тут же мелькнуло спасительное: Мережко! У него-то всегда что-нибудь найдется… Он, наверное, уже спит, но пусть не прогневается – такое дело!
Мережко еще не спал, у него в номере сидел Жолуд.
– Выручай, друг, жена приехала! А у меня нигде ни крохи, все потом втройне верну тебе, все отдам!
– Того, что я тебе дам, ты, конечно, не вернешь, с добродушной насмешливостью сказал Мережко и открыл тумбочку под телевизором, из которой он уже устроил уютный бар. – Так что все это можешь считать моим презентом Галке. Бутылка «хванчкары» устроит?
– О, спасибо, Саша!
– «Слива в шоколаде», коробка «Ассорти»?
– О, благодетель!
– Ну, еще вот апельсины, банка крабов.
– Век, Сашенька, не забуду твоей щедрости!
– Валяй. Сейчас же все и позабудешь! – смеялся Мережко.
Пока Галя плескалась в ванной, Коберский успел накрыть стол и даже раздобыть у дежурной букет тюльпанов, все выглядело теперь празднично. Галя вышла из ванной в шелковом стеганом халатике, босиком прошлась по жесткому ворсистому ковру, остановилась у столика, качнулась привычно с носков на пятки, плюхнула в кресло и только теперь ахнула, заметив столик:
– Откуда такая роскошь, Аник! Ты совершенно разбаловался!
– Это не я, – сознался Коберский, – это тебе презентовал Саша Мережко.
– Ну, тот умеет, тот может!
Коберский взял жену за руки:
– Родная, если бы ты знала… Я ждал только тебя и солнца, больше ничего!
– Но солнца ты ждал, наверное, больше?
Когда они поужинали, Коберский выключил верхний свет, а ложась к Галке в постель, погасил и настольную лампу. Но в номере все еще было непривычно светло, он даже не мог понять вначале, отчего это, и только потом увидел висящий прямо над ним яркий диск полной луны на усыпанном лучистыми звездами небе. Аникей тут же вскочил, подбежал к окну.
– Ура! Луна и звезды, ты видишь их, Галка?
– Вижу!
– Это ты их привезла, спасибо тебе! – Он возбужденно забегал по номеру. – Ну, завтра и шум будет! Никаких кафе, к черту интерьер! Все – как было в сценарии до этого!
– Ты что, Аник, бредишь? – обнимая его, обеспокоенно спросила Галя.
– Нет, нет, Галка, – торжественно сказал Коберский, – ум мой чист и ясен, как вот сейчас это небо.

Варя Скосырева


1
Все это началось по дороге на Вилково, между Шабо и Белгородом-Днестровским, куда наша киногруппа забралась в поисках подходящей натуры.
В «рафике» нас было пятеро; но говорить сейчас о своих товарищах нет необходимости, потому что к истории, о которой я хочу рассказать, никто из них никакого отношения не имеет.
Мы уже давно молчали, за долгую дорогу обо всем переговорили, однообразные пейзажи с пыльными виноградниками нам порядком надоели. Уставшие от ухабистых проселочных дорог и тряской брусчатки, разморенные жарой, мы подремывали, лишь изредка просыпаясь от сильного толчка на выбоинах. И когда машину встряхнуло сильнее обычного, так, что, обсыпая осколками сиденья, повылетали стекла, а мы, сорванные с мест, попадали на дно кузова, нам тоже вначале показалось, что это очередная колдобина, которой не заметил наш шофер. Но уже в следующее мгновенье мы увидели помятый капот тупорылого газика, а наш водитель вдруг всем корпусом рванул баранку влево, машина взлетела на крутую насыпь и уткнулась в лозы виноградника. Если бы не эта крутизна, погасившая скорость, нам бы, пожалуй, пришлось худо. А так, как говорится, лишь отделались легким испугом да небольшими ушибами.
Мы вышли из машины. У нашего «рафика» было смято крыло и пробита правая часть кузова. Газик пострадал больше, радиатор запал внутрь, сдвинув мотор. Машина истекала водой и маслом.
Наш шофер, размахивая кулаками, набросился на хозяина газика с самыми страшными ругательствами. Но когда мы спустились к ним с откоса, он говорил уже спокойнее, а затем и совсем замолчал, словно поняв вдруг, что перед ним стоит глухонемой. Мы все вначале подумали: водитель газика молчит потому, что оправдываться ему нечем, он и действительно виноват на все сто процентов, его машина на всем ходу вылетела на трассу с проселочной дороги, а какие бы то ни было оправдания лишь еще больше настроили бы нас, пятерых, против него. Но уже несколько успокоившись и присмотревшись к нему, поняли: парня совершенно не волновало случившееся, он был абсолютно равнодушен ко всему и напоминал человека, который уже давно примирился с мыслью о своей самой что ни на есть печальной участи. Он был высок, красив, такие типы часто встречаются у нас на юге, где круто смешана кровь южных и северных национальностей. У него были черные гладкие волосы и синие – не голубые, а именно синие, как это часто бывает у брюнетов, – глаза. Тонкое, слегка продолговатое лицо в те минуты очень побледнело и поэтому казалось светлым, как у ребенка. Внешне это был чуть ли не идеальный парень, хоть сегодня снимай его в кино в роли эдакого героя-красавца. Даже кисти рук его, словно напоказ высунувшиеся из коротких рукавов замасленной нейлоновой куртки, как бы убеждали неверящих в силу этого парня: вот сожмемся в кулачищи, и тогда… Но, как ни странно, сейчас они были вялы, как гроздья тронутого морозцем винограда.
– Моя вина, ребята, – наконец безучастно произнес парень.
Рядом уже остановилось несколько машин, вышли любопытные. И тут же, как бывает в подобных случаях, подкатил мотоцикл с двумя работниками ГАИ. Быстро, молча осмотрев помятые машины, дорогу, милиционеры, по всей видимости, сразу же все поняли, и коренастый лейтенант, подойдя к парню, произнес спокойно, с легким вздохом:
– Снова ты, Борута…
– Я, – вяло ответил парень.
– И вином разит. Пьян?
– Есть малость.
– Ну, теперь не открутишься!
– А я теперь и не собираюсь…
Пока проводились разные замеры, опрашивали очевидцев, составляли протокол, Вадим Борута (мы теперь уже знали его имя) оставался стоять на одном месте, все с тем же безучастием глядя перед собой, коротко и односложно отвечая на вопросы, которые ему задавали, ни в чем не оправдываясь, а даже наоборот – полностью взяв на себя вину, и этим невольно вызвал наше сочувствие. Когда все было закончено и лейтенант, глядя на наш искореженный «рафик», спросил, куда мы следуем, парень слегка повернул голову в нашу сторону. А услышав, что мы едем в Вилково и будем там до тех пор, пока не починим машину, Борута заметно заволновался и, довольно решительно взяв меня за руку, сказал просяще:
– Мне нужно сказать вам несколько слов.
Заметив на моем лице удивление и истолковав его по-своему, он быстро произнес, кивнув на помятый газик:
– Нет, нет, вовсе не об этом! Это все ерунда. О другом, о личном… Ну, на две минутки. Отойдем… – И, поймав на себе взгляды работников ГАИ, добавил: – Не бойтесь, не сбегу..
– А куда тебе бежать, – отмахнулся лейтенант.
Мы остановились у виноградных лоз.
– Присядем, в ногах правды нет, – сказал Борута.
Мы сели на колючую, выгоревшую траву. Солнце пекло вовсю, сидеть было неудобно и жарко, на дороге хоть ветерок обвевал, да и вообще всегда кажется, что стоять на солнцепеке куда легче, чем сидеть.
Борута раздражающе долго собирался с мыслями, а потом заговорил торопливо и не очень внятно.
– Теперь уже конец, – загудел, – посадят. За хулиганство полтора условно схлопотал. Срок еще и не кончился. Но мне все равно… Пусть хоть смерть!..
– А почему при этом должны страдать другие? – перебил я его.
Он приумолк на мгновенье, тупо, непонимающе глядя на меня.
– Мы-то, говорю, при чем? Ведь и мы могли погибнуть! Или кто-нибудь другой…
Медленно, но все же дошел до него смысл моих слов. Лицо его слегка покраснело, в глазах застыла растерянность.
– Об этом не думал, – вздохнул он. – Варя опять, в который раз, права. Всю жизнь только о себе пекся…
Мне уже надоел этот, хотя и короткий, но зряшный, неприятный разговор, и я хотел было подняться, но Борута вынул из кармана блокнот, огрызок карандаша и стал что-то быстро писать. Затем вырвал листок и сказал уже спокойнее:
– Здесь адреса. Зайдите, пожалуйста, и все расскажите. Лиля – это моя жена. Я ей еще напишу. Да и придет она ко мне… А это Варин адрес. Из-за нее все… Была невестой моей. В невестах и осталась… Женился я на Лиле, хоть и не любил. Хотел за все, за все ей, Варе, как это называется… отомстить. Да нет, не то слово. Другою не знаю. Короче, хотел, чтобы она век страдала, жалела, ведь она любила меня и сейчас любит. Да, любит, я знаю. Сама говорила. Люблю, говорила, и буду любить, но никогда не стану твоей. Думал, она страдать будет, а вышло, что я, я!
Последние слова Борута почти выкрикнул. Лицо его вдруг исказила гримаса, в глазах выступили слезы. Он отвернулся, прокашлялся. Заговорил глуховато, спокойнее:
– Так что же это делается? Скажите, а? Зачем же жизнь калечить друг другу? Ведь и я люблю и она любит…
– Борута! – донесся голос лейтенанта.
Мы поднялись.
– Так вы зайдете к ней? – спросил Борута.
– Честно говоря, я не понял, что передать…
– Лиле только скажите, что случилось, а Варе наш разговор передайте. И что смерти искал, передайте. Скажите ей, что к жене я после отсидки не вернусь. Буду один. Варя одна – и я всю жизнь один буду. А мое слово – камень! Это все знают.
2
Вилково на Дунае – один из самых оригинальных городов нашего юга. Вдоль улиц-каналов, по-местному ериков, лежат на сваях дощатые кладки-тротуары, заборы у домов сколочены из обомшелых днищ старых каюков, а калитки во дворы – крохотные мостки через ерики. На ночь их не закрывают от нежданного гостя, а поднимают, как когда-то у ворот крепостей поднимали мосты через ров.
Дунай здесь не имеет крутых берегов, идет вровень с сушей, и при скольжении по водной глади даже небольшого каюка пепельные от ила волны накатываются на берег и добегают до самых заборов, оставляя в кустах верболоза белые гнезда иены.
Я бродил по пружинящим под ногами кладкам, по кирпичным, замшелым от сырости тротуарам, похожим на окислившиеся медные плиты, и необычность городка так очаровала меня и увлекла, что лишь поздно вечером, стоя в густых потемках над Дунаем и слушая протестующий девичий шепот, вспомнил о просьбе Боруты.
«Может, отыскать его любовь, зайти? Развлеку, чтобы не скучала по Боруте», – весело и легкомысленно подумалось мне. И тут же попытался представить себе ее: какая она, видавшая ли виды молодуха или вот как эта девчонка в каючке с ласково-строгим шепотом? Но я уже порядком устал, да и не стоило так поздно вторгаться в дом, тем более с неприятными известиями. Да и найдешь ли ты нужную улицу в незнакомом городе в такую темень?
И я поплелся в гостиницу к своим ребятам.
На следующее утро я проснулся очень рано от дребезжащего звона гостиничных окон. Перед этим мне снились густые, бесконечные дунайские плавни – камышовые джунгли, которые я видел накануне, подъезжая к Вилкову. А над этими плавнями висел гигантский тарпан для резки камыша, но резал он со скрежетом и грохотом не камыш, а рыболовный сейнер, который я вчера тоже видел на причале… Я поднялся и посмотрел в низкое, незашторенное окно. По брусчатке, гремя всеми пластинами своих мощных гусениц, полз трактор, таща за собой сразу два строительных вагончика; и трактор, и вагончики показались мне инородными в этом городке, где царствовали пропахшие рыбой сейнеры и каюки, да еще влажные от камышового сока тарпаны.
Уже с утра было душно от солнца и влаги. Я вышел на улицу. Хотелось нить, но вода в колодце-бассейне на гостиничном дворе была привозная, теплая, попахивающая илом, и я решил потерпеть до базара, находившегося неподалеку, где, конечно же, найдется кое-что повкуснее привозной водицы.
Южный базарчик предстал предо мною во всем богатстве и всей своей красе. Горки яблок и груш, корзины слив, алычи и айвы, вееры тарани, рыбца, тяжелые плети молодых сомят, и среди всего этого на каждом шагу вино в мутноватых графинах, а рядом стакан – пробуй, утоляй жажду. Я выпил стакан терпкого домашнего каберне, впился зубами в брызнувшую обильным соком мягкую, ароматную грушу и, ощутив веселую беззаботность, пошел вдоль рядов. Базарчик в Вилкове отличался от других южных базаров, пожалуй, лишь тем, что не был криклив и шумен, люди здесь сдержаннее и молчаливее. Я остановился у косо опершегося на старенький пыльный забор винного ларька, прислушался к степенному, неторопливому разговору, который вели мужчины со стаканами вина в руках.
– Я рыбак, надо – буду ловить сельдь, камбалу, а надо – и карасиком не побрезгую, – говорил краснолицый седобородый мужчина в соломенной шляпе и высоких резиновых сапогах. Отпив одним глотком добрых полстакана вина, продолжал: – Но если я зашел к тебе, ты меня поперву сесть пригласи!
– Зазнался малый, – сказал стоящий рядом длинный парень в сильно вылинявшей майке и сандалиях на босую ногу.
– А ты бы ему по шее! – оглянувшись, будто боясь, что его услышит кто-нибудь посторонний, посоветовал сухой человечек с фиолетовыми губами. – По шее таким давать надо, и чтоб без свидетелей! Знаешь, как Вадька Борута однажды рыбинспектора с глазу на глаз проучил?
– Проучил, – фыркнул, насмешливо дернувшись всей своей длинной фигурой парень, – проучил – и с сейнера за это списали! Чуть было в отсидку не угодил, да простил инспектор…
Я хотел было вмешаться в разговор, спросить о Бо-руте, но седобородый, допив вторым глотком остатки вина, сказал сердито:
– А вы разве не слыхали, что его уже упекли?
– Да ну? – вырвалось у кого-то, остальные же уставились на седобородого с терпеливой выжидательностью.
– Да об этом уже все Вилково знает, – сняв соломенную шляпу и вытерев рукавом потный лоб, сказал рыбак.
– А за что же это? – удивился мужчина с фиолетовыми губами.
– Говорят, авария. Жертвы есть, да к тому же пьяный был, такого не прощают. – Седобородый вздохнул, заказал себе еще стакан вина и, отпив половину, заключил. – Нашли кому машину доверить – дурачку…
– Да пора бы уже поумнеть, отец уже, – вставил фиолетовогубый.
– А когда это дети ума придавали? – вновь насмешливо качнулся длинный в вылинявшей майке.
– Дело не в уме, а в серьезности, – ответил седобородый.
– Вот эта штука его погубила, – щелкнул по стакану пальцем длинный.
– Вино придумано умными людьми и не для дураков, а для тех, кто умеет пить. А тем, кто не умеет, я бы клеймо на лоб ставил: этому не давать ни в жисть! – сурово нахмурился седобородый рыбак, поставил пустой, подкрашенный розовым вином стакан на-прилавок и пошел от ларька, шагая несколько косолапо, но широко и твердо.
Остальные тоже поставили свои стаканы, и я понял, что компания распалась. А когда и они уходили, я достал листок, врученный мне Борутой, и, прочитав названия улиц, спросил у длинного, как туда пройти.
По дороге я встретил существо, на которое где-нибудь на Крещатике или на Дерибасовской, пожалуй, не обратил бы даже внимания, по в этом городке оно так всему контрастировало, что я невольно приостановился. Существом этим была девушка в длинной малиновой юбке с высоким прорезом на боку, сквозь который при каждом движении проглядывали нога и часть бедра. Грудь ее была лишь слегка прикрыта какой-то поблескивающей мишурой, спина же оставалась по-пляжному голой. Девушка вся, от ногтей до волос, была так обильно «загрунтована» всевозможными красками, что возраст ее поначалу трудно и определить. А лицо вообще – сплошная радужная маска. В одной руке она держала цилиндрическую корзинку с клубникой и зеленью, а в другой незажженую сигарету. Девушка остановилась, глядя на меня с изучающей пристальностью:
– Простите, пожалуйста, у вас огонька не найдется?
– Простите, не найдется, некурящий.
– Серьезно? – откровенно удивилась она.
– Серьезно и надолго, – вздохнул я.
– Первый раз встречаю киношника без зажигалки.
– Что ж, меня все считают редким экземпляром, – начал было я насмешливо, но тут же спохватился, несколько озадаченный. – А откуда вам известно, что я киношник?
Я даже невольно оглядел себя. Ничего отличительного от других: потертые джинсы, ковбойка, туфли из искусственной замши. Так ходят сейчас многие, как говорится, и в селе и в городе. Может быть, перстень с кинолентой? Борода? Но сейчас многие носят бороды.
– Своих узнаешь особым чутьем, – почти загадочно ответила она.
– А если конкретнее?
– Видела вас в машине, которую чинит мой брат, он механик. Вам ее тот подонок Борута порядочно помял.
– И вы его знаете?
– У нас тут все друг друга знают.
– И Лилю, его жену, конечно, тоже знаете?
– Еще бы… Несчастная женщина! Ну, сама виновата. Бабы сами в петлю лезут, особенно те, кто способен только детей рожать.
– А с Варей вы знакомы?
– Скосыревой? Эта моя бывшая школьная приятельница. Мещанка. Собственно, как и большинство в нашем городишке.
– А вы к какому сословию себя относите? – осторожно, хотя и не без прочий, спросил я.
– К временным неудачникам, – покривившись, сказала она.
– Ну, об этом еще рановато говорить, – польстил я.
– Поступала во ВГИК – провалилась, в Харьковский театральный – то же самое, одного балла не хватило. У Варьки-то Скосыревой все проще, таким, как она, жить легче. По традиции, как и все ее родичи, на рыбозавод, а людям, чей контрапункт жизни совершенно иной… – Она не договорила, кивнула здоровенному, мрачноватого вида парню и спросила, потянувшись к нему сигаретой. – Огонька не найдется, малый?
Тот остановился, остолбенело поглядел на нее и с какой-то ленивой брезгливостью выдавил:
– Пошла вон!..
– Вот видите, какие тут персонажи встречаются, – ни капли не смутясь, со вздохом сожаления кивнула она вслед парню, добавила. – Тут много таких…
– На Боруту чем-то похож, – заметил я.
Она возмутилась:
– Ну что вы! Борута просто пижон и хулиган, а это местный жлоб. – Она помолчала и видя, что я замялся, собираясь уходить, быстро, без особого любопытства, а вероятно, лишь только для того, чтобы продолжить разговор, спросила. – А откуда вы знаете Лилю и Варю?
– Борута передал Лиле письмо, ну а о Варе я просто слыхал, что любопытная особа, – солгал я.
– Она не в вашем вкусе…
– Откуда вам известен мой вкус?
– Да уж известен, – с таинственным видом всезнайки и детской доверительностью тихо сказала она и тут же с бесшабашностью. – А чем вы занимаетесь вечером?
– Играем в преферанс.
– Прямо вся группа?! – почти с ужасом спросила она.
Я вспомнил моего ассистента, начинающего оператора Ромку, вспомнил, что его интересуют такие девушки, как вот эта, и сказал:
– Почему же, нет… Один симпатяга не играет. Слишком молод, и к сидячим играм у него никакой склонности. Приходите вечерком к гостинице, он вас будет ждать.
3
Семья Боруты жила на неширокой улочке, а вернее, на одном из канальчиков, впадавших в главный, большой. К дому Боруты я и шел вдоль этого ерика, по пружинящим под ногами мосткам в две доски. Дом был деревянный, крытый камышом, а наполовину застекленная веранда, окрашенная зеленой краской, видимо, пристроена недавно. У крыльца я увидел женщину, сидящую на низеньком стульчике в какой-то неестественной, напряженной позе. На одной руке она держала ребенка, другой что-то делала. Только всмотревшись, я понял, что женщина красила свежеоструганные ступеньки крыльца. Делала это поспешно, нервно и неумело. Заметив, что я остановился у ее дома, настороженно обернулась, держа в отведенной в сторону руке кисть, с которой капало на землю, а на мое «здравствуйте» лишь слегка кивнула и спросила:
– Вы к кому?
– Вы жена Боруты, Лиля?
– Ну?
Я вошел во дворик, женщина положила на крыльца кисть, поднялась, пересадила привычным движением с одной руки на другую ребенка с пышными кудряшками, с длинными кукольными ресничками, в цветастой рубашонке – мне трудно даже было понять, девочка эта или мальчик, и с напряженным выжиданием смотрела на меня. Она, конечно же, никого не ждала так рано, была непричесанная, в халатике и босиком. Из-под припухших век колюче смотрели зеленоватые глазки. Услыхав, с чем я пришел к ней, она вдруг как-то ссутулилась, низко нагнула голову и визгливо, сквозь давившие ее слезы выкрикнула:
– Я уже все знаю. Ну и пусть! Он мне, проклятый, жизнь испортил!
И тут же убежала в дом по только что покрашенному крыльцу. На темно-красном полу веранды остались зеленые следы ее босых ног.
Я постоял некоторое время посреди дворика. Из дома слышались надсадные приглушенные рыдания, потом заплакал ребенок. Мне было искренне жаль Лилю, и я подумал, что, наверное, не следовало приходить к ней, лишний раз расстраивать, тем более, что она уже все сама знала, а помочь я ничем не мог – только сделал хуже. Да и у меня настроение испортилось, и поэтому уже не хотелось идти к Варе. Она, как мне думалось, тоже была виновата в несчастье этой бедной женщины. Я ругал про себя Боруту и за Лилю, и за то, что группа наша по его милости оказалась в вынужденном простое, злился на себя за свой приход сюда. Но делать было нечего, улочки находились рядом, и я по горбатому мостику вышел на соседний канальчик, отыскивая нужный номер дома. Я уже почти подошел к нему, когда из дворика вышла девушка и торопливо зацокала каблучками по кладкам мне навстречу. Я почему-то сразу же угадал, что это Варя, почему – не могу объяснить и до сих пор. Когда она поравнялась со мной, я, чуть посторонившись, чтобы дать ей дорогу на узких мостках, спросил:
– Извините, пожалуйста, вы не Варя Скосырева?
– Варя! – охотно и обрадованно выпалила она, заулыбалась и засияла так, будто все, что было в ней самого радостного, самого светлого и приветливого, выплеснулось на ее лицо, растворилось в улыбке. Я даже смутился – давно не видел такой откровенной, такой обаятельной, предрасполагающей улыбки. Нет, ничего необычного в Варе не было, пройдет такая мимо – и не заметишь ее. И красотой особенной она не отличалась, самая что ни на есть обыкновенная девушка. Вот только эта улыбка, эта естественность и непосредственность – именно то, чего так добиваются режиссеры даже от талантливых актрис и чего так редко удается добиться. Но она не актриса, не играла, все в ней было естественно, и в этом была сила ее красоты.
Видя мое смущение и некоторую растерянность и истолковав все это по-своему, Варя тоже чуть-чуть смутилась, слегка покраснела, взяла меня за руку, торопливо заговорив:
– А я вас таким и представляла! Точно-точно таким!
От этих ее слов я совсем растерялся: наконец-то хоть одна девушка обрадовалась, что я именно такой, а не другой, и оттого, что не обманулась, так счастливо сияет.
– Мне Василь столько о вас писал! Только он говорил, что борода у вас как у шотландского шкипера, а у вас как у наших староверов. Отросла в дороге, да?
Я не успевал ей ответить, да и не знал, что и как отвечать, – очень уж не хотелось ее разочаровывать. Впрочем, она и не давала мне говорить. Идя рядом со мной по таким узким кладкам, что ее плечо все время касалось моего, тараторила:
– Я опаздываю на работу, сейчас прямо пущусь бегом. Кончаю в четыре и сама прибегу к вам, тогда обо всем, обо всем и поговорим. Вы ведь остановились у Изотовых?
Я что-то промычал в ответ, а она тут же:
– А если у вас есть время, можем встретиться в порту. Мне туда после работы на минутку по делу забежать надо. Договорились?
– Да, – теперь уже внятно сказал я, ощущая одновременно и радость от такого внезапного знакомства и проникаясь не очень-то веселым, гаденьким чувством обмана, неприятным ощущением того, что все это скоро откроется. «Но я ли виноват в этом, ведь слова не дала сказать», – успокаивал я себя.
А она и действительно почти побежала по кладкам и, сворачивая за угол, оглянулась, помахала мне рукой.
«Кто же этот Василь? Брат, жених, просто хороший знакомый? А кто тот счастливчик, за кого она меня приняла? Конечно, одного имени мало, а то можно было бы такую игру на эти несколько дней вынужденного простоя затеять! Целый детектив!» – вновь уже легко и насмешливо думалось мне. Но чем дальше я заходил в своем воображении в уже выстроенный сюжет этого лирического детектива, чем чаще в нем появлялась Варя с ее обаятельнейшей улыбкой, тем больше охватывало меня неприятное беспокойство. И я уже не был уверен, смогу ли сыграть случайно доставшуюся мне, не принадлежавшую по праву роль.
Шел я по Вилкову, как говорила одна наша старая актриса, в расстроенных чувствах. Но это не помешало мне отыскать укромный пляжик, искупаться и пойти в кафе завтракать. «Не стоит об этом слишком много думать, – решил я, вновь пытаясь настроиться легко и весело. – Пусть все будет, как выйдет. Откроется обман – скажу ей все, как просил Борута, и делу конец».
Мои ребята уже восседали за столиком этого душного, пропахшего горклым маргаринным перегаром кафе, где свисающие с потолка ленты липучек были черны от упокоившихся на них мух. Зато яства были!.. Когда видишь такой стол, хочется воскликнуть: «Да здравствует цветная пленка!» Центр стола украшало огромное блюдо жарко-красных раков, блюдо окружали пузатенькие стражи – графинчики с золотистым шабским, черные плети молодых сомят, а между всем этим тарелки и тарелочки с крохотными юными огурчиками, с клубникой и персиками.








