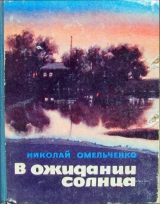
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Как-то в Доме кино, в баре, Виталий сидел в шумной компании, конечно же, не пил, только цедил через соломинку коктейль из апельсинового сока. Подошел Осеин с каким-то своим приятелем. Был тот еще очень молод, но не по годам уже раздобревший, с животиком, отечным лицом, от него сильно несло спиртным. Виталий Москаленко, видимо, хорошо знал его. «Слушай, старик, – несколько брезгливо обратился к нему Виталий, – ты же совсем еще мальчик, а как разнесло тебя. А все, дорогой, чрезмерная выпивка. Брось, вот возьми пример с меня – сразу же и похудеешь, а значит, и проживешь дольше». Парень смутился, пьяно отмахнулся, а Осеин насмешливо сказал громким и внятным своим голосом, обращаясь к Москаленко. «Послушай, милый, а зачем вот тебе, к примеру, жить-то долго? Ну, увидишь, как твоя жена еще пару раз уйдет к другому, ну, напишешь еще полдюжины посредственных сценариев…»
Подвыпившей компании это показалось остроумным, она грохнула нетрезвым смехом. Москаленко побледнел, в его лице что-то как бы сдвинулось. Опустив голову, он долго сидел так, а потом поднялся и вышел. Осеин бросил ему вслед победно и жестко: «Вот так-то, милый!..» В тот вечер Москаленко снова напился, и теперь ничто не могло его остановить. Вскоре он умер от инфаркта.
– Кури, милый, – повторил Осеин, подталкивая пачку с сигаретами.
Курить Коберскому перехотелось, он снова вернулся к столу. В это время в номер вошел Мережко.
– Привет, Митя! – весело поздоровался он с Осеиным.
– Привет, привет, Сашенька! – поднялся с кровати Осеин.
– Решил почитать классику? – кивнул Мережко на сценарий.
– Повторить, – вздохнул Осеин и окинул Александра иронично-восторженным взглядом. – А ты красив, красив, в тебе даже появилась некая вальяжность, вечная спутница преуспевания. Как же! Совсем недавно – «подающий надежды», потом – «молодой, талантливый», а теперь пишут: «известный прозаик и кинодраматург». И, представь, все это правда, ни капли преувеличения. Писатели действительно делятся на известных и неизвестных. Но и тут есть своя градация. Есть совершенно неизвестные, и относительное их благополучие в том, что никто не знает, хорошие они или плохие. А вот известные – это да! Это люди, я бы сказал, трагической судьбы, они всем известны тем, что пишут плохо!
Мережко снисходительно усмехнулся:
– Ты, Митя, все свои интеллектуальные алогизмы возводишь в степень категоричности. Люблю я тебя за это.
– Ну, так уж и любишь, – рассмеялся Осеин.
Он поднялся, прошелся по номеру, разминаясь и потягиваясь, снял очки и, протирая стекла платком, некоторое время близоруко смотрел перед собой. Глаза у Осеина были маленькие, голубоватые; на красных, словно воспаленных веках ресниц или не было вовсе, или были они такие короткие, что и заметить трудно.
От всего этого лицо казалось каким-то беспомощным, наивно-младенческим. Но вот он надел очки – и сразу же преобразился, в лице появилось что-то менторское, холодноватое.
– Так вот, Саша, всего не только не упомнишь, по и не разглядишь сразу как следует. А вот сейчас я читал и, признаться, кое-что меня насторожило. Удивляюсь, как не заметил этого раньше. Мелочи, конечно, однако… В книге, например, в рассказе или в каком-нибудь романе, эти вещи могут быть и не замечены, а кино обладает страшной силой гиперболизации… – Ом замолчал, коротко поглядывая то на Коберекого, то на Мережко.
Александр был весь внимание, а Коберский, слушая и сразу же протестующе настораживаясь, смотрел в окно на темно-серые космы облаков, похожих на гигантские уродливые тени, медленно плывущие над крышами.
– Ну говори, говори же, Митя, – нетерпеливо сказал Мережко. – Что за привычка тянуть резину!
– О чем у тебя сценарий? – ткнул пальцем в него Осеин.
Это был один из тех вопросов, от которых Мережко всегда терялся. Ему было легче написать повесть, чем внятно растолковать, о чем она.
– Ну… – Мережко развел руками и поглядел на Коберского, как бы ожидая от него спасительной подсказки. Но тот молчал. – Ну… прежде всего о человеке.
– О каком человеке?
– Как это о каком?
– Ну, о хорошем или плохом, злом или добром, если уж говорить школярским языком…
– О добром, – все еще не понимая, к чему клонит Осеин, улыбнулся Мережко.
– Нет, милый, не о добром!
– Мне-то лучше знать, о каком я хотел…
– Желание и его исполнение, как известно, – вещи, не всегда идущие друг другу навстречу. Твой герой не добрый, а всего лишь добренький. Его взбалмошная дочь не хочет идти в школу, просит отца, чтобы тот разрешил ей остаться дома… И что же? Он, взрослый человек, волевой и умудренный жизнью, с которого следует брать пример, разрешает ей это!
– Но она же неважно себя чувствует, больна…
– Чем она больна? Грипп, у нее температура?
– Нет, у нее конфликт в школе, она сама виновата в нем, девочка терзается, ей нужно успокоиться, подумать, осознать все спокойно, а у отца в тот день выходной, он хочет провести его с дочерью, о многом поговорить, и это будет гораздо полезнее для нее…
– Ну что ты мне-то объясняешь? Я все понимаю, но поймут ли правильно те, кто будет смотреть фильм? Ну, если бы такой фортель вдруг выкинул отрицательный герой – еще куда ни шло, а то симпатичный, положительный… Да и не болезнь вовсе у этой дурехи, а просто девичья блажь, с которой надо бороться не высокими душевными словами, а ремнем…
– Это болезнь, как и любая другая, – упрямо, начиная раздражаться, сказал Мережко. – И он у меня не просто добренький, а именно добрый, человек с умным сердцем.
– Ох, ох, ох, – покачал головой Осеин, – всему этому я верю, все это так, но что, к примеру, скажут учителя, узрев такой эпизод в фильме?
– А какое нам дело до того, что скажет какой-то учитель? – пружинисто выходя на середину комнаты и став к Осеину бочком, словно принимая боксерскую стойку, вмешался Коберский.
– Не «какой-то», ми-и-илый, а наш, советский! И не просто скажет, но и напишет, и не автору или режиссеру, а в газету, в Госкомитет…
– Госкомитет, как вам известно, сценарий вот с этим самым эпизодом утвердил, и один Осеин, к большому счастью для кино, изменить уже ничего не сможет, – сухо отрезал Коберский.
– Да я ведь только советую, мне-то что? Но вам все-таки следовало бы прислушаться, сценарий одно, а фильм – совсем, совсем другое. Разве мало потом вырезают из него? Вам ведь, милый, известно и такое?
– Известно даже, что и вообще на полку кладут!
– Ну, милый, вы не из тех режиссеров, фильмы которых кладут на полку, и все же… Зачем вам усложнять себе жизнь?
– Этот вопрос считаю исчерпанным, – строго и деловито, как на заседании, сказал Коберский. – Насколько мне известно, цель вашего приезда несколько иная. Автор напишет новые сцены для интерьеров. Их тема, в основном, не меняется. Вот их и обсудим…
Дверь приоткрылась, и в номер вошла официантка с подносом, на котором стояли кофейник и чашки.
– Вы, девушка, не перепутали? Я ведь не просил, – удивился Коберский.
– Ни капельки, – ответила она, глядя почему-то не на Коберского, а уже на более знакомого ей Мережко. – Ни капельки, ваш Борис Семенович прислал…
– А-а-а, тогда спасибо, – кивнул Коберский.
– Ваш директор, Аникей Владимирович, намного гостеприимнее вас. Все же я гость, хоть и мало симпатичен вам, но гость…
– Так вот, я и говорю… – следя за тем, как официантка на журнальном столике расставляет чашки, как разливает кофе, начал было Коберский, но тут же замолчал, кривясь и хмурясь, будто никак не мог вспомнить, о чем собирался говорить.
А Осеин и Мережко, казалось, забыв о споре, уже мирно пили кофе, улыбались официантке Нине. Но едва та ушла, Осеин вновь заговорил о материале фильма: повторил, что брак случился не по вине группы, хвалил отдельные эпизоды.
В номер неожиданно ввалился Цаля. Волосы и пиджак его были мокрыми от дождя, он зябко поеживался.
– Входи, входи, Цаля. Погляжу на тебя, тысячу лет не видел!
– Ба, Митя! – Цаля пошел навстречу поднявшемуся из-за стола Осеину.
Когда-то они были приятелями, хорошо знали друг друга, а потом, как это часто случается в жизни, их дороги разошлись, несколько раз они довольно остро сталкивались во время обсуждений новых фильмов.
– Жив, жив курилка! – смеялся Осеин.
– А чего это я должен не жить?
– Да не видел тебя давненько, ты словно сквозь землю провалился.
– Почти угадал, я действительно сейчас в подполье, добиваю сценарий.
– Молодец, поздравляю! Разбогатеть захотел? Ну давай, давай! Ты и жизнь, и кино знаешь, давай, поможем, Цаля. Кому-кому, а тебе поможем. Да вот тот же Мережко первый поможет! Вообще-то, каждый человек, проживший интересную жизнь, может написать одно неплохое произведение. Вот оживай и ты, поднимайся… Я тебя, между прочим, в эпизоде у Коберского в роли пенсионера видел. Представь, не хуже наших актеров, талантливый этюдик вышел… – Осеин перестал улыбаться, благодушие, с каким он говорил с Цалей, мгновенно исчезло с лица, он вдруг сказал, обернувшись к Коберскому. – Кстати, а почему у вас, в благоустроенном поселке, танцы на шоссе, да еще в дождь? Для киношного эффекта? Фары машин, дождь… У девушек платья облепили фигуры, герой – как мокрая курица… Будете переснимать – придумайте что-нибудь другое.
– Уже пересняли позавчера, и снова – шоссе и дождь, так нужно, так и в сценарии, – сдержанно ответил Коберский.
– Но почему, почему?! – даже хлопнул от досады себя по бедрам Осеин. – Почему они танцуют в дождь, какова мотивировка данного эпизода?
– Пьяные были, – всхохотнув, сострил Цаля.
Коберского даже передернуло.
– Вон! – затопал он на Цалю ногами.
– Ретируюсь, ретируюсь, – попятился к двери Цаля, – поняв, что сострил неудачно, а главное – в неподходящий момент.
Осеин пожал плечами:
– Вы, Аникей Владимирович, вижу, не в настроении, отложим этот разговор, да и обедать уже пора. – Он надел пиджак и вышел вслед за Цалей.
– Пойду и я, – поднялся Мережко и успокоительно похлопал Коберского по плечу. – Не надо, Аникуша, по пустякам нервничать. Я пойду и подумаю над сценой в кафе.
Аникей молча пожал ему руку.
8. Когда ничего над тобой не висит
Работать не хотелось, и то море фантазии, о котором не раз шутливо говорил Коберский, не плескалось волнами, даже мелкой зыби не было – полный штиль. Мережко приготовил себе крепчайший кофе, чтобы как-то взбудоражить это «море», но потом все равно долго лежал на кровати, в полной тишине, нарушаемой лишь хлюпаньем дождя за окном. Думалось трудно. И дело было вовсе не в лени, о которой тоже говорил Коберский, просто Александру уже до смерти надоел этот сценарий. Сколько раз он зарекался заключать со студиями договоры, продаваться в это добровольное рабство, но каждый раз вновь в него попадал. И опять начиналось одно и то же, все сначала. Писал, обсуждали, возвращали на доработку, снова писал, вновь обсуждали и возвращали – варианты, варианты… Сколько их было? Ровно столько, сколько утверждающих сценарии инстанций. А возможно, и больше. Проклинал все, снова писал… Повести тоже рождались в муках, но эти муки были сладки, он наслаждался ими, чувствовал себя творцом, богом; здесь же он был рабом. Проклятье!
После долгих усилий вроде бы проклюнулась какая-то мысль. Он вскочил с кровати, сел за стол, быстро, как пулемет, застучал на своей «колибри»…
А через полчаса Мережко уже был у Коберского.
– Кажется, нашел! – протянул испещренный мелким шрифтом лист бумаги.
Коберский читал, болезненно морщился, но потом его лицо несколько просветлело, губы тронула едва заметная улыбка.
– Ну, мотивировка, хоть и относительная, все же есть. Сойдет… А вот экспозиция эпизода не та! Ну зачем ты так пространно все это описываешь? Все слова, слова… Актерам играть надо, а не говорить. Напиши просто – они друг другу нравятся, а там уж актеры сами как-нибудь сыграют.
– «Они друг другу нравятся»?! – вскипел Мережко. – Да как у меня рука поднимется написать этакое, пусть даже в скороспелом эпизоде? Это в аннотации можно, в театральной программке, а не в произведении!
– Да не обязательно так, пиши по-своему, но короче, яснее и, главное, динамичнее, чтоб актерам было что играть.
Пришли Скляр и Жолуд.
– Аникей Владимирович, с кафе все в порядке, оказалось, в горпищеторге сидят симпатичнейшие люди, один из них даже филателист. Договорились прямо на завтрашнее утро. Причем сегодня они закрывают кафе раньше, так что свет и кое-какой реквизит можно перевезти вечером, – доложил Скляр.
– Так скоро? А успеем ли мы это сегодня? У нас все готово? – обернулся Коберский к Жолуду. – Как там у тебя, Виталий?
– У меня будет все в порядке.
– Прошлый раз ты говорил то же самое, а уже на площадке обнаружилось, что не захватили «дипломат», и герой, как охламон, тащился со старым провинциальным портфелем, который мы одолжили у случайного прохожего.
Жолуд обидчиво покраснел.
– Вспомните, никаких указаний насчет «дипломата» не было…
– А тебе обязательно на все указания мои нужны? Может, мне еще приказывать тебе гримировать актеров? Нет, дорогой, обо всем должен знать ты, помнить все мелочи! Ты второй режиссер, ты – мой начальник штаба, если хочешь знать.
Жолуду, разбитному и честолюбивому парню, было приятно, что режиссер-постановщик возвел его, своего помощника, в столь высокий ранг, но все же самолюбие защитно противилось, когда его вот так при всех отчитывали.
– На своих начальников штабов командиры, насколько мне известно, не кричат, – сказал с достоинством.
– А я что, кричу на тебя? – удивился Коберский и даже рассмеялся. От этого неожиданного смеха по его округлому лицу пошли добродушные полукружья морщин. – Видали его, а? Обиделся. Да некоторых вторых постановщик, как собак, гоняет, а они и пикнуть не посмеют! А он за упрек обиделся…
– И вовсе я не обиделся, – проворчал, вновь краснея, Жолуд.
– Ну спасибо, дорогой, спасибо. – Коберский даже слегка поклонился. – Если не обиделся, то сейчас же тащи сюда оператора, будем делать раскадровку. – И когда Жолуд вышел за дверь, крикнул вдогонку. – Да не забудь художника позвать!
– А машины где мы на вечер достанем? Их же надо было еще вчера заказать, – будто сам себе пожаловался Скляр.
– А это уже не мое дело, Борис Семенович. Мое дело – сделать раскадровку и отрепетировать сцены с актерами…
– Ну ладно, что-нибудь придумаем, – вздохнул Скляр.
– А ты можешь идти гулять, спасибо за эпизод, – сказал Коберский Александру. – Осеину я покажу его сам…
Мережко облегченно вздохнул.
Улица встретила его тихим предвечерьем, дождя и ветра не было; и низкие тучи над городом, и воздух застыли в какой-то нереальной неподвижности, овеянной парким теплом и терпким запахом распускающихся деревьев. Мережко, вдыхая этот влажный весенний запах, снова почувствовал облегчение: вновь он оказался свободен, по крайней мере до завтра, ничто не висит над ним, не давит, можно долго бродить по городу. Любой незнакомый город всегда казался ему немного загадочным, даже романтичным; все заманчиво влекло: и аккуратненькие скверы, и еще чернеющие катальпы (листья на них появятся позже, чем на других деревьях, а пока на ветвях висят прошлогодние длинные мокрые стручки), и низкие, словно бутафорные, домики с косыми старинными решетками на продолговатых окнах, и современные новые дома, из подворотен которых тянуло прохладой и сыростью. Даже в окна домов в чужом незнакомом городе Мережко почему-то всегда хотелось заглянуть: ему казалось, что жизнь за этими окнами иная, чем та, какую он знал и видел в своем, во многих других, хорошо знакомых ему городах…
Но едва он миновал сквер, как его окликнули. На скамейке сидели Осеин, Цаля и Лиля.
– Говорят, что Коберский тарелку не бил и начало съемок не обмывал, – сказал Осеин, когда Мережко подошел. – Надо бы исправить это нарушеньице, а? Закатились бы куда-нибудь на окраину, где прямо под открытым небом жарятся шашлыки, а сладкое вино востока закусывают шурхан-травой.
– У меня свидание, – солгал Мережко.
– Ну, придется тогда, наверное, с Цалей и Лилей, – скорбно заключил Осеин.
– А почему вы употребили такое пренебрежительное «придется», а? – возмутилась Мишульская, нервно выхватила из кармана своей курточки пачку «Столичных», зубами вынула, словно выкусила из нее, сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась и с презрительным вызовом уставилась на Осеина, ожидая ответа.
Тот нашелся.
– «Придется» потому, – сказал он с полунасмешливой, полуснисходительной улыбкой, – что Цаля ведь завязал, а в таких случаях раскачать его трудно, он человек железной воли. А Лиля без Цали, по всей видимости, не пойдет. В таком случае и придется провести определенную работу.
– Ничего у вас не выйдет, – сказала Лиля.
– Ладно, Цаля, входя в твое бедственное положение, угощаю сегодня я, – положил Цале на плечо руку Осеин.
– Нет, – твердо сказал Цаля.
– Нет, – покачала головой Лиля.
– Да у тебя, Митя, и не выйдет сейчас ничего, – сказал Мережко. – Я вам работку подбросил, пару сцен в кафе, посмотреть надо, завтра съемка. Коберский наверняка уже по всей гостинице тебя ищет.
– Ох мне этот Аникуша! – поднялся со скамейки Осеин и подчеркнуто неохотно зашагал по аллейке сквера.
– Ой, слава богу, что ушел, такой неприятный тип! – глядя вслед Осеину, сказала Лиля. – А умный, аж страшно…
– Да зря ты так на него, он ничего мужик, – проговорил Цаля.
– Для тебя все «ничего», которые тянут тебя в чайхану! – возмущенно ответила Мишульская и снова выдернула из кармана куртки сигареты.
– Лиля, хватит! – взяв ее за руку и засунув пачку обратно, сказал Цаля.
– Хорошо, – согласилась она и с какой-то кокетливой жалобностью взглянула на Мережко. – Жить не дает…
Цаля не поддержал ее игривого тона, нахмурился, бросив на Лилю укоризненный взгляд, и мягко коснулся рукава плаща Александра Мережко:
– А вот скажи, Саша, объясни мне, что происходит… Вот вынашиваешь идею, видишь и чувствуешь ее, как живую, но как только прикасаешься к бумаге, как только начинаешь писать – сразу же слова и мысли, которые так искрились в сердце, уме, вдруг тускнеют… И пропадает желание писать, понимаешь? У тебя бывает такое, Саша?
– Бывает, – вздохнул Мережко.
– А писать очень хочется. Эх, написать бы что-нибудь хорошо! Особенно этого хочется в те минуты, когда чувствуешь, как движимо, будто песок под ногами, уходит жизнь.
– «Движимо» – это хорошо. Сам придумал?
– Наверное, сам. Правда, иногда трудно разобраться, сам или где-то вычитал… Да какое это имеет значение? – Цаля задумался, затем полез к Лиле в карман, достал сигарету.
– Я хотел даже не об этом, а о том, что дни стали лететь как-то невероятно быстро. Раньше этого не замечал. Лет до тридцати жизнь идет медленно, словно в гору. И ты не видишь, что за той горой – зеленая долина или пустыня, но все же надеешься, что обязательно что-то прекрасное. А когда взойдешь, то не успеешь и осмотреться, как уже летишь вниз. Пустыня ли, долина ли – все равно быстро вниз, не зная, где та пропасть, которая поглотит тебя навеки.
– Цаля пессимист, – улыбнулась Лиля и снова потянулась за сигаретой.
Цаля хлопнул ее по руке. Она послушно сложила на коленях руки, вздохнула и сказала с наигранной, по-детски кокетливой капризностью:
– А Цаля меня не любит.
– Любит, он оптимист! – убежденно сказал Мережко.
– Сюжет мне плохо дается, вернее, его драматургия… Вот все, кажется, у меня есть: и о чем рассказать, и любопытные характеры – из жизни прямо выдернул их, – а закрутить все это так, чтоб… – Цаля стиснул зубы и, сжав кулаки, резко, с усилием крутнул ими перед собой, как шофер баранку при внезапной помехе на дороге.
– А знаешь, – ответил Мережко, – Щепкина-Куперник говорила, что самое существенное в Чехове – это раскрепощение рассказа от власти сюжета, от традиционных завязки и развязки.
– Ну, вам, литераторам, все что угодно можно, вас будут читать, лишь бы хорошо было написано, а у нас совсем другое. У нас в кино, если уж вздохнул, то выдохни, иначе тебе смерть!
– Ой, мы же опаздываем! – вскочила вдруг Лиля.
– Извини, – поднялся и Цаля, тоскливо поглядев на Мережко.
– Далеко?
– В теа-а-атр! – трагическим голосом произнес Цаля.
– Представляете, Саша, оказалось, что Цаля уже целых двенадцать лет не был в театре! Ужас!
– Думаю, с тех пор там ничего не изменилось, – без энтузиазма сказал Цаля.
– Я тоже давно не был, – рассмеялся Мережко. – Даже привычкой стало – ходить только на те спектакли, на которые приглашают товарищи, авторы пьес…
Мережко остался сидеть на скамейке. Смотрел вслед этой необъяснимо симпатичной ему паре – и только сейчас заметил, что на Мишульской не было старой куртки с поломанным обвислым замком; девчоночью фигуру упрятало модное замшевое пальто, скрывая ее худобу и угловатость; Цалин старенький костюм был тщательно отутюжен. Сам Цаля галантно держал Лилю под руку и, слегка сутулясь, неторопливо о чем-то ей рассказывал. И были они сейчас так похожи на счастливую влюбленную пару, у которой еще ничего не было в прошлом, а все только начинается, все еще впереди. А может, Мережко не казалось все это, а просто очень хотелось, чтоб так было…
Немного пройдя, Цаля и Лиля взялись вдруг за руки и побежали, чтобы действительно не опоздать.
Мережко вздохнул и поднялся со скамейки.
– Боже мой, и эти спешат. Уже старики, а как дети…
Александр быстро обернулся. Рядом с ним стояла Нина, она узнала Мережко, поздоровалась, хотя они сегодня уже виделись. Он кивнул в ответ и спросил:
– У вас обеденный перерыв?
– Нет, я уже сменилась. Я вообще работаю не полный день, я здесь на стажировке.
– Вы не местная?
– Из Кызыл-Арвата я. А вообще-то, и не оттуда, там мы всего лишь три месяца живем, отца моего на работу перевели туда, а до этого жили в Кишиневе, потом училище.
– А училище какое?
– Не художественное и не хореографическое, – вздохнула и тут же засмеялась Нина. – Кондитерское…
– Ну, настоящий кондитер – художник тоже.
– Ой, из меня настоящего не вышло. Адская работа – жара целый день, да и однообразие: торты да печенья, торты да печенья…
– А в ресторане интереснее?
– Какой там…
– Зачем же вы пошли?
– А разве человек всегда идет туда, куда хочет?
– Ну, все же… Выбор большой…
– Так получилось…
Они пошли по аллейке сквера. Переходя дорогу, по которой густо мчались машины, разбрызгивая на узкие тротуары и на стены домов лужи, Александр взял ее под руку. Нина вся как-то напряглась, руку держала опущенной, но потом, уже на другой стороне улицы, согнула ее в локте, коротко, с любопытством взглянула на Мережко и улыбнулась ему с радостным удивлением, как старому знакомому, которого давно не видела и вот неожиданно встретила.
– А вы никогда не спешите? – спросил Мережко.
– Я? Что вы! – Она рассмеялась. – Я больше всего не люблю спешки. Ненавижу ее! И когда все торопятся, целыми толпами бегут, как стада на водопой, хочется всегда крикнуть: стойте, люди! Куда вы?!
– О-о-о! Какая вы… – Он посмотрел на нее снисходительно, но не без интереса.
– Что, плохая?
– Нет, почему же…
Некоторое время они шли молча, следя за машинами, увертываясь и прижимаясь к домам от брызг. А когда вышли на более широкий тротуар, она снова заговорила:
– И еще я не люблю шума. Я и эти места полюбила, когда увидела здешних стариков. Пьют чай, мирно, тихо говорят… А у нас в Кишиневе все шум да шум. На работе шум, на отдыхе вино, пляски и песни. И всегда кажется, что и этот шум постоянно куда-то спешит, все торопится отшуметь… А вы у этих киношников начальник? – быстро взглянула на Мережко.
– Нет, откуда вы взяли?
– Да к вам как-то иначе, чем к другим, относятся, с уважением.
Мережко, сжав ее руку, рассмеялся.
– Это вам только так кажется. Я самый, самый не начальник здесь – такой, что даже разнорабочему не могу ничего приказать.
– Выдумываете вы все, – покачала головой Нина. – Вы, видно, большой выдумщик.
– А вот здесь вы угадали, я действительно выдумщик, хотя и не очень большой.
– Зачем вы на себя так?
– Что, клевещу?
– Конечно. Это тоже плохо. Другая сторона медали. Знаете, есть такие люди, что все хвастаются да хвастаются, все возносят себя и возносят, а есть другие – ругают себя, ох такой, сякой я, плохой, негодяй даже. И этим самым тоже ведь бахвалятся и хвастают – вот, мол, какой я честный, прямой, даже себя не щажу, ругаю. Один такой у меня даже жалость вызывал…
– Ну и что?
– Да ничего. Как все, – коротко засмеялась и неприязненно дернула плечами Нина.
Пошел дождь. Нина как бы не замечала его, лишь слегка поеживалась; Мережко тоже не хотелось уходить, он, слушая девушку, искоса, с любопытством поглядывал на нее. Дождь все усиливался, и Александр, посмотрев на небо и поняв, что это снова надолго, вдруг предложил:
– Нина, пойдемте в театр.
Девушка от удивления даже приостановилась.
– Пойдемте, пойдемте, – не понимая ее нерешительности, повторил он. – Музей и театр – единственные места, где сейчас бывает тихо…
– Как, вот так, сразу?
– А почему бы и нет?
– Но, во-первых, мы уже опоздали… – растерянно протянула Нина.
– А я расскажу вам начало пьесы.
– А во-вторых, я не одета для театра.
– Я тоже, – подергал Мережко за лацканы свою потертую замшевую куртку.
– Ну, мужчина все же как-то…
– Ничего, ничего, – сказал он и решительно расстегнул на ней плащ, распахнул полы. – А ну, покажитесь!
– Ой, какой вы. – Она слегка отступила.
А он с преувеличенной удовлетворенностью рассмеялся и сказал:
– Гольф модный, юбка – что может быть лучше!
– Ну, все же… Можно, правда, и в этом, но еще кто-нибудь из наших увидит. Все наши в театр такими расфуфыренными приходят, такими расфуфыренными: все лучшее надевают, и каждый раз чтоб новое. Ну вот скажите: откуда это пошло?
– От старины, – беря ее снова под руку и направляясь в сторону театра, сказал Мережко. – Все от старины пошло. Когда-то определенная часть горожан, богатых или просто состоятельных, и в театр-то ходила лишь затем, чтоб, как говорится, людей посмотреть и себя показать. Вот и выпендривались друг перед другом, если выразиться современным языком, кто лучшее напялит на себя, кто более дорогую побрякушку себе на шею повесит.
– А сейчас разве этого нет?
– И сейчас есть.
– Особенно женщины. Из кожи вон лезут, чтоб одеться получше.
– Ну, эта слабость простительна, женщины должны быть красивыми.
Сам того не замечая, он прибавил шагу, и они уже чуть ли не бежали. Нина, заметив это, спохватилась, пошла медленно, укоризненно покачала головой:
– Опять спешка?
– Забыл, привычка! – виновато усмехнулся Мережко. – Вот так всегда: лишь только появится цель – уже летишь!








