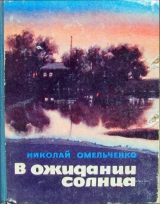
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
3. Дождливым утром
Поутру Мережко проснулся бодрым, выспавшимся, хотя и очень удивился, что за окном, как ему показалось, не совсем еще и просветлело. Но на часах было уже половина десятого, и Александр понял, что группа снова снимать не будет. Он распахнул балкон, потянулся разминаясь, настраивая себя на так необходимую ему, начинающему обрастать жирком, зарядку, которую ох как не хотелось делать. С балкона он видел потемневшие от дождя дома, над которыми плыли лохматые шапки облаков, почти цепляясь за крыши.
К гостинице, разбрызгивая лужи, подъехала машина, донесся знакомый голос Саида:
– Еще на два часа задержали. Ашхабад не принимает, а Красноводск не выпускает.
– Ну и бог с ним, – равнодушно заметил Коберский.
Мережко понял, что говорили о кураторе Осеине.
Он все же заставил себя проделать десяток несложных упражнений, которые так и не дали бодрости, хотя все же вызвали легкое удовлетворение от мысли, что нужное и полезное дело сделано. Зато в ванной плескался долго, с истинным наслаждением. И бриться ему тоже было приятно, и одеколон, мгновенно перебивавший пенициллиновый запах сырости в номере, показался необычайно благоухающим.
А едва Мережко оделся (франтовато небрежно, как и полагалось киношникам: потертые джинсы, гольф, видавшая виды замшевая куртка), от двери номера призывно потянуло ранним ресторанным душком: там уже что-то жарилось, парилось и варилось. Людей больных или просто сытых этот кухонный запах, произвольно гуляющий по коридору, непрошенно заползающий в дверные щели, неприятно раздражает своей навязчивой горьковатостью, всех же прочих он заставляет поторапливаться, как утренний зов пионерского горна.
Но уже в коридоре Мережко понял, что манящий запах плыл не снизу от ресторана, а из соседнего номера. В приоткрытую дверь он увидел электроплитку на потертом полу, на ней белую алюминиевую кастрюльку, из-под вибрирующей крышки которой попыхивал пар. А на столе красовалась горка редиски и зеленого лука. Александр улыбнулся, вспомнив, что съемочная группа занимает на втором этаже добрых полкоридора, а это, конечно же, одна из женских обителей – только девчата могут даже в гостинице варить какой-нибудь вегетарианский супчик и питаться всем этим весенним «силосом», благо здесь этой зелени навалом уже в марте, да и выгодна она во всех отношениях – экономно, можно тряпку лишнюю купить, и фигура не пострадает.
Из других номеров доносился то веселый, то раздраженный говорок, смех, стук передвигаемых стульев, горьковато пахло табачным дымом и той своеобразной обжитостью, которая свойственна только общежитиям да вот таким коридорам с дешевенькими номерами, где подолгу живут в командировках.
И еще одна дверь была открыта. На кровати кто-то спал, укрывшись с головой, на пол свисала рука, из-под коротковатого одеяла торчали большие, желтые от мозолей ступни.
На столе пустые стаканы, в массивной керамической пепельнице обертки от конфет вперемешку с окурками, по полу, у кровати, недокуренная сигарета с сиреневой отметинкой помады.
– Вы не меня ищете? – послышался сзади вкрадчивый, робкий голосок.
Мережко обернулся. Перед ним стояла молодая женщина – невысокая и полноватая, какая-то вся кругленькая, вероятно, от широкого короткого светлого плата и косынки из такой же ткани, сейчас негусто обрызганных дождем.
– Простите, не меня случайно? – повторила она уже смелее, встретив добродушную улыбку Александра.
– К сожалению, никого не ищу, – притворно вздохнул Мережко.
– А почему к сожалению? – с кокетливой наивностью удивилась она.
– А потому, что искать – это удел молодости, а я старый и усталый человек, – печально, как бы извиняясь, наклонил голову Александр.
Она рассмеялась, весело и откровенно принимая его шутку.
– Да вы кто такая?
– Не узнаете? – удивилась женщина и тут же, поняв, что Мережко действительно не помнит ее, добавила почти с грустью. – Я Марина, бухгалтер, в прошлом году накануне Восьмого марта на киностудии подменяла нашего старшего кассира Антонину Михайловну, вы получили аванс и подарили мне коробку «Птичьего молока». Помните?
– Ну как же, – вновь склонил голову Мережко, хотя, конечно же, ничего не помнил, в тот гонорарный день перед Восьмым марта он многим на студии что-то дарил. – И не потому, что я вам что-то там дарил, а потому, что вы меня по-настоящему выручили, перед таким прекрасным праздником – и вдруг гонорар!
– А вы перед отъездом на студии ничего не получали?
– Нет, обхожусь пока своими.
– Так я вам могу сейчас заплатить. Деньги есть, – доверительно, с готовностью сообщила Марина.
– Спасибо, Марина. Пусть они пока у вас побудут. Так надежнее.
– Хоть вы не похожи на других, – вздохнула Марина. – А то просто жуть, ужас какой-то! Особенно в такие дни, как сегодня, когда все баклуши бьют, когда группа не снимает. Так и прут все за авансом. Давай и давай! Да что у меня – деньги свои? Они ведь казенные! С утра хотела сбежать, да зонт забыла. Сейчас возьму – только меня и видели!
Но сбежать Марине не удалось – в коридор впорхнула бойкая стая киношников. Они весело и победно загудели, помахивая какими-то бумажками, и, подхватив Марину под руки, потащили в ее номер – кассу.
– Не знают, куда себя девать, – пожаловался, подойдя к Мережко, Цаля. – Дома-то семья, дела, заботы. А тут – свобода… А свобода и безделье требуют денег.
– С самого утра и уже в философию?
– А что мне остается? – грустно вздохнул Цаля.
– Следуй за народом, он мудр.
– Мне уже не дают, я все авансы выбрал.
– Одолжить?
– Нечем отдавать.
– Могу и так дать.
– Не нищий, просто так не беру, – обиделся Цаля.
– Ты знаешь иной выход? – невесело улыбнулся Мережко.
– Знаю, – нетерпеливо кивнул Цаля. – Купи у меня сюжет. Их у меня навалом. Лучший, сам понимаешь, не продам, пригодится еще. Но кое-что имеется…
– Валяй.
– Но не тут же, стоя в коридоре…
– Пойдем в ресторан, пообедаем, полезное с приятным, – предложил Александр.
– Нет, спасибо, мы уже скинулись с ребятами, обедаем в номере.
– Будешь пить?
– А ты не хочешь, чтобы я это делал?
– Ты этого не хочешь больше, чем я.
– Ты прав, Саша, – вздохнул Цаля.
– Червонца за сюжет хватит? – пошутил Мережко, вынимая бумажник.
– Если бы за все мои сюжеты мне давали по червонцу, я стал бы самым богатым человеком, – небрежно пряча деньги в нагрудный карман своего старого, потертого пиджака, оживился Цаля.
– Не пей, старик, – положил Цале руку на плечо Александр.
– Как сказал когда-то Оскар Уайльд, единственный способ отделаться от соблазна – это поддаться ему, – невесело ответил Цаля, но тут же поспешно добавил. – Не буду, Саша, не буду, я свое выпил. Постараюсь, Саша… – И, нетерпеливо кивнув, быстро зашагал по коридору.
В ресторане кормили какую-то делегацию – даже столики киношников были заняты. Из темноватого угла у самой кухни Александру помахал рукой оператор Леня Савостин. Он сидел за служебным столиком, и белокожие щеки его были алы от гнева.
– Полчаса жду, – уныло пожаловался он Мережко и тут же вскинулся. – Девушка!
Мимо с тяжело нагруженным подносом в руках пропорхнула легкая, подвижная официантка в неимоверно белом, снежно похрустывающем переднике; на высокой прическе зубчатый, как корона, накрахмаленный венчик. Лицо ее пылало не меньше, чем у Лени Савостина. Возвращаясь, она бросила на ходу просяще:
– Обождите минуточку!
– О, эта восточная минуточка! – воздел кверху руки Савостин.
– Как будто на западе она короче, – хмыкнул Мережко.
– Один черт… Девушка!
– А куда спешить в такую погоду?
– Хотел с утра пораньше, пока дождь, проскочить к Змеину, посмотреть натуру. А вдруг после обеда будет солнце? Ведь эту погоду никто никогда не угадает! Я такого невезения и не припомню.
Мережко усмехнулся про себя. Леня произнес последние слова так, будто за его спиною была целая жизнь в кино. А ведь он еще очень молод, снял всего лишь две-три картины. Правда, говорили, что талантливо.
– Интересное место? – спросил Мережко.
– Да само по себе не очень, здесь есть куда интереснее, но нам нужно снять кусок эпизода со степью, а там должно быть что-то похожее. Не пустыню же вместо степи снимать…
– А что, это дома нельзя снять? Да и снимали ведь уже, кажется…
– То все полетело. Сначала брак пошел, а потом, как ты знаешь, Галка не потянула.
– Не знаю, может, я не смыслю в этом, но Кобер-ская мне нравилась, да и женщина она красивая, – сказал Мережко.
– Красота и талант редко уживаются в одной персоне. И не всякая красивая актриса может сыграть красавицу. А вот каждая, по-настоящему талантливая, – сыграет. Околдует своей игрой – и, будь она даже уродиной, докажет на экране, что она красивее всех в мире, – пылко и убежденно говорил Савостин.
– Возможно, но ведь Галка Коберская не без таланта.
– У нее талант особый, на определенные роли. Но бывают роли, вот как в твоем сценарии, не ее, не для нее. А Коберский и режиссер способный, и человек умный, но имеет присущие всем режиссерам мира недостатки – хочет сделать свою жену звездой, вернее, так хочет она. А что получается из всего этого, ты сам видел. Хорошо, что у него хватило здравого ума вовремя убрать ее. А вот сейчас Вера Потапова хоть и угловатая, и ножки как спички, а на экране посмотришь – влюбишься. И всех за собой тянет!
Леня вдруг резко поднялся и, раскинув руки в стороны, загородил дорогу спешившей мимо официантке:
– Девушка!
– Ну что вам?
– Того, что я хотел, уже не будет, уже поздно. Яичницу и черный кофе. А заодно и книгу жалоб. Сейчас испорчу вам биографию.
Официантка быстро нырнула под отведенную в сторону Лёнину руку, подошла к какому-то ящичку, висевшему на стене, нервно выдернула из него книгу и бросила на стол.
– Вежливо, – вздохнул Савостин и прочитал вслух – «Книга жалоб и предложений». – Полистал, просматривая записи, и спросил у Мережко. – Ты когда-нибудь в подобной книге видел хоть одну жалобу или предложение?
– Я и книги никогда не видел, – усмехнулся Александр.
– Счастливый ты человек.
Официантка принесла сразу и яичницу, и кофе.
– Написали? – спросила она.
– Нет, уже некогда, – мигом расправляясь с яичницей, ответил Савостин, – за меня напишет вот этот дядя, – он кивнул на Мережко. – Только имейте в виду: если вы не обслужите его в течение последующего часа, он испишет всю книгу до конца. Он любит это дело, ни одной страницы не оставит для тех, кто из симпатии к вам пишет благодарности.
Залпом выпив кофе, Леня поднялся, поклонился официантке и потопал своей быстрой развалистой походкой к двери.
– Смешной он, – пожала плечами официантка, – вечно спешит, спешит. И вообще – все спешат. Вот делегация эта иностранная… Такое тут начальство подняло – давайте, давайте! Бросайте все – и только их! А вот теперь, пожалуйста: сидят и курят, а вон тот, что у окна, даже спит. Правильно говорят, что все суета сует…
– Вас как зовут? – перебил ее Мережко.
– Нина.
– Так вот, Ниночка, принесите и мне что-нибудь.
– Ой, я сейчас, – спохватилась она. – Вам что?
– Можете то же самое, что и моему товарищу.
Позавтракав, Мережко поднялся наверх, постучался в номер к Коберскому. Никто не ответил. Неужели спит? Вряд ли, он знал, что Аникей вставал рано. Спросил у дежурной, не выходил ли режиссер из номера. Та ответила, что уже давно вышел, походил по коридору, позаглядывал в другие номера, а потом и вообще ушел из гостиницы. Мережко даже обрадовался, что не застал его: не хотелось вот так, с ходу окунаться хоть и в небольшую, но все же работу над уже порядком надоевшим сценарием, да и появилась возможность побродить по незнакомому городу, он всегда это очень любил.
4. Мне бы ваши заботы…
Вчерашнее ожидание солнца, разговор с Мережко и разные мелкие неурядицы в группе, которые всегда сопутствуют съемкам, так утомили Коберского, что он даже не занес в свою записную книжку традиционную, хотя бы краткую запись. Не раздеваясь, прилег отдохнуть и уснул.
Поднялся рано, долго слушал мерное шелестение дождя, потом, как бы не веря, что со вчерашнего дня ничего не изменилось, постоял у стеклянных балконных дверей, тупо глядя на взблескивающие под светом фонарей лужи на дороге и тротуарах, на чью-то сиротливо мокнущую у соседнего дома машину, и присел с записной книжкой к столику.
Первым словом было: «Дождь…» Затем стал вспоминать вчерашний день. Записал: «Приехал автор. Как всегда, симпатично и завидно пижонистый. Море благополучия! По даже сквозь все это чувствовались напряжение, тревога. Спорили мало. Конечно, ему это все наше производственное опостылело. А мне?! Едет куратор… О, если бы не мешали! Забыл спросить про Галку. Вернее, почему-то не решился…»
Из коридора уже доносились голоса, шум. Проснулась группа. Когда нужно – не добудишься, а тут – пожалуйста…
В душевой горячей воды не было, полчаса тяжелые стремительные струи хлестали потертую, с несмывающейся желтизной ванну, а вода так и не потеплела. Коберский осторожно умылся. Он не любил холодной воды даже летом, в жару, и это было, пожалуй, единственным неудобством, причиняемым ему поездками. Но об этом никто не знал. В тумбочке, в самодельном чехле Коберского, лежали два кипятильника. Он налил в небольшую алюминиевую кружку и в стакан воды и вскипятил ее: кружку – для бритья, стакан – для кофе.
Выйдя в коридор, он действительно, как говорила Мережко дежурная, позаглядывал в два-три номера, в основном в те, где жили ребята: предупредил, чтобы никто далеко не отлучался, чтобы на всякий случай были готовы, мол, небо может очиститься в любое время, и группа сразу же выедет на съемку. Сам он, правда, в это мало верил. Просто он всегда боялся вынужденного простоя – не только потому, что это было накладно для студии, а главным образом из-за того, что группа расслаблялась, расхолаживалась, да и вообще безделье, по его мнению, никогда не приводило ни к чему хорошему.
У осветителей, заметив на окне бутылки с вином, он стал кричать, что лишит всех премии, а потом, подскочив к мрачно сидящему за столом Цале, набросился на него:
– Это ты, пьянчужка, развращаешь здесь всех!
Цаля покраснел, поднялся, молча подошел к нему и сильно дохнул в лицо. От Цали спиртным не пахло.
– Извини, – слегка отшатнувшись, смутился Коберский. И тут же добавил, назидательно поглядывая на прятавших глаза осветителей. – Вот, учитесь, человек наконец-то понял. Видимо, мудрость уже пришла.
Цаля невесело усмехнулся:
– Да, Аникуша, когда уходит здоровье, на его место всегда приходит мудрость.
– Тоже верно, – виновато согласился Коберский.
Спускаясь вниз, он встретил на лестнице директора картины. Скляр взбегал по лестнице, шагая через несколько ступенек. Ко лбу прилипли мокрые то ли от дождя, то ли от пота волосы.
– Что случилось, Борис Семенович? – испуганно спросил Коберский. Сколько он помнил директора, никогда не видел его, важного, исполненного собственного достоинства, вот таким суетящимся, запыхавшимся.
– Ой, не говори, – устало откинул руки на перила лестницы Скляр. – В пять утра выбежал из гостиницы, бегал аж на Ферганскую пешком, Саида не было еще… Одолжи сто рублей, не хватает. Я уже в кассе взял, что только мог. Оставил задаток…
– Пожалуйста, – пожал плечами Коберский, – но объясни хотя бы, если не секрет…
– Понимаешь, умер один старый коллекционер, его дочь продает коллекцию, мне вчера поздно вечером позвонили. Причем всю оптом, там и дешевки много, но есть, знаешь, очень редкие марки… Боюсь, чтобы кто-нибудь не перехватил. Тебе, конечно, этого не понять, но для меня…
Скляр приложил обе руки к сердцу и умоляюще смотрел на Коберского. Тот знал, что Борис Семенович ярый филателист, но чтобы эта страсть так серьезно захватила отнюдь не молодого и не легкомысленного человека…
– Спасибо, дорогуша, верну с коньяком!
– Эх, мне бы ваши заботы, – со вздохом сказал Коберский.
Но Скляр уже не слышал его – мигом метнулся вниз…
Под гостиничным навесом, как и вчера, жался тот же табунок длинноногих девиц, ожидающих, когда же их позовут в массовку. Они сейчас были чем-то очень похожи друг на дружку, и, только внимательно присмотревшись, Коберский понял, чем же именно: у всех были одинаковые плащи – в коричневато-желтых, как на маскхалатах, пятнах. У входивших в гостиницу тоже были такие же пятна на плащах, и Коберский понял, что дождь был с глиной и песком.
Из гостиницы не по-юношески степенно вышел Жолуд, стройный и элегантный, чинно поздоровался с Ко-берским.
– Слыхать слыхал, но такого еще не видел, – кивая на девушек, усмехнулся Коберский. – Сроду не видел глиняно-песчаного дождя.
– Где-то в пустыне буря, и смерч забросал облака песком, – охотно объяснил Жолуд. И добавил. – А я вот в районе Балхаша был свидетелем соляного дождя. Когда он прошел, выглянуло солнце и подсушило все вокруг, такая необычная красота предстала перед взором, что описать невозможно. И крыши домов, и улицы, и люди – все блестело голубовато-белым блеском.
– Да-а-а, а нам, видать, обсыхать еще не скоро, – мрачно поглядел на низко плывущие над городом тучи Коберский.
– Не скоро, – сочувственно согласился Жолуд.
– Да вот… одна небезынтересная особа, – понизив голос, с кокетливой доверительностью заговорил Жолуд, – попросила меня достать верблюжьей шерсти.
Виталий шагнул из-под навеса под дождь и с ловкостью циркового факира вскинул вверх руку. Над его головой в тот же миг выпорхнул черный, перепончатый, как крылья летучей мыши, купол японского зонтика.
– Мне бы ваши заботы, – повторил Коберский и, подняв воротник плаща, нахлобучив на лоб брезентовую белую кепку, купленную на случай жаркого солнца, пошел по хлюпающим от дождя лужам в сторону едва различимых, казавшихся сейчас очень близкими, буквально замыкающими улицу, гор Копетдага.
Там, в конце улочки, надо свернуть направо, пройти еще немного и – кафе. Оно не похоже на восточное и вполне пригодно для съемки одного из эпизодов. Надо бы присмотреться к нему получше, хотя Леня Савостин там уже побывал.
На тротуаре морщилось рябью целое море воды, поэтому Коберский сошел на дорогу. Но его догоняла какая-то машина, и он снова вернулся на тротуар. Машина, обогнав его, остановилась у светофора, и Коберский увидел, что это такси, а в нем на заднем сиденье сидят в обнимку Цаля и звукооператор Лиля Мишульская. Лиля, заметив режиссера, опустила стекло и радостно-хвастливым голосом сообщила:
– А мы вот по случаю дождя в сторону Чули решили махнуть. Еще ни разу там не были, говорят, красотища – закачаешься! Особенно Фирюза.
Коберский хотел было сердито предупредить, чтобы Мишульская долго не задерживалась, но светофор вспыхнул зеленым светом, и такси, взревев, рвануло с места.
«Мне бы ваши заботы», – мелькнуло вновь у Коберского. Он шел, стараясь обходить холодные лужи, а иногда, забывшись, неуклюже ступал в них. «Многие, конечно, рады, что дождь, что можно посачковать, да и вообще относятся к съемкам, как и ко всякой рядовой работе, – с горечью думал режиссер. – Если бы хоть кто-нибудь из них знал, что для меня каждый новый фильм – это надежда из надежд. Каждый раз, приступая к съемкам, надеешься, что наконец-то будет что-то необыкновенное, такое, чего до сих пор не было. Страдаешь, мучаешься, ночи не спишь, места себе не находишь… А как страшно смотреть первый материал, какими неуклюжими, беспомощными кажутся первые кадры. В голове постоянно стучит одно и то же: эх, один бы, лишь один по-настоящему хороший фильм поставить бы… Это единственная мечта, единственное желание. У других филателия, скачки, автомобиль, увлечение женщинами, а у меня одно – фильм, пусть даже не такой, что потрясет мир, хоть когда-то и об этом мечталось… А теперь пусть просто хороший, настоящий, чтобы его долго-долго смотрели и помнили».
Кафе состояло из стекла и бетона – ребра бетонные, все остальное, кроме задней стенки, к которой примыкали буфет, кухня и складское помещение, стеклянное. Столики из пластика, такие имеются сейчас в каждом городе или поселке.
Людей мало. За одним из столиков две девушки пили кофе, по соседству трое парней с наслаждением потягивали из пузатых запотевших кружек темное пиво. В дальнем углу перед мужчиной с сухим аскетическим лицом и брезгливо оттопыренной губой стояла бутылка шампанского и бокал. «Тесновато малость, – со вздохом подумал Коберский. – А если еще добавить массовки…
Нет, хоть в сценарии и воскресный многолюдный день, пожалуй, не следует забивать кадр, ведь все это до некоторой степени условно. Аппаратуру надо будет поставить вон там, где стол с тем типом и шампанским. Но хороший ли будет ракурс?»
Коберский, застыв, долго смотрел в угол, смотрел до тех пор, пока мужчина не бросил ему неприязненно:
– Ну че уставился? Шиз, что ли?
Коберский отвернулся и стал шагами измерять кафе, намечая точки и квадраты, в которых будут сниматься герои. Его полностью поглотили собственные мысли и расчеты, он никого и ничего не видел, ходил по залу, как хозяин. Даже не заметил, что за ним давно уже следят буфетчица и официантка. Когда он попытался сдвинуть вместе два стола, сразу услышал строгий голос:
– Гражданин, что вы делаете? Что вам здесь нужно?
Коберский словно проснулся.
– Простите, несколько забылся, – вдруг заметив, что он в центре всеобщего внимания, смутился Коберский. И тут же, погасив на лице смущение, деловито осведомился. – Кто здесь у вас главный?
– Ну, предположим, я… – осторожно сказала буфетчица.
– Я кинорежиссер. Вы слыхали, наверное, что мы снимаем фильм в вашем городе?
– Ну как же, конечно, слыхала и видела даже. Да и ваши ребята иногда заглядывают к нам, кофе им у меня очень нравится, – обрадовалась буфетчица, и лицо ее, довольно моложавое, но сильно накрашенное, расплылось в подобострастной улыбке.
– Кафе ваше нам подходит, будем снимать здесь один из эпизодов, придется на денек-два кафе закрыть…
На лице буфетчицы проступил испуг:
– Но кто же это разрешит? Мы с вами вдвоем этот вопрос вряд ли сможем решить…
– А мы с вами и не будем вмешиваться, – успокаивающе улыбнулся Коберский. – У меня для этого есть директор, а у вас – ваше начальство. Вот они и договорятся.
– Кино все может, – донесся из угла голос мужчины с аскетическим лицом. – А это правда, что однажды, чтобы снять церквушку… какой-то там фильм делали про старину… так электропровода поснимали? А они вели на фабрику, вот она и не работала два дня, и киностудия ей все оплатила. Было у вас такое?
– Было, – ответил Коберский.
– А я читала, – вмешалась официантка, – что однажды целый полк солдат один режиссер запросил…
– Если нужно, не только полк запросим, – думая о своем, ответил Коберский.
– Ну и ну, кино – сила! – с завистью произнес мужчина. И бросил повелительно официантке. – Вера, еще один бокал!
Она тут же принесла. И когда Коберский собрался уже уходить, мужчина преградил ему дорогу.
– Извините, пожалуйста, у меня есть несколько вопросов к вам относительно кино, конечно, если это вас не затруднит и если вы не очень торопитесь…
– Хорошо, – согласно кивнул Коберский; когда дело касалось кино, он всегда мог найти время и ответить на вопросы, и объяснить, и даже поспорить, а сегодня к тому же и спешить было некуда.
Мужчина протянул руку:
– Рад познакомиться. Виктор Александрович Ковин. Хирург.
Коберский ощутил крепкое пожатие сухой сильной руки и назвал себя. Ковин налил в бокал шампанское, слегка подвинул его к режиссеру, поднял свой.
– Прошу.
– Спасибо, но я не пью.
– Не понимаю, – удивился Ковин.
– А какой сегодня праздник, что я должен пить? – нахмурился Коберский.
– Вы что, совсем непьющий?
– Нет, почему же, я не анахорет и, слава богу, вполне здоров, но просто не имею такой привычки ни с того ни с сего.
– Удивляете, – отпив из своего бокала, усмехнулся Ковин, – я думал, что киношники… ну, в общем, все закладывают – богема… Девочки так и порхают у вашей гостиницы. А вообще-то, как мне говорили, ваши немного их разочаровали, – уже смеясь, пояснил Ковин. – Я имею в виду поклонниц киноартистов. Перед вашим приездом группа каких-то то ли парихмахеров, то ли мясников пришла в пединститут на танцы и выдала себя за приезжих киношников. Все ребята – как на подбор: высокие, стильные. Ну и облепили их, конечно, девочки. А те потащили их в рестораны, в какие-то квартиры. И вдруг приезжаете вы, обман обнаруживается, слезы, скандал! К тому же как увидели ваших – полное разочарование! Все низкорослые, в карманах валюты не густо, да еще и заняты от зари до зари. – Ковин громко рассмеялся, допил свой бокал, вновь наполнил. – Так я к чему все это… Не так ли и в самом кино бывает, я имею в виду в фильме, в картине? Покупаешь билет, жаждешь увидеть что-нибудь прекрасное, интересное, ведь кино – это прежде всего зрелище, а тебе вместо стройного, элегантного подают что-нибудь этакое низкорослое. Бывает?
– Бывает, – неохотно ответил Коберский.
– Не только бывает – это уже стало правилом, – категорично заключил Ковин, и губа его отвисла еще брезгливее. – А вот смотришь американские фильмы, французские или, скажем, даже какие-нибудь там арабские – глаз не оторвешь, каждый чем-то берет: тот детективом, тот голой ножкой, тот слезой прошибает. Ну, дерьмо, правда, не только у нас есть, бывает и там… Вот «Голый остров», помните? Ну и ну! Не кино, а издевательство над зрителем. Два с половиной часа – пытка скукой. Нет, фильм должен быть таким, чтоб, когда потух свет, ты открыл рот и не закрывал, пока свет не зажжется. А о чем он – все равно: любовь ли, шпионы или какая-нибудь там война. Главное, чтобы это интересно было, развлекательно!
– Ну вот, видите, – вдруг зло повеселел Коберский, – просили, чтобы я вам что-то объяснил про кино, а сами мне целую лекцию прочитали.
– Ну что вы, что вы, это просто так, к слову пришлось. Я действительно хотел у вас кое о чем спросить… Вот скажите… Это правда, что Марина Влади только официально пять раз замуж выходила?
– Не знаю, она на свадьбу меня не приглашала, – скривился Коберский.
– А вот был у нас актер, этот… как его… ну, тот, что играет этого, вернее, играл… Фу ты, склероз чертов! Ну, да вы должны знать, вокруг него там скандальчик еще был после его смерти. Умер, сто тысяч на книжке, дача, машина… Родственники все перегрызлись, никак не решат, кому что должно достаться. Теперь вспомнили? Так это правда все?
Коберский болезненно поморщился, хотел было молча уйти, но все же не утерпел:
– Скажите, а это правда, что вы человек интеллигентной профессии, хирург?
– Какие могут быть сомнения, дорогой? – Даже руками развел Ковин. Губа его вновь брезгливо отвисла, он даже заоглядывался по сторонам, как бы ища поддержки.
– Хиру-ург, хиру-у-ург, – с ласковым заискиванием протянула нараспев буфетчица. – Мы все его знаем.
– Вот разрежу вас, – пошутил Ковин, – и сразу скажу все, что там у вас всередине.
Кто-то тронул Коберского за плечо; он ощутил прикосновение, но даже не среагировал на него, так ошеломляюще вдруг подействовали на него последние слова Ковина. Лицо его сначала налилось краской, потом побледнело, и он резко отчеканил:
– А мне вас и разрезать не нужно, я и так вижу, что вы жлоб! – Передохнул и поправился. – Духовный жлоб.
И лишь тогда увидел, что рядом стоит Мережко. Они вдвоем вышли из кафе. Коберский даже слегка покачивался. Мережко взял его под руку.
– Аникуша, что с тобой? Почему с утра шампанское?
Аникей не ответил.
– А «духовный жлоб» – это ничего. Сам придумал? – рассмеялся Александр. – Да что ты молчишь? Кто же сей жлоб – старый или случайный собутыльник?
– Случайный, – откашливаясь и доставая из портсигара сигарету, буркнул Коберский.
Мережко насмешливо взглянул на этот видавший виды, истертый до желтизны портсигар и спросил:
– Когда у тебя день рождения?
– А тебе зачем?
– Куплю тебе новую сигаретницу.
– Спасибо, Саша. Но дороже этой не подаришь. Это портсигар моего деда. Единственная память от него осталась… А ты чего сюда?
– Зашел к тебе, а твой и след уже простыл…
– Не хотел тебя будить. Мне Леня Савостин сказал об этом аквариуме, вот я и пришел посмотреть. Вроде ничего, правда тесновато… Будем снимать в нем эпизод, который ты должен еще переписывать, – первое свидание героя.
Мережко сразу как-то сжался весь, лицо его помрачнело. Но видя, что Коберский искоса наблюдает за ним, взял себя в руки, встряхнул плечами и, уже улыбаясь, спросил с легкой ехидцей:
– А скажи, пожалуйста, Аникуша, где мы в этом городе «кадиллак» достанем?
– Зачем он тебе вдруг понадобился?
– Не мне, а тебе.
– Не понял…
– А что же тут понимать? Если рабочий парнишка назначает понравившейся ему девчушке первое свидание в кафе, то и подкатить он должен к нему, ну… пусть не в «кадиллаке», а хотя бы в каком-нибудь паршивом «мерседесе». Чтобы все было как в иностранном киношке.
– А может, он назначит ей свидание во Дворце пионеров? – тоже с ехидцей спросил Коберский, но тут же, хмурясь, серьезно добавил. – Мы для того тебя и вызвали, чтобы ты написал такой эпизод, в котором кафе и все прочее не были бы похожими на иностранное кино. И мотивировочку ты должен придумать, да, да, такую, чтобы все было правдиво и логично, чтобы понятно стало, почему первое свидание состоялось не в городском парке, не на лужочке над речкой, а именно в современном кафе. Трудно? – Аникей вдруг даже приостановился и, уперев руки в округлые свои бока, заключил почти злорадно. – Если было бы легко, мы бы сами без вас как-нибудь, сударь, а так – извольте, садитесь и работайте.
Мережко не ответил. Долго шел молча, пытаясь подавить нарастающее внутри раздражение. А потом вдруг брякнул:
– Тебе Галка привет передавала.
– Да? – оживился Коберский. – Мне кажется, что она очень обиделась на меня.
– Нет, она умница.
– А умные что – не обижаются?
– Она не злая…
– Добрые тоже обижаются, – вздохнул Аникей, но заметно повеселел. Он хотел спросить о жене еще вчера, как только встретил Мережко, но почему-то не решился. – Ты где ее видел?
– У Дома кино встретил.
– Ну, и как там она?
Александр пожал плечами. Он встретил жену Кобер-ского, когда та выходила из Дома кино со своим первым мужем. Не стоило говорить об этом Аникею, он слишком любит ее и будет терзаться ревностью. Правда, и сам Мережко, увидев Галину и ее бывшего мужа вдвоем, неприязненно подумал, что не следовало бы им вот так демонстрировать. Что это была демонстрация – в этом он нисколько не сомневался. Галина ведь тоже – об этом знали все – любила Аникея…
– Ты что-то вроде не договариваешь? – словно прочел его мысли Коберский.
– А что я должен договаривать? Передавала привет тебе, пробуется в каком-то фильме. На тебя вроде бы не сердится…
– Ну, эти догадки у тебя уже от литературы, – печально усмехнулся Коберский, но все же еще больше повеселел.
– А может, все же не кафе? – осторожно спросил Мережко.








