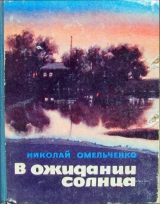
Текст книги "В ожидании солнца (сборник повестей)"
Автор книги: Николай Омельченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

В ожидании солнца

1. Глас вопиющего в дождливой пустыне

Туча воробьев, застопорив стремительный лёт, упала на молодые деревья, растущие по обе стороны шоссе, и шумная воробьиная трескотня разбудила Цалю. Он высунул голову из-под мокрого брезента, сонно поглядел на птиц, облепивших ветки, лениво усмехнулся, поняв, чем привлекли деревья эту трескучую стаю. Вчера, когда воробьи летели куда-то в предгорья Копетдага устраиваться на ночлег, ветви деревьев были голы, а сегодня утром на них появилась густая листва. Воробьи спали и не видели, как до самой полуночи помреж, ассистенты, осветители и Цаля развешивали на деревьях бутафорные листья: утром группа должна снимать летнее шоссе, а в Ашхабаде, куда киношники выехали навстречу раннему лету, даже настоящая весна задерживалась.
Обнаружив обман, воробьи снялись с деревьев, огласив все вокруг сердитым чириканьем. «Все бутафория: и эти листья, и кино, и даже сама жизнь. Все подделка», – мрачно подумал Цаля и натянул на голову брезент.
Брезент укрывал два огромных дига и ящик с подсветками, на котором спал Цаля. От дигов, уже давно остывших после съемки, все еще исходил знакомый Нале чуть ли не с детства, едва уловимый запах нагретого стекла и краски. Этот запах мог различить лишь человек, давно привыкший к нему. Он был в общем-то приятен Цале, даже волновал его, но в это утро и жить не хотелось: сжимало сердце, давило в затылке, ныла печень. «Все подделка, все бутафория», – уже вслух трагически сказал Цаля и, почувствовав, что задыхается под брезентом, резко откинул его. Дождь был таким мелким, что даже не стучал по брезенту, не шелестел в бутафорных листьях на деревьях, но, казалось, и сам воздух, и небо, и предгорье Копетдага, застывшее вдалеке гигантскими расплывчатыми тенями, и пески пустыни были сотканы из мелкой сетчатой влаги, беззвучной, почти невидимой и лишь до ломоты в теле ощущаемой каждой клеткой, каждым нервом.
Цаля вынул мятую пачку «Памира», долго чиркал спичками – руки дрожали, а спички и сигареты порядком отсырели. Наконец прикурив, он неторопливо, с отвращением затянулся. Отсыревший табак казался слабым и облегчения не принес, закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Отшвырнув в мокрую траву, щетинисто пробивавшуюся вдоль шоссе, сигарету, Цаля поправил на аппаратуре брезент, поднял воротник помятого, с прожженной полой пальто и вышел на шоссе в надежде остановить проезжую машину, чтобы раздобыть сухую сигарету. Поеживаясь, он смотрел то в одну, то в другую сторону пустынного шоссе – время, по всей видимости, было раннее. Не будь дождя, часть группы приехала бы сюда часов в шесть, так как съемка назначена на восемь и надо было бы готовить объект. А так, конечно же, кроме него, Цали, получившего задание караулить съемочную аппаратуру, все еще спали по случаю дождя, нежились под пахнущими дезинфекцией простынями, и неуютные номера «Туркменистана» в такую погоду казались им раем.
А вчера в отличную солнечную погоду снимали дождь. Актера Мишу Григорьева, исполняющего роль главного героя фильма, поливали из пожарных шлангов. Собственно, этот бутафорный дождь и явился причиной Цалиного срыва. Вода была ледяной, и после шести дублей посиневшему от холода Мише выделили для немедленного растирания бутылку спирту.
– Поможешь, Цаля, – невнятно выговорил Григорьев, с трудом размыкая дрожащие от холода, посиневшие губы.
Цаля накинул на худые Мишины плечи, обтянутые мокрой нейлоновой рубашкой, пальто и так, держа руки на плечах, чтобы Григорьеву было теплее, повел его к тонвагену. Миша снял рубашку, раскисшие от воды длинноносые туфли и, дойдя до брюк, попросил звукооператора Лилю Мишульскую, склонившуюся над магнитофоном:
– Лиля, выйди, мужчина раздеваться будет.
– Тоже мне – мужчина, – басистым от курения голосом пророкотала звукооператор, мельком взглянув на синие цыплячьи плечи Григорьева.
Она прикурила от не потухшей еще сигареты и, накинув старую куртку из кожзаменителя с обвисшей, сломанной «молнией», стала спускаться по лестничке тонвагена. Цаля посмотрел ей вслед. Даже сквозь кожу куртки было видно, как на сутуловатой спине остро двигались лопатки, вызывая у Цали чувство отеческой жалости и мужской нежности к этой женщине-девочке.
Григорьев стянул липнувшие к ногам брюки, лёг на длинное сидение. Цаля, налив на ладонь спирт, стал быстро растирать ему плечи и спину. Растирал, пока не покраснела кожа, а у самого не устали руки.
– Теперь бы и внутрь малость, – сказал Цаля, вдыхая тревожно дразнящий его крепкий спиртной запах.
– Мне нельзя внутрь, еще крупные будем доснимать, – закрыв глаза и наслаждаясь теплом, охватившим все его тело, ответил Григорьев. – А ты можешь, за труды праведные отдаю тебе и мою порцию.
– Завязал, – вздохнул Цаля.
– На ночь можно, чтобы не замерзнуть. Растирать-то тебя некому будет, – успокоил Григорьев.
– Нет, Миша, сказано – отрублено! – Цаля очень гордился своей твердостью, силой воли.
Григорьев поднялся, надел шерстяной спортивный костюм, несколько раз легко и грациозно присел, глубоко вдохнув, втянул живот, выпятил атлетически округлившуюся грудь – и сразу же показался и ростом выше, и в плечах шире. Куда и девалось в нем что-то жалкое, цыплячье – артист! Цаля смотрел на него влюбленно.
– У одного чудака спрашивают: отчего это у тебя мешки под глазами и руки трясутся? А тот ответил: друзья и годы… – сказал с наигранной скорбью Григорьев и, оттянув борт Цалиного пальто, сунул в боковой карман бутылку с остатками спирта.
«Ну и бог с ней, – спокойно подумал Цаля, – угощу кого-нибудь, а сам пить не стану». Он шел по площадке, улыбаясь, довольный собой, что случалось с ним в последнее время не так уж часто.
Под брезентом, у ящика с подсветками, стоял Цалин фибровый чемоданчик, уже повидавший виды. В нем были полотенце, мыльница, бутерброд с бараньей колбасой и полулитровый термос с зеленым чаем. Цаля открыл чемодан и аккуратно поставил в него бутылку со спиртом.
Часть группы уехала сразу же после окончании съемок, остальных, тех, кто развешивал на деревьях листья, только за полночь увез автобус, ослепив на прощание Цалю ярким светом фар. Цаля остался один в кромешной темноте каракумской жутковатой ночи. Случилось то, чего Цаля больше всего боялся: на него навалилось одиночество. Вместе с ним к Цале всегда приходила тоска, а в ней было все: мысли о бесцельно прожитой жизни, о тяжелой болезни, столько лет диктующей ему свои условия, и многое другое…
И Цаля не выдержал – достал бутылку и медленно, глоток за глотком, не закусывая, цедил из горлышка спирт, пил, пока не опьянел настолько, что даже не помнил, как забрался под брезент и уснул. И, наверное, спал бы еще, если бы не воробьи. Хорош сторож!
На шоссе послышался гул машины, и, когда она показалась, Цаля отошел на обочину, поднял руку. Это был молоковоз – желтая цистерна, густо забрызганная грязью. Он не остановился. Цаля, не опуская руки, провел его тоскливым, укоризненным взглядом. В кабине сидел кто-то черствый, безразличный, не пожелавший прислушаться к гласу вопиющего в дождливой пустыне.
– Сволочь! – скорее с грустью, чем со злобой, бросил Цаля и вновь стал с надеждой всматриваться в тонущее в рябящей мге шоссе.
Из этой туманной мги вскоре снова проклюнулась машина. Теперь уже Цаля вышел на середину шоссе и поднял обе руки. «Волга» резко затормозила, съехала на обочину.
– Прости, браток… – начал было Цаля и радостно засмеялся: в окошке сияла добродушная золотозубая физиономия Саида, шофера местного таксопарка, в котором группа арендовала машины.
– Салям, Цаля, ты еще жив? А начальник сердился, когда ехали в аэропорт. Говорил, сторож исчез…
– А я видел вас, – солгал Цаля. – Под брезентом сидел, дождь…
Тот, кого Саид назвал начальником, второй режиссер Виталий Жолуд, хотел было что-то сказать, но другой пассажир не дал ему и слова молвить. Почти вытолкнув Виталия из машины на обочину, проворно выскочил сам и, широко улыбаясь, разведя руки, пошел на Цалю.
– Сашка?! – обмер Цаля. – Родной мой!
Обнявшись, они расцеловались.
Жолуд скромно стоял в стороне, не решаясь первым сесть в машину. Его стройная высокая фигура в моднейшем, в крупную светлую клетку пиджаке и американских джинсах выражала… да, почтительность – не лакейскую, а исполненную достоинства, слегка даже снисходительную. Гость, которого он вез из аэропорта, был не просто автор сценария, а известный молодой писатель Александр Мережко. Жолуд сам вызвался встретить его, хотя это полагалось делать директору картины или режиссеру-постановщику. Глядя, как Мережко тискал в объятиях Цалю, Жолуд иронично улыбался: он мало верил в искренность радости от встречи этих двух таких разных людей, скорее всего, автор просто «играет на публику». Ведь что могло быть общего у этого талантливого баловня судьбы, человека даже с виду подчеркнуто благополучного – в дорогой заграничной тройке, в моднейших штиблетах, округлого от излишнего жирка – и у опустившегося алкоголика, которого группа чуть ли не из милости взяла к себе разнорабочим. На красивом лице Жолуда невольно мелькнула тень брезгливости.
А Мережко и Цаля все еще шутливо тискали друг друга.
– И пузо уже как у классика! – смеялся сквозь слезы радости Цаля. – Никак не вспомню, где мы с тобой виделись последний раз…
– Постой, постой… Кажется, в Доме кино.
– Нет, уже после.
– В Киеве?
– В Киеве я не был три года. Все мотаюсь по Азии.
– Вспомнил! – радостно воскликнул Мережко. – В Баку!
– Верно, в подвальчике. Эх, это же надо – забыть о такой встрече! Мне-то простительно, как-никак уже пятьдесят, а ты небось едва за четвертак перешагнул?
– Какое там, Цаля… – В голосе Мережко прозвучала наигранная обида. – Уже тридцать…
– Ну, уж ты прости меня старого. Вид у тебя… дай бог каждому!
– А ты-то как?
– Ничего, спасибо. Вот, все свое ношу с собой!
Мережко отстранился от Цали, оглядел его и покачал головой.
– Тут-то что делаешь?
– Работаю в группе.
– Женился? Осел в этих краях?
– Нет…
– А что же?
– А, подробности за столом, – вздохнул Цаля и попытался улыбнуться, но улыбки не вышло, только лицо болезненно сморщилось.
– Закладываешь? – тихо спросил Мережко.
– Завязал…
– А чего же от тебя, как из того бакинского подвала?..
– Это случайно, ночью…
– Похмелишься?
– Что ты… – нерешительно пожал плечами Цаля.
Мережко полез в кабину, расстегнул большой кожаный портфель, вынул пузатую бутылку коньяка, два дорожных пластмассовых стаканчика. Один дал Цале, другой протянул Жолуду, отвинтил пробку, налил.
– А вы? – вежливо спросил Жолуд.
Мережко покачал головой, и Цаля чокнулся с Жолудом:
– За благополучное прибытие в Ашхабад прекраснейшего и талантливейшего человека – за Сашу Мережко!
Они выпили. Цаля залпом, как и пил все – водку, чачу, сухое вино, а Жолуд отхлебнул смакуя.
– «Наполеон»? Нектар, божественно! – сказал он, пренебрежительно взглянув на Цалю: этому, мол, все равно.
– Еще? – наклонил над Цалиным стаканчиком бутылку Мережко.
– Нет, благодарю, – чувствуя, как приятным теплом растекается по телу коньяк, как сразу же перестало давить в затылке и исчезла боль в печени, удовлетворенно сказал Цаля. Потом снова обнял Мережко, прижался к нему мокрым от дождя лбом. – Эх, Сашка, Сашка, как я тебе рад… Жизнь-то, несмотря на все, прекрасна! Помнишь у Мопассана?.. «Все в природе казалось ему созданным с чудесной, непреложной последовательностью… Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние дни – чтобы созревали нивы, дожди – чтобы их орошать, вечера – для того, чтобы подготовлять ко сну, а темные ночи – для мирного сна… Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: «Жена, что общего между тобой и мною?» Право, сам создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была «дитя, двенадцать раз нечистое», о котором говорит поэт. Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу».
– Ну и память у тебя, ничто ее не отшибло! – восхищенно произнес Мережко и повернулся к Жолуду. – Целые повести и поэмы когда-то наизусть знал…
Жолуд согласно кивнул Мережко, но на Цалю, отпивая из стаканчика, посмотрел с сочувствием: что, мол, толку в том, если ты даже всю классику наизусть знаешь…
– Уже многое подзабыл, – с сожалением покачал головой Цаля, – но есть, есть еще порох в пороховницах! Эх, Саша! Ты вовремя приехал. Самая распрекраснейшая пора в Ашхабаде – весна. Мы с тобой побродим по предгорьям и долинам. Насобираем тонны тюльпанов и будем дарить девушкам. Сколько здесь тюльпанов! Целыми коврами устилают землю. И не какие-нибудь там леманские или кушкинские, которые продают в ларьках и на базарах, а самые чудесные – согдийские. Растут они в песках Каракумов и впитали в себя весь аромат земли туркменской. Волшебный цветок!
– В свободное от сценарных забот время, Цаля, я в твоем распоряжении. Ты долго здесь будешь? – кивнул Мережко на покрытую брезентом аппаратуру.
– Чего ей здесь мокнуть? Как только приедем, пришлем людей, пусть заберут, – ответил за Цалю Жолуд.
– Значит, до скорой встречи, – обрадовался Цаля.
Когда машина растаяла в плотной туманной мге, Цаля вспомнил, что забыл попросить сигарету. Он достал свой «Памир», закурил. На удивление, сигарета показалась ему не такой уж отсыревшей и безвкусной, какой была десять минут тому назад.
2. Прибытие
В узком вестибюле «Туркменистана» в этот ранний час было тихо и душно. На старых диванах, зачехленных в серое полотно, сидело несколько усталых командированных, сонно и заискивающе поглядывающих на окошко администратора: его закрывала извечная, банальная дощечка с надписью «Мест нет». Поскрипывал упрятавшийся под вытертый ковер пол, по которому, заложив руки за спину, нервно, хоть и неторопливо, прохаживался коренастый мужчина в мешковатом, давно не глаженном костюме и в белой парусиновой кепке. Иногда он останавливался у стеклянной двери вестибюля, смотрел на плотно запахнутое высокими облаками небо, сеявшее мгу, и лицо его, белое и рыхловатое, как тесто, с широким ртом и тонкими губами, собиралось в морщины; зеленоватые глаза, печальные и ироничные, суживались, будто кто-то дышал в них едким дымом. Мужчина вынул старомодный, потертый до желтизны портсигар, закурил и, держа сигарету во рту, вновь заходил по вестибюлю.
– Аникей Владимирович, пожалуйста, не курите, дышать нечем, – сказала из своего окошка с просящей улыбкой администратор.
– Ах, да, прошу прощения, – пробормотал мужчина, поискал глазами на низеньких тусклых столиках пепельницу и, не найдя ее, обжигая короткие, желтые от никотина пальцы, смял сигарету, сунул ее в портсигар. Быстро и пытливо, будто вспомнив что-то очень важное, посмотрел на администратора и спросил вежливо, но почти строго, начальственно: – Вы звонили?
– Ах, боже мой, – дернув плечами, с ласковым сокрушением произнесла администратор. – Я же говорила вам, что звонила. Облачность высокая, и аэропорт самолеты принимает.
– Да, да, благодарю вас, но я не об этом. Я относительно бюро погоды, о прогнозе. – Последнее слово мужчина выговорил кривясь, страдальчески.
– Звонили, – ответила администратор. – И я звонила, и ваш Борис Семенович. Мне сказали, что идет какой-то то ли циклон, то ли антициклон, и дожди надолго. А Борису Семеновичу ответили, что даже во время антициклона могут быть просветы, солнце.
– Понятно, – пробормотал мужчина и вновь вынул свой старомодный массивный портсигар. Сунул в рот недокуренную сигарету, щелкнул зажигалкой и, оставив застывшее в спертом воздухе вестибюля облачко дыма, толкнул тяжелую дверь.
– Коберский! Коберский! Режиссер… – донеслись до его слуха тихие голоса, едва он вышел на улицу.
Услышав свою фамилию, Коберский уныло обернулся и увидел стайку девиц, прижавшихся под навесом. Ныли они в плащах и все, как одна, в новеньких, не по погоде, туфлях. В глазах, устремленных на режиссера, любопытство и заискивающе-выжидательное напряжение.
– Спать бы вам, девушки, – устало сказал Коберский.
– Объявили набор в массовку, – срывающимся от волнения голосом произнесла одна из девиц, по всей вероятности, самая смелая.
– Какая массовка, видите – дождь!
– Уже перестал! – обрадованно сообщила девушка.
Коберский огляделся. Действительно, дождь уже не моросил, но небо, хмурое и тяжелое, солнца не обещало.
К гостинице подъехала забрызганная «Волга».
– Салям, Аникей Владимирович! – просиял своей золотозубой улыбкой из окошка Саид. – Привез целым и невредимым.
Из машины выскочил Жолуд с тяжелым желтым портфелем Мережко, а затем неторопливо вышел и сам автор сценария. Жолуд тут же отметил про себя и эту неторопливость, с какой выходил из машины писатель, и его сдержанную добродушную улыбку; куда девались веселая непосредственность и все то мальчишеское озорство, с каким он устремился к Цале на шоссе по дороге из аэропорта…
Коберский пошел навстречу, протянул полусогнутую руку. Оба смотрели друг другу в глаза и долго жали руки, застыв в полупоклоне.
– С прибытием, Александр Николаевич, – наконец отняв руку и обнажив в улыбке редкие зубы, сказал Коберский.
– Спасибо, Аникей Владимирович.
В вестибюле их встретил директор картины Борис Семенович Скляр. Он видел из окна своего номера, как подъехала машина, неторопливо и легко сошел по лестнице вниз, сунул Мережко сухую цепкую руку, второй рукой пожал локоть и хорошо поставленным баритоном произнес:
– Ждали. Рады. С прибытием.
Борису Семеновичу уже перевалило за шестьдесят, но выглядел он лет на пятнадцать моложе, был высок, моложав лицом, волосы, в которых, несмотря на возраст, едва-едва пробивалась седина, коротко острижены. В его манере держаться сквозила легкая развязность, которая позволяла в зависимости от обстоятельств то фамильярничать, вплоть до обращения к малознакомому на «ты» и похлопывания по плечу, то мгновенно, когда это требовалось, демонстрировать собеседнику превосходство над ним.
Борис Семенович вежливым жестом пригласил Мережко к окошку администратора, которая, уже догадавшись, кто приехал, поспешно протянула бланк и деловито уточнила:
– «Люкс», Борис Семенович?
– Все равно, лишь бы отдельный, – сказал Мережко, вынимая паспорт и фломастер.
– «Люкс», – кивнул администратору Скляр.
«Люкс», хоть и не совсем соответствовал столь громкому названию, – узкий, темноватый, с запахом дезинфекции и сырости, – все же оказался приличным номером, как говорится, со всеми удобствами.
Завтракали вчетвером в ресторане. В зале пахло вареной бараниной. Здесь за группой были закреплены три столика. Сели за крайний, у окна. Официантка сменила на нем скатерть, поставила чуть привядшие тюльпаны в пластмассовом стаканчике.
– Что будем есть? – Скляр подвинул к Мережко меню.
– Что все, то и я, – ответил Александр. – Вообще-то, я предпочитаю есть то, что принято в данной стране или крае.
– Мне все равно, – пожал плечами Коберский.
– Значит, пельмени из баранины всем, – заказал Скляр официантке.
– А пить? – спросила девушка.
– Пить? Что будем пить? Я, например, всегда одно и то же – чай и кефир, – ответил Скляр.
– Все равно, – буркнул Коберский.
– Чай зеленый, – полуобернулся Жолуд к Мережко.
– Зеленый? Великолепно! – согласился Александр.
– В нем много танина, – пояснил Жолуд, довольный тем, что его выбор пришелся по вкусу писателю.
– Пожалуйста, два больших чайника и обязательно пиалы, – улыбнулся официантке Мережко.
Та мило улыбнулась в ответ:
– Обязательно.
Когда она ушла, наступило молчание, хотя и Коберский, и Скляр, да, пожалуй, и Мережко были готовы к серьезному, не очень приятному разговору по поводу снимаемой картины и терпеливо ждали его, но никто не решался заговорить первым.
– Ты на студию перед отъездом заходил? – спросил Коберский у Александра, и никто не понял, спросил он это для того, чтобы просто нарушить молчание или чтобы начать важный разговор издалека.
– Заходил, – кивнул Мережко.
– Что там новенького?
– Все то же. – Мережко усмехнулся. – Толчея в коридорах, треп, споры, похожие на ссоры. Агаджанов кричит на всех углах, что лишь он гениален, а все остальные компиляторы, лакировщики и бездари. Молодые считают, что только они начинают подлинно новое кино, а три четверти века жизни кинематографа ничего не стоят, что Эйзенштейн и Довженко – люди одной картины и т. д. и т. п.
– Так всегда было в мире искусства, так, наверное, будет и впредь, – вяло, кривясь, как и всегда, когда ему что-нибудь не нравилось, заговорил Коберский. – По этому поводу давно бытует актерская притча: на первом курсе студент – гениальный мастер, на втором – талантливый, на третьем – хороший, а когда придет в театр – начинающий.
– Во все века молодые считали себя гениями. Это у них, по-моему, от телесного здоровья и беспредельно легкомысленной веры в свои силы, – с иронической улыбкой произнес Скляр. И уже со вздохом добавил. – Молодежь всегда права, если даже ошибается, старики всегда ошибаются, если даже правы.
– Да! – с веселой злобой согласился Коберский. – Еще Марк Твен печально изрек, что лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей.
– Старой райской птицей ты еще будешь, – с фамильярной льстивостью заключил Скляр.
– А щенком уже нет, – со смехом добавил Мережко.
– А я им и не был! – вспылил Коберский. – В наше время мы после ВГИКа – ассистентами и помрежами. А сейчас, едва скомпилировал из отходов разных модерных киношек дипломную короткометражку, – сразу на тарелочке подают полнометражный.
– «В наше время», «вкалывали помрежами»… – сокрушенно покачал головой Скляр. – Тебе ли на судьбу обижаться? Ты говоришь так, словно у тебя все в прошлом, словно ты уже старик. В свои тридцать лет ты смял полдюжины картин, которые принял зритель и о которых спорили критики.
– А-а-а, – отмахнулся Коберский. – Для молодых щенков я уже старик, снимающий, как с гордостью провозгласил однажды с высокой трибуны директор нашей студии, «фильмы хорошего среднего уровня».
Мережко вдруг расхохотался:
– Так и сказал, на полном серьезе?
– На полном, – кивнул Коберский, и сам рассмеялся.
Смеялись и остальные. Смеялись скорее всего не над словами директора киностудии – они уже давно в кругу киношников стали нарицательными и вряд ли вызвали бы смех. Только Мережко слышал их впервые, а когда он смеялся, заражал и других, все невольно покатывались от хохота вместе с ним, если даже острота была изрядно заезженной.
После завтрака Коберский и Мережко поднялись в номер к режиссеру. Перед их приходом здесь уже успела побывать уборщица: кровать была застелена, в запотевшем графине свежая вода, чайник и пиалы аккуратно сложены на столике, ворса ковров на полу ершилась от недавно утюжившего их пылесоса. Все остальное здесь находилось в величайшем беспорядке: на двух холодильниках, в которых хранилась пленка, навалом лежали газеты и журналы, крохотный письменный стол бугрился от рукописных листов бумаги, потертых сценариев, страничек со схемами съемок. И по всему этому было разбросано великое множество плохо очиненных карандашей, шариковых ручек, сигаретных коробок. На креслах, подоконнике, тумбочках валялись альбомы, географические карты, словари, справочники. В этом великом хаосе мог разобраться один Коберский, и если к чему-то прикасалась услужливая уборщица, режиссер приходил в ярость.
– Присядем, – предложил Коберский.
– Где? – ухмыльнулся Мережко.
– А вот…
Коберский сбросил с кресел на пол альбомы и карты. Сели друг против друга, подвинули кресла к открытому мокрому балкону, закурили.
– Что говорят о картине на студии? – искоса поглядев на Мережко, нетерпеливо спросил Коберский.
– Почему не прислал материал? – не отвечая на вопрос, спросил Мережко.
– Два дня тому назад я послал пятьсот метров, – вздохнул Коберский.
– Но это же не все…
– Больше нет. Ты же видишь, как снимаем…
– Вижу. Но знаю, что вы сняли больше. По отчету – больше.
– Так что все же говорят там? – уже без запальчивого любопытства, а скорее с ленью уставшего человека повторил Коберский. – Что болтают? Только честно, не надо меня успокаивать.
– Тебя волнует коридорная болтовня?
– Это барометр… Без причины материал вызывать не станут.
Мережко помолчал, размышляя, стоит ли говорить режиссеру правду. Ведь все равно то, что болтают о картине недоброжелатели Коберского, по мнению Александра, слишком далеко от истины, хотя и есть в этих разговорах доля правды. С самого начала работа над фильмом сложилась неудачно. Актриса, утвержденная на главную роль, не «потянула», и поэтому, еще до экспедиции в Ашхабад, почти все павильонные съемки пришлось повторить. Это лихорадило группу, вызывало много кривотолков на студии, даже люди, всегда верившие в режиссера, или смущенно отмалчивались, когда речь заходила о картине, или сочувственно пожимали плечами: все, мол, в искусстве возможно, даже гении не застрахованы от неудач, а Коберский еще не гений.
– Молчишь? – словно издалека донесся до Мережко голос режиссера.
И Мережко, всегда сдержанный, уравновешенный, вдруг выпалил сердито:
– Говорят, что ты с фильмом зашился!
– А-а-а, говорят… – болезненно поморщился Коберский и стал глядеть в открытую дверь балкона: там снова шел дождь.
Мережко тут же пожалел о сказанном. Скрывать, конечно, ничего не следовало, тем более, что Коберский, спрашивая, другого ответа и не ждал: он прекрасно знал студию. Но сказать все же надо было как-то по-иному…
– Что ж, все правильно. – Коберский с силой провел ладонью по лицу, как бы пытаясь разгладить болезненно проступившие морщины, и повторил. – Все правильно, все закономерно. Судьба режиссера всегда напоминает мне судьбу футболиста. Пока тот забивает виртуозные голы, его носят на руках, стал «мазать» – болельщики орут: «С поля!»
– Ну уж, так прямо и «с поля», – ободряюще улыбнулся Мережко. – А может, те правы, кто сомневался в сценарии? Сейчас уже и об этом говорят.
– А сам-то ты как думаешь?
– Не знаю…
– «Не знаю», – передразнил Коберский. – Вот это твое интеллигентское, рахитичное «не знаю» многим на руку. Конечно, тот, кто не сомневается, – не художник. Но все это следует держать в себе и не хныкать, не исповедываться перед каждым. И всегда помнить, что ты живешь в самом прекрасном, но вместе с тем и в самом злом мире – в мире искусства. Он разделен на два лагеря: на талантливых и бездарных. На подвижников и рвачей. Не всегда сразу и поймешь, где те, а где другие.
– Понесло, – снисходительно улыбнулся Мережко.
Коберский смутился, и сам, вероятно, понял, что «понесло», но тут же, щелкнув зажигалкой и окутав себя облаком сигаретного дыма, сердито, хотя уже и без прежней запальчивости, продолжал:
– А главное – очень трудно порой разобраться, кто с тобой, а кто против тебя. Все сочувствуют, все советуют, все улыбаются. А ты говоришь «не знаю». Да за это «не знаю» потом тебя же и секут, оно на пользу именно тем, кто действительно ни хрена не знает!
– Ты ведь и сам не раз говорил, что сценарий сложный…
– Если бы он не был сложным, я бы не брался за него. Я не люблю ремесленных поделок, где все разложено по полочкам, где все ох как кинематографично. Сценарий – это прежде всего хорошая литература!
– Говоришь так, словно ты сценарист, а не я…
– А что же ты думал! Меня хоть и нет в титрах, но и я соавтор. Если в одной упряжке, если вместе тянем, – значит, соавтор!
– Так зачем же ты меня вызвал в таком случае?
– А затем, что я без тебя не имею права ни сокращать, ни переделывать. Без тебя и представителен сценарной коллегии.
– Ах, вот оно что, – откинулся в кресле Мережко. – Значит, все-таки и в сценарии не все в ажуре? Снова переделки?
– Во, во! – почти обрадованно вскричал Коберский. – А говоришь – «не знаю». Сам же, как только дело касается переделок, – сразу ершом.
– Просто уже надоело! Что там еще? – нетерпеливо дернулся Мережко.
Коберский, погасив о пепельницу сигарету, вынул из пачки, лежавшей на столе, новую, поднялся и, став к Мережко спиной, проговорил глухо:
– Что еще – не знаю. Сам не знаю… Одно лишь скажу: почти все должно остаться, как было. Но ты же понимаешь, Саша, сроки. Они нас крепко поджимают, мы сильно отстали… Кое-какие объекты придется опустить. Эпизоды на дороге, в лесу перенести в кафе, в клуб или еще черт знает куда! На натуре погода не даст снять. Короче, заменить интерьерами… Ну и… следовательно, в помещении кое-что будет по-иному. Собственно, почти новые эпизоды.
Мережко молча вздохнул.
– Ни в одной картине у меня еще ничего не проходило гладко. Всегда что-нибудь… – словно сам себе пожаловался Коберский.
Мережко не ответил. Сощурив глаза, он жадно курил и молча смотрел, как, подгоняемые порывистым ветром, то хлюпали, то стрекотали, разбиваясь о бетонную плиту балкона, частые дождевые капли.
– Работы, наверное, не так уж и много? – Мережко посмотрел на Коберского с робкой надеждой.
– Еще не знаю. – Он снова закурил и спросил раздраженно. – А почему с тобой не приехал куратор?
– Мне сказали, что занят с другой картиной, завтра якобы вылетает.
– А-а-а, так все-таки его присылают, – неопределенно протянул Коберский.
– Такая установка: любая правка, а тем более переделка эпизодов в утвержденном сценарии, должна рассматриваться если не редколлегией, то хотя бы одним из кураторов, – засмеялся Александр.
– Чему радуешься? – хмуро удивился Коберский.
– Тому, что решение, по-моему, очень верное. Не будь его, вы так наизменяете в картине, что автор и не узнает своего родного дитяти. – Мережко снова рассмеялся.
Коберский помолчал, показывая этим, что на такое сомнительное остроумие не намерен даже реагировать, а потом спросил:
– Кто приезжает?
– Митя Осеин.
– Старый человеконенавистник. Цепной пес!
– Ну зачем ты так? – благодушно заметил Мережко. – Злой ты…
– А ты добряк, точнее – добренький! – почти перешел на крик Коберский. Потом вдруг осекся, развел руки в стороны и заговорил спокойнее, не без ехидства в голосе. – Постой, постой, да кого ты мне напоминаешь, а? Кого-то очень знакомого… Ага, вспомнил: Стиву Облонского у Льва Николаевича. Как он там о нем? М-м-м… «…В нем было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним».
– Ну, думаю, это не худшие человеческие качества, – без улыбки заметил Мережко.








