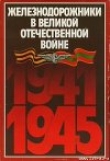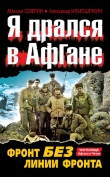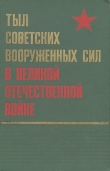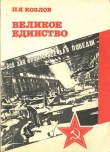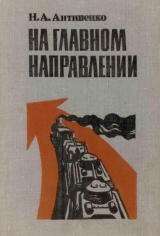
Текст книги "На главном направлении"
Автор книги: Николай Антипенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Мясную проблему решить мы могли, как нам казалось, лишь развивая свиноводство. В нашем фронтовом хозяйстве насчитывалось 66 тысяч свиней; надо было сберечь маточное поголовье и позаботиться о приросте стада, организовать для этого крупные свиноводческие фермы, пользуясь услугами местного населения. Думалось, если будем хорошо хозяйничать и у нас окажутся излишки, вывезем их в Советский Союз.
Эти и многие другие вопросы я вынес на обсуждение собравшихся. На совещании выступило более 20 генералов и офицеров, и каждый из них вносил крупицу своего опыта.
После капитуляции Германии мы встретились на немецкой территории с тяжелыми последствиями войны. Исключительную угрозу для войск и для населения представляла возможность вспышки эпидемий в самом Берлине. Стояла жаркая погода, а всюду – в каждом доме, подвале, на чердаках – валялись трупы. Маршал Жуков потребовал от меня и начальника санитарного управления фронта генерала А. Я. Барабанова принятия решительных мер по очистке города от трупов, приведению в санитарное состояние водоемов, системы водоснабжения, а также продуктов питания на складах, в магазинах, предупреждению массовых заболеваний людей, идущих из концлагерей. Естественно, первейшей задачей являлось излечение раненых советских воинов. А жертв было много. Гитлеровцы вели огонь отовсюду: с крыш домов, с балконов, из подвалов, из-за каждого угла. 5-я ударная и 8-я гвардейская армии потеряли до четверти своего состава; в остальных армиях насчитывалось по 2–3 тысячи раненых. К тому времени мы полностью прекратили санитарную эвакуацию на Родину, добиваясь того, чтобы все раненые были окончательно излечены во фронтовых и армейских госпиталях и в Советский Союз уезжали здоровыми людьми.
В ходе Берлинской операции, по далеко не полным данным, только в полосах 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было захвачено 4510 самолетов, 1550 танков и штурмовых орудий, 565 бронемашин и бронетранспортеров, 8613 орудий, 2304 миномета, 19 393 пулемета, около 180 тысяч винтовок и автоматов, 876 тракторов и тягачей, 9340 мотоциклов и другие трофеи[35]35
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., с. 380–381.
[Закрыть]. Большая часть всей этой техники и оружия представляла собой груду металла, но и металлолом в то время был очень нужен. Сбор, сортировка и отправка его на металлургические заводы легли на тыловые органы фронта (впоследствии Группы советских войск в Германии). Привести огромное количество металлолома в транспортабельное состояние, доставить к линиям железной дороги – все это составляло большую хозяйственную операцию, не менее сложную, чем, скажем, перегон скота или уборка хлеба зимой. И все же для нас эта работа не была главной. На основе решений Крымской, а впоследствии Потсдамской конференций требовалось уничтожить военно-промышленный потенциал Германии, что также легло на трофейную службу. Большой объем работ потребовал учреждения новой должности – заместителя начальника тыла фронта по трофейной службе. На эту должность назначили интенданта фронта генерала Н. К. Жижина, уже не раз показавшего свои способности при решении весьма крупных хозяйственных задач.
Много хлопот доставило нам содержание военнопленных, которых только с 16 апреля по 9 мая 1945 года было взято войсками 1-го Белорусского фронта более 250 тысяч человек.
На фронте существовал специальный отдел, имевший в своем составе 10 сборных пунктов военнопленных (СПВ). Он подчинялся Военному совету фронта и Наркомату внутренних дел СССР. Как и на протяжении всей войны, обращение с военнопленными с нашей стороны всегда оставалось гуманным. Пленные немцы оказались в более выгодном положении, нежели находившиеся на свободе их соотечественники, жители Берлина и других крупных городов Германии, которые еще до крушения гитлеровского режима влачили полуголодное существование. Советское командование строго следило за тем, чтобы пленные находились в тепле, чистоте и получали положенную норму продовольствия. Больше того, мы, насколько возможно, считались с желанием немцев работать во время их нахождения в плену по той или иной специальности.
По мере того как наши войска продвигались к Эльбе, все новые и новые тысячи советских граждан и граждан других стран мира толпами шли на восток, уходя из лагерей и от хозяев. Репатриантов принимали на специальные сборные пункты, там они проходили медико-санитарный осмотр и обработку, некоторых тут же госпитализировали, других заново одевали и обували, а главное – надо было всех накормить и обеспечить ночлегом.
С каждым днем возрастали требования к органам тыла. Дело в том, что в течение мая и июня 1945 года среднесуточный приток репатриированных в нашу зону составлял, по данным начальника управления репатриацией, 36 тысяч человек. К концу июня их скопилось до миллиона, не считая призванных в ряды Красной Армии непосредственно армейским командованием[36]36
Тыл Советской Армии. М., 1968, с. 241.
[Закрыть].
Миллион человек!
Надо было всех разместить, накормить, подлечить, одеть, обуть. Среди репатриантов велась большая политическая работа. И над всеми этими задачами стояла одна, самая трудная и неотложная – скорее отправить людей на родину.
Стали подсчитывать, рассчитывать, но хорошего выхода найти не могли. Если сажать в поезд по 1500 человек, то потребовалось бы 700 поездов. Но ведь у каждого репатрианта были личные вещи, и мы не могли допустить, чтобы люди лишались своих скромных пожитков. Практически в поезд можно было посадить не более тысячи человек с вещами. Следовательно, понадобилась бы тысяча поездов.
В те дни мы отправляли на восток два-три поезда с репатриантами в сутки… Почти полтора года пришлось бы некоторым ждать своей очереди. Невеселая перспектива! К тому же, по имевшимся тогда сведениям, число репатриированных могло возрасти.
После неоднократных переговоров члена Военного совета фронта с Москвой решили большую часть репатриантов отправить в СССР пешим порядком. Люди понимали, что иного выхода нет, но каждый стремился попасть в группу, подлежащую перевозке по железной дороге. Поскольку детей до 14-летнего возраста решили пешком не посылать, то нередко встречались случаи фиктивного усыновления (удочерения) детей женщинами, не желавшими идти пешком.
Оказалось, что многие женщины, раздобывшие себе обувь после освобождения, обуты в туфли на высоких каблуках, а на них далеко не уйдешь. Встал еще один вопрос – о выделении десятков тысяч пар женской обуви на низких каблуках для идущих пешком.
В общем по принятому тогда варианту походным порядком отправлялось в Советский Союз 650 тысяч человек.
Наметили пять трасс общей протяженностью (включая территорию Польши) в тысячу километров каждая. Трассы разбили на этапные пункты, где построили напольные печи для выпечки ежедневно 8—10 тонн хлеба, установили очаги для приготовления горячей пищи, которая выдавалась через каждые трое суток. На этих этапных пунктах выдавался и сухой паек на три дня. Тут же находились походные душевые и пункты медицинской помощи.
Людей свели в колонны по 5 тысяч человек в каждой. Колонны выходили на трассы одна за другой через сутки. Перед выходом устраивались торжественные проводы.
Немало было драматических сцен. Гитлеровцы часто угоняли в Германию целые семьи – мужа, жену, детей. Кроме того, среди этих «восточных рабочих» возникали на чужбине новые семьи, появлялись дети. Жены провожали в далекий путь своих мужей, а сами оставались с малыми ребятами, чтобы следовать в СССР поездом; многие из них готовы были идти вместе с мужьями пешком, но мы не могли допустить этого. Опять слезы, опять заботы… Убеждали матерей и детей, что это временная разлука, что иного выхода нет.
За выбор трасс, за порядок на них отвечали военные дорожники. Автомобильная служба фронта выделила 2 тысячи автомашин для подвоза продовольствия по маршрутам и для сопровождения каждой колонны репатриантов. Служба ГСМ выдвинула всюду свои заправочные пункты. Личные вещи отправлялись на машинах в сопровождении офицеров и самих репатриантов до советско-польской границы; там эти вещи укладывались на перроне в строго установленном порядке для дальнейшего следования поездами.
Продовольственная служба фронта отправила на этапные пункты 20 тысяч тонн муки, 6 тысяч тонн крупы, 2500 тонн мясных консервов, 1500 тонн жиров, 1600 тонн соли, 1300 тонн сахара, 50 тысяч тонн картофеля и др. Ввиду того, что в пути большое значение имел сухой паек, фронт выделил 12 миллионов банок консервов – пришлось со всех складов фронта и армий изъять все консервы до последней банки.
Маршал Жуков лично рассмотрел план перехода репатриированных и дал строжайший наказ о соблюдении твердого порядка на трассах. Особое внимание он обратил на недопустимость каких-либо осложнений во взаимоотношениях с польским населением – ведь стояло лето, по пути много садов, огородов, прудов; категорически запрещалось самовольно заходить куда-либо.
В числе освобожденных из немецкой неволи были и граждане других стран, в том числе американцы, англичане, французы. О судьбе побывавших в немецком плену военных из союзных с нами армий заботилось не только наше командование, но и центральные правительственные органы. Граждан США, Англии и Франции одевали, обували, кормили и доставляли в Одесский порт, откуда они следовали к себе на родину.
Между прочим, не всегда тем же отвечали союзники. Они нередко передавали нам репатриированных с однодневным запасом продовольствия, а по договоренности полагалось обеспечивать их на трое суток. Вскоре последовали и другие недружелюбные акции со стороны союзников, но о них здесь говорить не место.
2 мая пал Берлин.
На 8 мая намечалось подписание в Карлсхорсте, предместье Берлина, акта о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Мне пришлось руководить организационно-хозяйственным обеспечением этой церемонии.
В Карлсхорст прибыли представители всех союзных армий. Советское Верховное Главнокомандование представлял Маршал Советского Союза Г. К. Жуков; верховное командование союзных войск представляли маршал авиации Великобритании Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Жан Делатр де Тассиньи. В Карлсхорст доставили представителей разгромленных германских вооруженных сил – фельдмаршала Кейтеля, адмирала флота фон Фридебурга и генерал-полковника авиации Штумпфа. Немецких представителей разместили в маленьком особняке вблизи бывшего военно-инженерного училища в Карлсхорсте, где намечалось подписание акта о капитуляции и устройство банкета по этому случаю.
Еще с утра 8 мая мы приняли меры к тому, чтобы стол для немецких представителей в отведенном для них особняке был накрыт подобающим образом. Поручив официантам столовой военторга Е. П. Михетько и Е. Д. Павловой заняться сервировкой стола для Кейтеля и сопровождающих его лиц, я вызвал к себе начальника военторга фронта Н. В. Каширина, его заместителя А. В. Моргунова и шеф-повара В. М. Павлова, чтобы выслушать их доклад о подготовке торжественного обеда, который должен был состояться после подписания акта о капитуляции, примерно в 15 часов 8 мая. Еще накануне шеф-повар Павлов предложил разработанное им меню этого обеда.
Впервые пришлось нам заниматься «снабжением» такого рода.
Каждый, конечно, хорошо понимал, каковы были моральные переживания и материальные затруднения людей в связи с войной. Казалось бы, не до банкетов в такое время… Но ведь завершилась невиданная по масштабам война! Впервые собрались представители стран-победительниц по такому торжественному поводу. Надо хорошо принять гостей.
Предложенное Павловым меню было согласовано с представителем Министерства иностранных дел СССР и одобрено маршалом Жуковым.
Ассортимент продуктов требовался настолько разнообразный, что пришлось обратиться за помощью к министру пищевой промышленности СССР В. П. Зотову. Через несколько часов все недостающие продукты и напитки доставили самолетом в Берлин. Военторг фронта также выделил кое-что из своих запасов. Мы привлекли и работников столовой 1-го эшелона полевого управления фронта; начальник административно-хозяйственного отдела штаба фронта Л. С. Чернорыж и начальник военторга при штабе фронта Ю. Е. Малиновский принимали активное участие в подготовке обеда и главным образом в оборудовании зала заседания, где предполагалось принятие капитуляции.
Этот зал мог вместить человек 300–400. Столы расставили буквой «П» при подписании акта и буквой «Ш» во время торжественного обеда. Для немецких представителей поставили справа у входа небольшой столик.
Пока шло оборудование зала заседаний, меня пригласили оценить поварское искусство Павлова. Об этом человеке мне хочется рассказать подробнее. Впервые я встретил его в 1943 году на Курской дуге в одном из госпиталей фронта. После опроса претензий раненых мы осмотрели пищевой блок, и там я увидел Павлова. Раненые единодушно хвалили качество госпитальной пищи и благодарили шеф-повара. По внешности Павлов являл собой классический тип русского повара. Его внушительная фигура, широкое лицо, серо-голубые глаза, приятная улыбка, необычайное добродушие во всем облике, профессиональная манера пускаться в подробное описание подаваемого блюда – все было в нем привлекательно. Впоследствии, когда мы двинулись вперед и госпиталь, где он работал, остался вне границ фронта, Павлова назначили шеф-поваром генеральской столовой 2-го эшелона полевого управления фронта. С той поры и до конца войны мне не раз приходилось слышать восторженные отзывы о необычайном мастерстве шеф-повара.
После войны Павлов работал заведующим производством ресторана Харьковского вокзала. Как прекрасный специалист он удостоен высокого звания мастера-повара всесоюзной категории, что засвидетельствовано дипломом за личной подписью Анастаса Ивановича Микояна.
Хорошо зная Павлова, мы не могли сомневаться в том, что подготовка торжественного обеда ведется на самом высоком уровне.
Но вдруг начались осложнения. К 15 часам обед был приготовлен, а подписание акта о капитуляции откладывалось. Уже вечерело, а команды о созыве людей в зал заседаний все не поступало. Несколько раз я обращался к маршалу Жукову, высказывая ему тревогу за качество обеда. Но не от него зависела проволочка, на то имелись причины высокого дипломатического порядка: Москва, Вашингтон, Лондон не могли договориться о процедуре принятия капитуляции… Поварам не было дела до этих переговоров, их беспокоило одно – как бы не ударить лицом в грязь и показать именитым европейцам во всем блеске русское кулинарное искусство.
Раза два я заходил в домик Кейтеля. Он сидел за столом, накрытым более скромно. За спиной у него и у других немецких представителей стояли английские офицеры. Кейтель держал себя с независимым видом, к пище едва притрагивался. Ему предстояло с минуты на минуту быть вызванным в зал заседания и там перед лицом всего мира подписать документ, который навеки пригвоздит к позорному столбу германских милитаристов – акт о безоговорочной капитуляции. Он сидел напыщенный, вытянув шею, с моноклем в глазу.
Наконец наступил долгожданный час.
За столом официальных представителей стран-победительниц в центре сидел сосредоточенный, суровый Жуков. Бесконечно щелкали затворы фотоаппаратов и кинокамер. Журналисты и кинооператоры суетились, стремительно носились по огромному залу, пытаясь взобраться повыше, чтобы лучше запечатлеть это историческое событие.
Церемонию открыл маршал Жуков. Он приветствовал генералов, дипломатов, всех гостей. Затем он приказал ввести в зал представителей гитлеровского командования. Картинным жестом Кейтель приветствовал собравшихся фельдмаршальским жезлом.
После проверки полномочий германским представителям предъявили акт о безоговорочной капитуляции. Началась процедура подписания каждого экземпляра.
Кейтеля в эту минуту я видеть не мог – его заслонила толпа журналистов и кинооператоров.
Но вот закончилась процедура подписания акта о капитуляции, маршал Жуков приказал увести немецких генералов.
Советские люди и поныне вправе гордиться тем, что, олицетворяя силу советского оружия, несгибаемую волю советского народа, во главе всей этой церемонии был Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
После подписания акта о капитуляции (это произошло в 0.43 минуты по московскому времени 9 мая 1945 года), пока шла подготовка к ужину, вокруг Жукова тесным кольцом собрались советские генералы и журналисты, поздравляли друг друга с окончанием войны. Среди присутствовавших было немало товарищей, прошедших боевой путь от Москвы до Берлина.
Обращаясь к своим соратникам по оружию, маршал Жуков произнес речь, которую воспроизвожу по памяти:
– Партия и правительство в час смертельной опасности, нависшей над страной, доверили нам оборону столицы нашей Родины Москвы в 1941 году, и это доверие наши доблестные войска оправдали, город не был сдан на поругание врагу. Отборные гитлеровские войска были разгромлены на подступах к столице. Теперь, в 1945 году, нам снова оказаны доверие и великая честь довести до конца разгром ненавистного врага в его собственном логове. И это доверие еще более блистательно оправдали наши славные воины, водрузив знамя победы над рейхстагом.
Во втором часу ночи всех участников церемонии пригласили к столу. Рассаживали гостей так, чтобы рядом с каждым советским генералом сидели француз, англичанин и американец. Такой порядок соблюдали и за другими столами. Я сидел недалеко от главного входа, откуда было удобно наблюдать за всем залом и за работой обслуживавшего персонала. Главный распорядитель по питанию Н. В. Каширин находился недалеко от меня и легко улавливал мой знак, призывавший поставить недостающее.
Банкет открыл маршал Жуков кратким, но выразительным тостом за победу, за советских воинов, за воинов союзных с нами государств, за здоровье всех присутствующих. Затем такие же короткие тосты произносили Теддер, Делатр де Тассиньи, Спаатс, член Военного совета фронта К. Ф. Телегин, генералы В. Д. Соколовский, Н. Э. Берзарин, С. И. Богданов, В. И. Чуйков и другие.
Откровенно говоря, все мы, в том числе и наши гости, сильно проголодались. Никто не был разочарован краткостью тостов. Да и не было нужды в них. Обстановка с самого начала сложилась весьма дружественная, все старались сказать друг другу приятное, пользуясь скудным запасом иностранных слов. Хотя я и получил на выпускном экзамене в Военной академии имени Фрунзе в 1940 году отличную оценку по английскому языку, но разговорной речью владел слабо, да к тому же многое и позабыл. Все же я смог поддерживать элементарный разговор за столом на каком-то условном, по все же понятном англичанину языке. Весь разговор сначала сводился к похвалам ужину со стороны гостей. Гости опрокидывали рюмку за рюмкой с «русской горькой»; даже отличный армянский коньяк не имел такого спроса, как «Особая московская» с белой головкой. Хотя это было уже под утро, но и суточные щи гости приняли с превеликим удовольствием, что доставило особую радость шеф-повару. Еще большим успехом пользовались украинский индюк со сметаной и уральский пирог с рыбой. Сидевший напротив меня американский генерал заметил мое влияние на восполнение ресурсов и перед тем как уйти, попросил обеспечить его на отъезд бутылкой водки и бутербродами с черной икрой. Конечно, не только он, но и другие иностранные генералы получили такой «посошок на дорогу».
Банкет завершился песнями и, конечно же, разудалой русской пляской. Второй раз за войну довелось мне увидеть, как пляшет маршал Жуков. Первый раз это было 19 ноября 1944 года в Бяла-Подляске по случаю Дня артиллерии. Он и генерал А. И. Радзиевский показали тогда изрядное умение – кавалеристы! На этот раз в паре с Г. К. Жуковым был Делатр де Тассиньи. Оба они старались превзойти друг друга сложными пируэтами…
Было около 6 часов утра. Пора разъезжаться по домам.
Расставались мы, как настоящие боевые друзья. Не думалось тогда, что дружба, скрепленная кровью, вскоре будет омрачена длительным периодом «холодной войны».
Если бы наши бывшие союзники, боровшиеся с фашизмом, не забывали тяжелых уроков минувшей войны, человечество могло бы спокойнее жить и трудиться, более уверенно смотреть в будущее.
Мирная жизнь началась для нас вдали от Родины. Устроился быт личного состава, началась боевая подготовка. Воины теперь в норме спали, получили так называемое личное время. По вечерам из казарм доносились песни, музыка.
Артиллеристы надраивали материальную часть. Танкисты чистили, смазывали и подкрашивали боевые машины. Кавалеристы приводили в порядок снаряжение, начищали трензеля, стремена, чинили седла, а больше всего хлопотали вокруг своих лошадей. У каждого была своя служебная и личная забота.
Многих, у кого не стало семьи, кто лишился крова, одолевали нелегкие мысли: «Куда ехать после армии? Как жить дальше?» Пока шла война, эти вопросы остро возникали на какой-то миг, чтобы снова угаснуть – быть может, завтра вообще ни о чем не надо будет мечтать… А теперь думы стали неотвязными. Ожидалось, что скоро начнется увольнение из армии людей старших возрастов и, естественно, будут опрашивать, куда каждый хочет ехать. Командиры всех степеней, от лейтенанта до генерала, обязаны были помочь своим подчиненным как можно лучше решить их жизненные вопросы.
Еще до окончания войны во фронт начали поступать приглашения на работу. Люди требовались всюду. Страна все более широким фронтом шла в поход против разрухи, против бесчисленных бедствий, принесенных войной. Выбирай любой район, любую отрасль промышленности, любой колхоз, любую стройку. Конечно, в каждом отдельном случае решение принять было нелегко, и не всегда оно оказывалось удачным. Но в целом вопрос трудоустройства демобилизуемых не представлял трудности.
Для нас, работников фронтового тыла, увольнение тысяч воинов, отбывавших на Родину, принесло новые заботы: надо было заново одеть, обуть каждого человека, чтобы он уехал в добром здравии и хорошем настроении. Не обременяя страну заявками и просьбами, мы изготовили на месте до 400 тысяч комплектов обмундирования, не менее миллиона пар белья, много обуви. По решению Государственного Комитета Обороны каждому увольняемому, хорошо несшему службу, полагалось выдать подарок. По существу, речь шла о всех, ибо на фронте не было плохо несших службу. Следовательно, предстояло подготовить много тысяч подарков, по возможности учитывая при этом личные нужды увольняемых, состав их семей и пр.
Военный совет фронта выделил в подарочный фонд радиоприемники, фотоаппараты, велосипеды, швейные машины и распорядился выдать каждому увольняемому один комплект верхней одежды. Кроме того, каждый получал шесть метров любой имевшейся на складах ткани.
Кажется, оставались чисто технические вопросы – выдать подарки, выдать 300–400 тысяч новых чемоданов и вещевых мешков. Но когда дело дошло до порядка перевозок, опять возникло множество трудноразрешимых вопросов. На поезд можно было посадить не больше тысячи демобилизованных. Где взять в короткий срок 400–500 поездов? А ведь только что для перевозки репатриантов требовалась тысяча поездов. И эти перевозки наслаивались одна на другую! Было ясно, что по железной дороге отправить всех демобилизованных невозможно.
Стали прикидывать вариант использования автомобильного транспорта. Начальник автомобильного управления фронта генерал П. С. Вайзман подсчитал, что для перевозки демобилизованных до Бреста в течение двух месяцев потребуется 5 тысяч автомобилей и 42 тысячи тонн горючего. Но маршал Жуков требовал провести увольнение в течение одного месяца. Во-первых, сами солдаты рвались домой, во-вторых, стране безотлагательно нужны были рабочие руки – приближалась уборка хлеба. Значит, требовалось еще что-то придумать.
К тому времени выяснилось, что наш фронт обязан отправить в СССР из числа обозных и строевых лошадей 50 тысяч голов, разумеется, своим ходом. А что если с ними отправить и повозки? У нас насчитывалось 59 тысяч повозок. От 30 тысяч можно было отказаться. Если на каждой повозке разместить 4–5 человек, это намного облегчит решение задачи.
Так родился вариант комбинированного способа отправки демобилизованных, одобренный Военным советом фронта. Каждая армия решала его по-своему. Только «пеший вариант» был начисто отвергнут.
Военные железнодорожники позаботились, чтобы поезда для демобилизованных были хорошо промыты, продезинфицированы, обеспечены матрацами, подушками и инвентарем.
Продовольственная служба оборудовала на всем пути следования кухонные очаги и хлебопекарни. Финансовая служба произвела расчеты с увольняемыми и выплату единовременного денежного вознаграждения, содержания за два месяца и полевой надбавки, с тем чтобы воин мог купить в магазинах военторга нужный ему товар. Финансисты проделали всю эту работу оперативно.
В общем все службы тыла сделали все от них зависящее, чтобы воины-победители уехали на Родину в хорошем настроении.
В Бресте их радостно встречало население. И тут военные тыловики заблаговременно позаботились о том, чтобы помочь местным властям как можно лучше принять защитников Родины. Одни гражданские власти не могли тогда справиться с организацией такой встречи.
Уезжали с фронта солдаты, сержанты, старшины.
– А вы, товарищ Грунь, когда намереваетесь отбыть на Родину? – спросил я своего водителя.
– Уж послужу вместе с вами, сколько можно будет.
Так и остался Дмитрий Максимович Грунь служить «сколько можно будет». Откровенно говоря, и я не представлял себе, как могу расстаться с этим человеком. Сколько раз вместе с ним мы попадали в беду, особенно в первые дни войны, сколько раз лежали рядом, наблюдая летящие сверху черные «сигары» с самолетов противника!
22 года просидел Грунь за рулем моей служебной машины, и не помню ни единой аварии, даже самой незначительной поломки. Случай, прямо сказать, не частый в нашей жизни, но он был возможен потому, что отличительная черта Груня – абсолютное спокойствие, молчаливость и сосредоточенное внимание при любой ситуации. За все годы во время езды не было случая, чтобы Грунь повернул голову ко мне или к другому пассажиру при разговоре с ним. Он всегда смотрел только вперед, на дорогу. В длинные разговоры он также не вступал, чаще всего ограничивался односложными «да», «нет». Что он чем-то встревожен, я понимал тотчас же без слов: в эти минуты он тихонько что-то насвистывал. Сидевший в машине рядом с ним адъютант М. Свиридов также был в пути малоразговорчив. Ко мне обращался лишь, когда сомневался в правильности маршрута. После войны мы с ним расстались в связи с его демобилизацией. Адъютантом он стал случайно, получив такое назначение после тяжелой раны, хотя мог бы, если бы захотел, уйти из армии.
Трудно было расставаться с такими людьми, как Грунь и Свиридов. При каждой встрече с Грунем мне доставляет большую радость пожать его руку, посмотреть в его открытое, по-прежнему сияющее добротой лицо.
Наша экономика сильно пострадала в этой войне. Гитлеровцы разрушили 1710 советских городов и поселков городского типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, 1878 совхозов. Они подорвали 65 тысяч километров железных дорог, взорвали и вывезли 16 тысяч паровозов, 428 тысяч вагонов и др. В целом материальные потери Советского Союза составили около 2 триллионов 600 миллиардов рублей[37]37
Великая Отечественная война Советского Союза 1911–1945. Краткая история. 2-е изд., исправл. и доп. М. 1970, с. 562.
[Закрыть]. Вряд ли вся промышленность Германии, Восточной и Западной, если бы ее демонтировать и вывезти до последнего болта, была бы достаточной компенсацией за такие потери. Это ясно каждому.
Но мере продвижения наших войск на запад нам все чаще встречались крупные военно-промышленные объекты, построенные гитлеровской Германией для нужд агрессивной войны: пороховые, авиационные, танковые заводы и т. д. В соответствии с решениями Крымской конференции их надо было немедленно уничтожить: демонтировать и взорвать. И эта работа также выполнялась органами тыла фронта и армий по заданиям Советского правительства под руководством специальных уполномоченных Государственного Комитета Обороны М. 3. Сабурова и П. Н. Зернова. Это была очень сложная и трудная работа. Она требовала хорошо продуманной технологии и высокой квалификации исполнителей. Надо сказать, что в ряде случаев немецкие инженеры и рабочие оказывали нам активную помощь.
Вспоминаю пороховой завод в Бромберге. Это был целый город с огромной сетью подземных коммуникаций. Еще более разительная картина открылась в районе Мезерицкого рубежа, где на несколько километров в подземелье протянулись цехи авиационных заводов, поставлявших истребители и бомбардировщики. Это то, что принято называть военным потенциалом гитлеровской Германии, и подобные объекты подлежали уничтожению.
Повторяю, трудно решать эти задачи в то время, когда еще идет война. Перед органами тыла со всей остротой возникали вопросы, связанные с обеспечением ее победоносного завершения. Дорога была каждая машина, каждый работник, каждая минута времени. Мы и теперь, сразу после войны, не могли полностью выполнить задачи, связанные с уничтожением крупных военно-промышленных объектов гитлеровской Германии, но всячески стремились сделать максимум возможного. Этого требовали интересы Родины, которой мы всем обязаны!
Вскоре выяснилось, что наличных ресурсов мяса нам не хватит. Рассчитывать на поставки скота из СССР было бы неправильно. Между тем фронт (вместе с репатриантами) потреблял ежедневно 450 тонн мяса.
Всем войсковым частям и соединениям мы рекомендовали, чтобы облегчить положение, обзаводиться подсобными хозяйствами, главным образом для разведения свиней. Но почему бы не помочь решению мясной проблемы еще и за счет рыбы? Ведь побережье Балтийского моря на протяжении 300 километров примыкало к территории, занятой нашими войсками, и, кроме того, всюду было много внутренних водоемов.
В течение июня 1945 года этот вопрос тщательно изучался. Каждая армия, каждый комендант провинции и района получили задачу – учесть сохранившиеся рыболовецкие артели, снасти и возможные перспективы улова рыбы, а также выяснить, какая помощь потребуется со стороны тыла фронта, чтобы немедленно развернуть промысловый лов.
И июля Военный совет Группы советских войск в Германии (ГСВГ) вынес постановление «Об организации лова рыбы на побережье Балтийского моря». В 1945 году предстояло наловить 21 тысячу тонн рыбы, что заменило бы 14 тысяч тонн мяса, или около 50 тысяч голов крупного рогатого скота.
По данным упродснаба Группы войск, в бывших рыболовецких хозяйствах учли моторных судов 103, парусных – 21; моторных лодок 166, парусных – 12, весельных – 132; неводов и сетей – 2355. Немало рыболовецких снастей обнаружили на фронтовых и армейских складах.