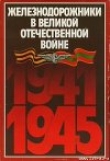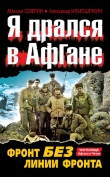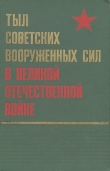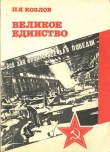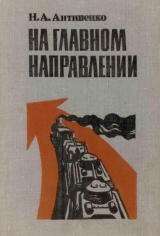
Текст книги "На главном направлении"
Автор книги: Николай Антипенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Но возвратимся к тем поездам, которые ушли от Вислы с боеприпасами. Их ждали на переднем крае с величайшим нетерпением.
– Где же ваши поезда с боеприпасами? – этим вопросом всегда встречали меня в штабе фронта.
Командующий артиллерией генерал В. И. Казаков даже заявил маршалу Жукову, что нависла угроза срыва работы артиллерии из-за отсутствия боеприпасов, и прозрачно намекнул на то, что виноват в этом будет начальник тыла фронта: он-де погрузил все боеприпасы в вагоны, а где эти вагоны? И вот в самый критический момент (5–6 февраля), когда обстановка в штабе фронта накалилась до предела, в войска начали поступать один за другим долгожданные поезда с боеприпасами, тяжелая материальная часть и пр. Не тысячу тонн, а более 20 тысяч тонн боеприпасов за несколько дней получило правое крыло фронта как раз тогда, когда наши войска отражали, а затем и громили померанскую группировку противника.
С 23 января по 10 февраля, когда еще бездействовала перешиваемая северная дорога, войска 1-го Белорусского фронта получили по южному пути около 170 поездов с важнейшими грузами, что составило минимум 50 тысяч тонн. Разве можно было решить такую задачу автомобильным транспортом?
Теперь, может быть, рассказанное выглядит как малозначительный эпизод, а тогда все внимание командования фронта было приковано к этому.
Если неустроенная, с плохими средствами связи и примитивными методами управления железная дорога южного направления сыграла большую роль в обеспечении войск материальными средствами, то как велика была бы помощь фронту, если бы своевременно перешили на союзную колею варшавско-познанское направление. По нему поезда подошли бы к районам наступавших войск не 12–15, а 1–3 февраля, что позволило бы своевременно и в полном объеме подать материальные средства войскам, вышедшим на Одер.
Обеспеченность войск боеприпасами и горючим ко времени выхода на Одер составляла 0,3–0,5 боекомплекта и 0,5 заправки. Этого хватило лишь для ведения боев за захват и удержание плацдармов на Одере. В то же время усилились контратаки противника на кюстринском плацдарме, отбивая которые мы несли большие потери. В такой ситуации наступать безостановочно на Берлин было невозможно. Было бы наивно надеяться на легкую победу над логовом фашизма. В своем приказе об обороне Берлина Гитлер требовал превратить город в крепость. В этом документе выражалась надежда на фанатизм многих немцев, еще веривших фюреру. О том же свидетельствуют ожесточение и упорство, с которыми сражались гитлеровцы не только в Берлине, но и на других участках советско-германского фронта, особенно там, где они попадали в окружение (Познань, Шнейдемюль, Бреслау и др.). Продолжали также свирепствовать карательные органы фашистов, понуждавшие немцев не складывать оружия.
От преждевременного наступления войск 1-го Белорусского фронта на Берлин нас удержали дальновидность и предусмотрительность Ставки Верховного Главнокомандования, с одной стороны, и реальное понимание обстановки командованием фронта, с другой.
Говоря о причинах, по которым невозможно было продолжать безостановочное наступление от Одера до Берлина, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал:
«Главными препятствиями на этом пути были, с одной стороны, значительное отставание тылов и вызванные этим серьезные перебои и трудности в боевом снабжении войск и – с другой – нависшая над растянутым и открытым правым флангом 1-го Белорусского фронта угроза контрнаступления немецко-фашистской группы армий „Висла“…»[30]30
Коммунист, 1970, № 1, с. 91.
[Закрыть]
Это высказывание Г. К. Жукова свидетельствует о том, что командующим всегда полезно поглядывать на состояние своих тылов при большом отрыве войск от баз снабжения.
Было бы неправильным полагать, будто в ходе Висло-Одерской операции на долю нашего автомобильного транспорта выпала сравнительно небольшая нагрузка. Наоборот, напряженность автомобильных перевозок в ходе наступления достигла высшего предела. Если за первые 15 суток января, когда готовилась операция, фронтовым и армейским автомобильным транспортом было перевезено 165 900 тонн, то за вторую половину января – 320 101 тонна различных грузов.
Обнаружилась существенная разница между запланированными и фактическими нормами использования автомобильного транспорта. Вместо плановых 200 километров суточный пробег был всего лишь 140 километров, то есть на 30 процентов меньше; протяженность грунтовых коммуникаций предусматривалась 300 километров, а оказалась около 600 километров. В отдельные дни пробег автомашин не превышал 100 километров из-за тяжелых дорожных условий. Продолжительность рейса одного автомобиля в период наибольшего отрыва войск от баз снабжения достигала 10–12 суток. При таком положении фронтовой и армейский автомобильный транспорт мог вывозить из районов Вислы не более тысячи тонн боеприпасов, и то не каждые сутки. Поэтому Военный совет фронта принял решение привлечь для перевозок боеприпасов 500 автомобилей-тягачей из артиллерийских соединений и частей фронта. Иными словами, какое-то количество орудий оставили в поле. Это решение продиктовала чрезвычайная обстановка.
Понадобилось также немедленно выдвинуть вперед, в районы Радома и Лодзи, значительные группы фронтовых госпиталей. Для этого выделили 750 автомобилей. Быстрые темпы наступления потребовали частого перемещения полевого управления фронта, и каждый раз для этой цели требовалось не менее 400 автомобилей. Свыше 300 автомобилей было занято на вывозке трофейного продовольствия. Наконец, в систематической помощи автомобильным транспортом нуждались железнодорожные восстановительные части.
Особенно затруднялась подача горючего. Общая грузоподъемность парка наливных машин фронта составляла 5574 тонны. Это немало, но беда в том, что каждый автомобиль, посланный за горючим в район Вислы, расходовал до восьми заправок, то есть почти четверть перевозимого бензина.
Немногим меньше миллиона тонн грузов перевезли автомобильным транспортом с 14 января до конца февраля 1945 года. Каждая машина перевезла 2 тонны грузов в среднем за сутки, и это не так уж плохо по тому времени. Придавая первостепенное значение подвозу боеприпасов, Военный совет принял решение премировать водительский состав за каждый тонно-километр боеприпасов, перевезенных сверх нормы. Некоторые водители получали в месяц премиальных до 500 рублей. Как и в Белорусской операции, особо отличилась 18-я автомобильная бригада под командованием полковника Б. Н. Кугутова.
Опытный специалист, начальник автомобильного управления фронта полковник П. С. Вайзман вместе с начальником дорожных войск фронта генералом Г. Т. Донцом хорошо организовали автомобильные перевозки, преодолев множество всяких трудностей.
В данной операции автомобильный транспорт фронта и армий использовался, как правило, централизованно – автомобильные части и подразделения никому не придавались. Но управлять ими на растянутых коммуникациях оказалось делом весьма сложным, несмотря на широкое применение радио, телефонов, связных мотоциклов, автомобилей и самолетов.
Опыт показал, что в такой обстановке не надо создавать громоздких колонн, иначе не избежать долгих простоев под погрузкой и выгрузкой, а также пробок в пути следования, если вынужденно остановится хотя бы один автомобиль. Лучше всего посылать в рейс одновременно три – пять машин; скорость пробега увеличивается тогда на 75 процентов. Взводные и тем более ротные колонны давали меньший эффект. Перегрузки с фронтовых машин на армейские и с армейских на дивизионные в ходе наступления не практиковались; дорожа каждой минутой, мы доставляли грузы фронтовыми машинами непосредственно до расположения войск. Некоторые считают самой стройной, можно сказать, идеальной схемой двух– трехкратную перегрузку в звеньях фронт – армия – дивизия. Но на практике она не применялась. Да и кому перегружать? Водитель зачастую выполнял роль грузчика, он переутомлялся, недосыпал, и мы не раз удивлялись сравнительно небольшому числу аварий в пути по вине водителей.
Мы хорошо научились использовать обратный порожняк. Служба артиллерийского снабжения, дорожные и трофейные войска требовали быстрейшей вывозки в тыл тары, гильз, трофейного имущества. Следуя по дороге, водители всюду видели указатели, где и какой груз подготовлен для обратных рейсов и расстояние до этого пункта. Всем им был хорошо известен короткий, но убедительный призыв: «Взамен каждой гильзы, отправленной в тыл, один снаряд– на фронт!»
Очень остро стоял вопрос с отправкой в советский тыл спецукупорки. Ведь на каждый фронт поступала уйма ящиков с боеприпасами. На изготовление их страна расходовала миллионы кубометров леса. Возврат ящиков в тыл становился проблемой государственного значения. Шоферы, забиравшие их обратным рейсом, получали премии.
Небывало велик стал объем работы трофейной службы. За время участия фронта в Висло-Одерской операции было захвачено 1119 танков и штурмовых орудий, 4265 орудий разных калибров, 2401 миномет, 18 327 пулеметов, 757 самолетов, 17 494 автомобиля[31]31
ЦАМО, ф. 233, оп. 15038, д. 44, л. 1.
[Закрыть].
В основном это были уже не машины, а металлолом; для использования его требовалось демонтировать, а затем без задержки отправлять на металлургические заводы. Чтобы ускорить эту работу, командующий фронтом предложил выделить в каждой дивизии по одной роте с транспортными средствами и тягачами. Но тут возникла новая проблема – отсутствие квалифицированных кадров для демонтажа. К этим работам военные трофейщики не были подготовлены, гражданские же ведомства медленно включались в дело. И главная тяжесть легла на органы тыла фронта и армий, так это оставалось почти до конца войны.
Какие потери в людях мы понесли во время Висло-Одерской операции? По предыдущему опыту мы ожидали, что потеряем ранеными около 12 процентов от численности личного состава, а фактически с 14 января по 5 февраля их оказалось 6 процентов. Высокие темпы наступления значительно сократили наши потери. Что касается динамики потерь, то здесь повторилась картина, характерная для всех других наших наступательных операций Великой Отечественной войны: наибольшее число потерь наступающая сторона несет при прорыве подготовленной обороны противника, а также на завершающем этапе операции, когда войска достигли заданного рубежа, а противник усилил сопротивление.
Как и следовало ожидать, наибольшие потери понесли армии ударных группировок фронта (5-я ударная, 8-я гвардейская, 1-я и 2-я гвардейские танковые). Наименьшие потери имели 3-я ударная армия (3 процента) и 1-я Польская армия (2,6 процента). Если в начале войны среднесуточные санитарные потери для армий, наступавших на главном направлении, составляли 1–2 процента, то в данной операции они составляли в среднем 0,4 процента.
Искусно организованный маневр медицинскими учреждениями в ходе наступления позволил резко сократить пути санитарной эвакуации и обеспечить лечение большинства раненых на месте вплоть до полного их выздоровления. Свыше 50 процентов раненых возвращены в строй после излечения в границах фронта.
Висло-Одерская операция существенно отличалась от других и по способам выноса раненых с поля боя. Быстро отходивший противник не мог оказывать повторного воздействия огнем на раненого, не мог выводить из строя санитаров-носильщиков. Благодаря опыту и самоотверженности низового звена медицинской службы свыше 80 процентов всех раненых доставлены на полковые медицинские пункты в течение первых трех часов после ранения, а это уже само по себе в огромной степени облегчает возврат человека в строй. Своевременно найти раненого на поле боя, лежавшего в овраге или засыпанного снегом, тут же оказать ему первую доврачебную помощь, бережно доставить на медпункт – в этом благородство опасного труда санитаров, нередко жертвовавших своей жизнью ради спасения товарища.
Висло-Одерская операция показала возросшее мастерство организаторов медицинского обеспечения в дивизиях, армиях, на фронте. Имена начсанармов и руководителей фронтового звена медицинской службы – генералов А. Я. Барабанова, В. И. Попова, Б. И. Ибрагимова, профессоров И. С. Жорова, М. Ф. Рябова, Э. М. Каплуна, Г. А. Знаменского и других – навсегда вошли в историю великой освободительной борьбы советского народа против фашизма.
Висло-Одерская операция завершилась невиданным по масштабу оперативным маневром войск в северном направлении. Разрыв между левым флангом 2-го Белорусского фронта и правым флангом нашего фронта превысил к концу января свыше 100 километров. Еще с 22 января противник начал усиливать свою группировку в Померании. К концу первой декады февраля во вновь созданной группе армий «Висла» под командованием Гиммлера, сосредоточенной в междуречье Вислы и Одера, находилось «16 пехотных, 4 танковые и 2 моторизованные дивизии, 5 бригад, 8 отдельных групп и 5 гарнизонов крепостей. Кроме того, в резерве группы армий „Висла“ имелось 4 пехотные и 2 моторизованные дивизии»[32]32
История второй мировой войны 1939–1945, т. 10, с. 140.
[Закрыть]. Предвидя возможность нанесения противником контрудара по открытому правому флангу 1-го Белорусского фронта, командующий развернул фронтом на север четыре общевойсковые, две танковые армии и кавалерийский корпус.
Если бы с первых дней январского наступления не была восстановлена железная дорога со стороны Демблина с продолжением на север и далее на запад, трудно представить, как можно было бы обеспечить вновь возникший фронт на померанском направлении.
Помогло нам и еще одно немаловажное обстоятельство: если бы Г. К. Жуков не сократил артиллерийскую подготовку на Висле и не сэкономил этим около 30 тысяч тонн боеприпасов, то даже при хорошо работающих коммуникациях нам нечего было бы подвозить. Войска как нашего, так и 2-го Белорусского фронта, отражавшие контрудар противника со стороны Померании, а затем и разгромившие здесь вражескую группировку, израсходовали на эту операцию значительную часть боеприпасов и горючего.
От тыла потребовались новые усилия, чтобы в кратчайший срок пополнить запасы материальных средств и принять другие меры для обеспечения войск в новой операции. Вся сеть военно-автомобильных дорог в направлении Арнсвальде и Пиритца обслуживалась дорожными частями фронта. Более 2 тысяч автомобилей, выделенных из фронтового резерва, доставили на правое крыло за первые пять суток 7 тысяч тонн боеприпасов, а всего до конца операции – 20 тысяч тонн. Часть железнодорожных составов с боеприпасами и горючим, вышедших из Варшавы и Демблина, была переадресована в армии правого крыла. Чтобы ускорить восстановление железной дороги в полосах 47-й и 61-й армий, мы перебросили туда дополнительно железнодорожные восстановительные части, снятые с южных участков фронта. В районах Вонгровеца и Ландсберга в короткий срок развернули фронтовые госпитали на 15 тысяч коек. По масштабу и срокам описанный маневр тыловыми частями и материальными средствами является одним из интересных и поучительных примеров работы фронтового тыла в минувшую войну.
В ходе войны выявилась необходимость учредить подчиненную начальнику тыла инспекцию в составе 10–12 человек. В основном ее задача сводилась к тому, чтобы проверять исполнение важнейших решений Военного совета и начальника тыла фронта по вопросам материально-технического обеспечения войск. В отдельных случаях приходилось поручать инспекторам проверку сведений о крупных недочетах в работе служб тыла фронта или материальных недостачах.
Возглавляли инспекцию опытные юристы. Первым начальником ее на нашем фронте стал полковник Александр Александрович Свиридов, бывший заместитель прокурора фронта.
Его особенно уважали за осторожность, за вдумчивый подход к каждому вопросу и каждому человеку; он никогда не делал опрометчивых выводов, особенно в тех случаях, когда решалась судьба людей. Однако А. А. Свиридов недолго находился на этом посту.
В районе Сохачева случилось так, что 9-й танковый корпус генерала Н. Д. Веденина, преследуя в быстром темпе отходившего противника, оказался далеко впереди войск своей 2-й гвардейской танковой армии. Генерал Веденин радиограммой донес командованию, что дальнейшее движение и маневрирование в тылу противника затруднено якобы из-за ограниченных ресурсов дизельного топлива и просил ускорить его подачу. Командующий фронтом сделал мне по этому поводу замечание и приказал проверить обеспеченность горючим на месте и ускорить доставку его в район расположения корпуса. Отдав распоряжение о направлении в 9-й корпус двух батальонов автоцистерн, я поручил полковнику Свиридову лично возглавить комиссию по проверке, замерить горючее в баках танков.
В то время разрозненные части противника бродили по лесам и дорогам и нередко нападали на наши одиночные автомобили. Свиридов со своей группой на двух машинах благополучно добрался до корпуса и выполнил задачу. Выяснилось, что ни одного танка с пустым баком не оказалось.
На обратном пути по лесной дороге машина Свиридова несколько отстала от впереди идущей, потеряв ее из виду. На развилке дорог стоял знак с надписью «заминировано» и со стрелкой, указывавшей объезд. Двинувшись в объезд, машина через несколько минут попала в засаду к фашистам, которые расстреляли всех, находившихся в ней, и скрылись, даже не отобрав у убитых документы.
Новый начальник инспекции тыла фронта подполковник Б. А. Мариупольский, также юрист по образованию, обладал теми же ценными качествами, что и его предшественник. Инспекция всегда занималась рассмотрением важных вопросов, и я не допускал того, чтобы ее превратили в придаток следственных органов. Жизнь выдвигала множество проблем, и именно для этой цели важно было иметь инспекцию, укомплектованную квалифицированными кадрами разных специальностей. Благодаря помощи инспекторов мы избегали ошибок в оценке отдельных работников.
В ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского фронта несколько раз удостаивались высокой чести – благодарственных приказов Верховного Главнокомандующего и салютов в Москве по поводу освобождения крупных городов. Обычно такой приказ адресовался командующему и начальнику штаба фронта. В нем перечислялись фамилии особо отличившихся командующих войсками и начальников штабов армий, начальников родов войск фронта и армий, командиров соединений и частей. Но совершенной неожиданностью для меня явилось то, что в приказах № 243 от 22 января и № 246 от 23 января 1945 года по случаю взятия городов Гнезен (Гнезно) и Бромберг (Быдгощ) говорилось, что они освобождены и войсками генерала Антипенко. Читаю и думаю: «Не во сне ли это?» Звоню начальнику штаба фронта Малинину:
– Не ошибка ли в газете?
Нет, говорит, не ошибка, пусть знают, что и тыл воевал. Конечно, не только я радовался этим приказам: огромный коллектив работников тыла фронта по праву принял похвалу на свой счет. К сожалению, таких фактов за время войны было только два.
Войска могут обороняться или вести успешное наступление лишь в том случае, если тыл обеспечивает их бесперебойно. История знает немало случаев, когда имущества на фронтовых и армейских складах было вдоволь, а войска испытывали в нем острый недостаток, и это отражалось на их боевой деятельности. Почему? Да потому, что какое-то звено в тыловом механизме не сработало в нужном направлении и ритме, что организация доставки оказалась недостаточно четкой. Боеспособность органов военного тыла достигается предельно четкой слаженностью его механизма, способностью мгновенно улавливать биение пульса на передовой и быстро реагировать на нужды войск. Там, где действуют войска, должен действовать и тыл. Хорошо организованный тыл не боится распутицы, холода, солнцепека и т. д. Наши органы тыла в годы Великой Отечественной войны не раз показывали образцы героизма.
Вот почему упоминание в приказе Верховного Главнокомандующего фамилии начальника тыла фронта было воспринято как признание заслуг многочисленного коллектива работников тыла, не раз жертвовавших своей жизнью во имя победы над врагом.
Завершилась одна из выдающихся стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. С полным основанием историки относят ее к числу классических. Она действительно содержит в себе наиболее характерные черты советского военного искусства.
После войны я около девяти лет преподавал в Академии Генерального штаба, и каждый раз на лекциях по военному искусству передо мной открывалась картина именно Висло-Одерской операции: методика планирования, выработка решения, формы оперативного маневра и т. д. Разумеется, в учебные программы вносятся поправки с учетом новых средств борьбы, но сохранилось главное: стремительность, высокий динамизм, решительность и смелость в достижении поставленной цели. Полководческие качества, проявленные тогда командующими фронтами и армиями, лежат в основе воспитания военной молодежи в наши дни.
У каждого командующего, естественно, был свой стиль работы, свой метод, одному ему присущий образ мышления и оценки явлений. Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков отличался немногоречивостью: лишнего слова, не имеющего отношения к рассматриваемому вопросу, не произносил. Краткость и сжатость формулировок, чисто военная отточенность языка, предельно четкая и ясная постановка задач, способность верно оценить возможности и готовность подчиненного выполнить поставленную задачу – это те особенности, какие я уловил в характере Жукова за время работы с ним. Внешне он был суховат, но когда обстановка позволяла несколько ослабить постоянное напряжение ума и воли, он становился простым и открытым, любил поговорить и о «невоенном», пошутить.
Глубокая внутренняя и внешняя собранность, подтянутость, высокая требовательность, прямолинейность и принципиальность во взглядах и во взаимоотношениях с людьми, железная воля и неспособность подлаживаться под чьи бы то ни было настроения и мнения – это те черты его личности, которые вызывали глубокое уважение к Жукову. Не говорю уже о его выдающемся полководческом таланте.
Мне как заместителю командующего фронтом по тылу особенно дорого было то, что Жуков реально представлял себе сражение в целом, отдельные его этапы, умел рассчитать действия каждой из частей огромной и сложной военной машины. Думаю, меня не обвинят в «ведомственном подходе», если к лучшим качествам Жукова-полководца я отнесу его внимание к безотказной работе фронтового тыла, без которой не сможет выполнить свои задачи ни один из родов войск.
Но я не могу ограничиться этим.
Не претендуя на раскрытие образа Жукова, я все же чувствую себя обязанным написать несколько строк о замечательном человеке, под непосредственным руководством которого мне посчастливилось участвовать в войне и встречаться с которым часто довелось в послевоенные годы. У меня сложились с Георгием Константиновичем самые добрые, товарищеские отношения, не прекращавшиеся до последнего дня его жизни. После войны многие часы проводили мы в беседах о минувших сражениях. Иногда эти беседы носили острый, дискуссионный характер. Мы не раз вместе выступали с докладами перед военными и гражданскими аудиториями, вместе отдыхали в санаториях, встречались с моими земляками, рыбачили, посещали театры, лечились в госпитале. Подружили и наши семьи.
В доме Г. К. Жукова мне чаще всего приходилось видеть его старших дочерей Эру и Эллу, их мужей, детей, его двоюродного брата М. М. Пилихина с семьей. Бывал также и И. X. Баграмян.
18 июня 1975 года под моим председательством в Москве, в Доме Советской Армии, был проведен памятный вечер в честь Г. К. Жукова. На нем с воспоминаниями о прославленном полководце выступили друзья, соратники и видные общественные деятели. На вечере велась стенографическая запись и фотографирование. Командная Академия ПВО страны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова выпустила альбом об этом вечере.
После кончины маршала Жукова наша связь с его семьей не прекращается. Со всеми тремя дочерьми – Эрой, Эллой и Машей – сохранились самые добрые отношения.
Младшая дочь Г. К. Жукова – Маша, – оставшись в 17 лет без родителей, окончила Институт международных отношений. Она вышла замуж, имеет сына Георгия. Старшие дочери Эра и Элла уже имеют внуков.
Зная в подробностях деятельность Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, изо дня в день следя за ходом его мысли, я думал тогда, думаю и теперь об особенностях этого человека и полководца.
Имя Жукова неразрывно связано со всем ходом Великой Отечественной войны, почти с каждой крупной стратегической операцией.
Из истории мы знаем, что когда великая страна попадает в беду, она выдвигает новых полководцев. В июне 1941 года мы еще не знали, кто они, эти полководцы, но что они будут, в этом не было сомнения. И вскоре всему народу стали известны имена Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, И. X. Баграмяна, Н. Ф. Ватутина, Л. А. Говорова, Р. Я. Малиновского, К. А. Мерецкова, А. И. Еременко, Ф. И. Толбухина, И. Д. Черняховского, К. С. Москаленко, В. И. Чуйкова и других.
Полководческий талант Г. К. Жукова стал раскрываться с памятных боев 1939 года на Халхин-Голе. Это было началом становления выдающегося полководца. А какие страницы были вписаны им в военную историю в тяжелые дни сражения за Ленинград в сентябре 1941 года!
Сентябрь – всего один месяц, срок небольшой. Но для Ленинграда он мог иметь роковые, непоправимые последствия. Фашисты уже предвкушали падение города и оповестили о предстоящем уничтожении этой колыбели революции. Население Ленинграда обрекалось на физическое истребление. А после этого гитлеровские генералы намеревались бросить высвободившиеся силы на Москву. Так могло случиться, если бы Государственный Комитет Обороны, ставший на время войны центром, организующим защиту Родины, не нашел верных спасительных средств.
Прежде всего Ставка решила усилить фронтовое и армейское командование на Ленинградском фронте. Туда направили Г. К. Жукова, ибо там решалось многое. С генералом М. С. Хозиным и другими командирами он благополучно перелетел линию фронта и прибыл в Ленинград.
Г. К. Жуков вместе с Военным советом фронта принимал решительные меры, чтобы предотвратить прорыв врага в город Ленина. Каждый час имел решающее значение. Жуков не допускал никаких промедлений, никаких послаблений.
Словно набат прозвучал приказ: «Все на защиту города! Стоять насмерть!» Он помог выкристаллизоваться, организоваться всем волевым усилиям и войск, и жителей города. Ленинградское ополчение, созданное под руководством партийной организации, во главе которой стояли А. А. Жданов, А. А. Кузнецов, пополнило оборонявшие город войска. Все предприятия, какие только могли быть для этого приспособлены, работали на нужды фронта.
Противник утратил свой наступательный порыв и был остановлен. Город выстоял, враг сам перешел к обороне.
В начале октября 1941 года на огромном фронте развернулось наступление немцев на Москву. Этот месяц для Москвы оказался еще более грозным, нежели сентябрь для Ленинграда; здесь не было значительных водных преград, в которые упирались бы фланги, не было Кронштадта и корабельной артиллерии. Да и сил противник имел побольше. И снова во главе обороны Москвы наша партия поставила Г. К. Жукова.
Он оправдал оказанное доверие. Как и оправдывал его в дальнейшем.