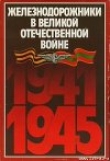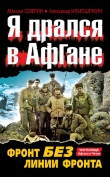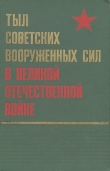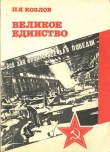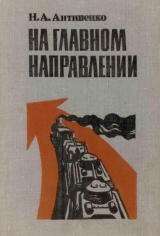
Текст книги "На главном направлении"
Автор книги: Николай Антипенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
На большой бетонированной площадке перед бюстами Героев Советского Союза совершаются торжественные церемонии: принятие присяги, встречи с родителями, всевозможные митинги и др.
Между прочим, командование придает большое значение сравнительно частым встречам воинов со своими родителями. Здесь это не формальный акт. Гостям разрешается посетить казармы, столовую, клуб.
Еще одна любопытная деталь. В ротах заведены общественные библиотеки. При увольнении в запас воин может оставить в дар ту или иную книгу, сделав на ней соответствующую запись. Я просмотрел много таких книг, и меня взволновали искренние, чистосердечные записи, добрые пожелания. Питомцы армии благодарят за учебу, за воспитание, отмечая свои симпатии к командирам. В ротах заведен специальный учет этого подарочного фонда; для чтения книги выдает воинам общественный библиотекарь.
Затем нам предложили послушать выступление солдатского инструментально-вокального ансамбля. Каждый из десяти его участников уверенно владеет своим инструментом, и часто даже не одним, а солисты обладают хорошими вокальными данными. Выявить эти таланты, не дать им застояться, помочь молодым дарованиям совершенствоваться – этим занимаются командиры и политработники.
Да, армия – это подлинная школа жизни. Казалось бы, и срок небольшой – всего лишь два года, – а как велики перемены в молодом человеке! Он мужает, взрослеет. За это время у него происходит заметный качественный сдвиг в выдержке, в поведении, в оценке окружающей действительности, в подходе к решению жизненных задач.
Советские Вооруженные Силы, кроме своей основной священной обязанности – бдительно стоять на страже великих завоеваний Октября, – выполняют одновременно другую, я бы сказал, высокогуманную миссию: они возвращают стране, по существу, нового человека, с более сформировавшимися взглядами, с новым сознанием личной ответственности перед товарищами и перед Родиной. «Юноши приходят в солдатскую семью, не имея жизненной школы. Но возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими школу выдержки и дисциплины, получившими технические, профессиональные знания и политическую подготовку», – говорил товарищ Л. И. Брежнев в докладе на XXV съезде КПСС.
После войны прошли десятилетия. Выросли новые поколения людей, для которых события Великой Отечественной войны ушли в глубь истории. Но они никогда не забудут героических дел своих предшественников, участников кровопролитных сражений с озверелым врагом человечества – фашизмом.
Советским воинам, совсем молодым и давно ушедшим на заслуженный отдых, всегда доставляет радость видеть собственными глазами плоды одержанной военной победы, величественные маяки на пройденном пути, зовущие вперед, к коммунизму.

От Вислы до Одера
С выходом советских войск на территорию сопредельных государств начался новый этап в действиях фронтов, в том числе и в работе тыла 1-го Белорусского фронта.
Польша более пяти лет находилась под оккупацией гитлеровцев. Они не признавали никаких, даже самых жестоких военных законов в поставках сельскохозяйственных продуктов, они просто грабили, убивали за малейшее сопротивление. В то же время фашистская пропаганда внушала польскому населению, что с востока надвигается армия «большевистских грабителей». Попадая на почву, подготовленную за 20 лет антисоветской пропаганды в Польше Пилсудского и Рыдз-Смиглы, эта клевета не оставалась безрезультатной. В такой обстановке от каждого советского воина требовалось глубокое сознание своей ответственности, понимание освободительной миссии Красной Армии.
Особенно большие требования предъявлялись к солдатам и офицерам тыла. Все прекрасно понимали, что нам, работникам тыла, больше всего придется вступать в деловые отношения с польским населением, в первую очередь с крестьянами, для заготовки продовольствия и фуража. Сколько тыловых частей и учреждений, сколько госпиталей придется разместить в польских городах и селах – и всюду при этом надо заботиться о том, чтобы избежать нарушения обычаев и уклада жизни населения. Проще всего отнести все невзгоды за счет войны, но при хороших взаимоотношениях их можно ослабить. Надо сказать, что советские воины по-братски относились к польскому народу.
Помню, в июле 1944 года мы разместились в большой приграничной польской деревне. Комендант отвел для штаб-квартиры начальника тыла фронта дом крестьянина, у которого были жена и больная дочь 20 лет. Наша первая беседа с хозяином дома носила несколько нервный, напряженный характер. На мои вопросы он отвечал сдержанно, уклонялся от разговора о положении дел в его хозяйстве. Оживился хозяин лишь тогда, когда зашла речь о болезни дочери, уже много лет страдавшей каким-то недугом; он израсходовал уйму денег на лечение, но безрезультатно. Как раз в это время к нам зашли начальник санитарного управления фронта генерал A. Я. Барабанов и главный хирург фронта профессор B. И. Попов. Решили в порядке исключения поместить девушку в одном из женских отделений фронтового госпиталя, предупредив отца, что излечить ее мы не можем, так как заболевание хроническое, но обследование проведем самое тщательное, поставим точный диагноз и облегчим ее страдания, насколько возможно.
Девушку госпитализировали. Это произвело ошеломляющее впечатление на жителей села, и добрая весть о нас стала достоянием всей округи. Однако на следующее утро адъютант доложил мне, что пришел хозяин с жалобой на солдат, несущих охрану штаба. У меня екнуло сердце: неужели кто-нибудь нарушил наказы? Прошу хозяина немедленно зайти ко мне. Оказалось, что он принес солдатам огромный кувшин молока, чтобы угостить их, а те наотрез отказались, слишком буквально выполняя наши наставления. Хозяин обиделся. Я разъяснил солдатам, что принимать такие подарки не возбраняется.
На третий день вечером хозяин пришел ко мне и попросил позволения поговорить откровенно. Оказывается, под влиянием фашистской агитации он спрятал своих свиней где-то в поле, в глубокой яме. Теперь же решил привезти их обратно и спрашивал, не случится ли с ним чего. Хозяин сказал, что таких, как он, в селе немало, все боятся возвратить скотину из разных тайников.
Утром следующего дня во двор въехала телега с четырьмя свиньями. И все остальные крестьяне села поступили так же…
Первейшая задача тыла фронта состояла в том, чтобы найти правильное решение продовольственной проблемы. Наши запасы зерна, крупы, картофеля, овощей остались далеко позади и вывезти их оттуда было нелегко, ибо мы еще не восстановили железнодорожные мосты через Буг.
Снабжать наши войска, а также и рабочих промышленных центров приходилось в стране, где не только экономическая, но и вся гражданская жизнь была катастрофически дезорганизована, а население, встречая нас как освободителей, все-таки еще не избавилось от недоверия, привитого антисоветской пропагандой.
Польские левые политические партии, находившиеся при Гитлере в подполье, лишь начинали свою легальную деятельность. Большое влияние на крестьян в то время имели популярные в стране деятели закупочно-сбытовой сельской кооперации. Именно на них и пришлось нам опереться. Правительство Польши в лице председателя Крайовой Рады Народовой Болеслава Берута и председателя Польского комитета национального освобождения (ПКНО) Эдварда-Болеслава Осубки-Моравского в августе 1944 года приняло ряд важных законов об обязательных военных поставках для государства. Среди них «Декрет Польского комитета национального освобождения об обязательных военных поставках зерновых культур и картофеля для государства» и «Декрет Польского комитета национального освобождения об обязательных военных поставках мяса, молока и сена для государства».
Это были документы большого экономического и политического значения. Поскольку они относились к обеспечению продовольствием как польских, так и советских войск, органы тыла и политуправление 1-го Белорусского фронта разъясняли крестьянам принятые польским правительством законы и оказывали помощь местным заготовителям транспортом, тарой и т. д.
По указанию Военного совета я объехал все воеводства и значительную часть уездов правобережной Польши и всюду имел официальные встречи с представителями ПКНО, с местными властями, которые зачастую состояли из членов довоенной так называемой Крестьянской партии или разного оттенка либералов и социалистов, с представителями кооперативной польской общественности. Эти встречи почти всегда завершались полной договоренностью об условиях, количестве и сроках поставок нам продовольствия и фуража.
Мне особенно запомнилась встреча в городе Бяла-Подляска, где присутствовало свыше 150 представителей польской общественности. Выступавшие призывали неуклонно и досрочно выполнить правительственное задание по поставкам для польской и советской армий.
Хлеб и другие продукты стали поступать на приемные пункты. Декреты обязывали крестьян доставлять все собственным транспортом, но мы не отказывали в автотранспорте, если поступала просьба об этом. Однако такое бывало не часто; крестьяне группировали обозные колонны, называя их красными обозами, и под развевающимися красными флагами торжественно следовали на пункты сдачи. Нередко обозы возглавляли руководители местных комитетов национального освобождения.
15 декабря 1944 года в приказе войскам 1-го Белорусского фронта командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков объявил благодарность большой группе генералов и офицеров за полное завершение заготовок продовольствия, которого должно было хватить до нового урожая. В приказе по этому поводу говорилось, что успешное выполнение установленного плана заготовок обеспечено большими организационными мероприятиями фронта, широкой массово-политической работой в гминах и громадах, проведенной политорганами, постоянным тесным контактом представителей советского командования с представителями Польского комитета национального освобождения в центре и на местах, большой организационной и материальной помощью, оказанной фронтом и армиями местным властям и польской кооперации.
Все службы тыла приступили на этом этапе победоносной войны к обобщению опыта, полученного в летней наступательной операции. Работа вылилась в крупное научно-исследовательское мероприятие. Нам было что обобщать: за 40 суток наступления, в течение которых войска фронта продвинулись на запад до 600 километров, тыл выполнил небывалую работу. Нам предстояли еще более серьезные испытания, и мы знали: чем полнее и глубже осмыслим предшествующий опыт, тем лучше обеспечим новую операцию. Сначала в дивизиях, затем в армиях и, наконец, во фронте провели сборы, совещания, конференции почти по всем службам тыла. По медицинской, ветеринарной, автомобильной и дорожной службам продемонстрировали десятки всевозможных изобретений и рационализаторских предложений, большей частью реализованных в ходе наступления.
Опыт летних наступательных операций 1944 года был проанализирован и обобщен в подробных отчетах, составленных специально подобранными работниками служб тыла. Эти отчеты и поныне составляют неоценимый фонд в Центральном архиве Министерства обороны.
С сентября по декабрь велась, таким образом, всесторонняя теоретическая и практическая подготовка кадров тыла к предстоящим грандиозным сражениям.
Важную роль в обобщении и распространении опыта играл «Информационный бюллетень», издававшийся управлением тыла фронта. Хотя фронт находился на территории Польши, мы по-прежнему пользовались услугами типографии ЦК Компартии Белоруссии, которая печатала наш «Бюллетень» до конца войны.
Сложная задача выпала в то время на долю финансовой службы. Мы впервые вступили на зарубежную территорию, где экономический уклад и финансовая система коренным образом отличались от наших. Еще не были найдены пути и формы к определению курса польского злотого в новых условиях, требовалось установить порядок расчетов за поставки для Красной Армии, найти наилучший порядок выдачи денежного содержания военнослужащим при одновременно действующих системах денежных знаков – советских и польских. Еще ряд других вопросов вставал перед нами в этой области в первые месяцы вступления в Польшу, и все они носили острый политический характер. Решением их занимались, конечно, Советское правительство и правительство демократической Польши. Нашим фронтовым финансистам поручили оказывать всемерную помощь польским коллегам. По указанию члена Военного совета фронта Н. А. Булганина этим занялись я и начальник финансового отдела фронта полковник В. Н. Дутов, и нам пришлось немало потрудиться, чтобы внести предложения по всем перечисленным вопросам. Огромный опыт и широкая эрудиция В. Н. Дутова, хорошо знавшего основы государственной финансовой политики СССР и формы международных финансовых связей, принесли немалую пользу в первоначальном налаживании польских финансов.
С небывалой остротой встала перед советским военным командованием задача оказания помощи населению, пострадавшему от фашистского террора. В итоге войны и фашистской оккупации Польша потеряла более 6 миллионов человек. Кроме того, немецко-фашистские захватчики угнали на принудительные работы около 2,5 миллиона человек[26]26
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй мировой войне. Военно-исторический справочник. М., 1972, с. 182–183.
[Закрыть]. Однако ненависть оккупантов к борющемуся за независимость польскому народу проявлялась не только в физическом уничтожении населения, но и в массовом разрушении промышленных и культурных очагов страны. За годы оккупации в Польше было уничтожено 19,6 тысячи (почти 60 процентов) промышленных предприятий, 66 процентов школ и научных учреждений, 55 процентов материальных ценностей в области здравоохранения и 43 процента в области культуры и искусства, до 30 процентов жилого фонда[27]27
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй мировой войне. Военно-исторический справочник, с. 183.
[Закрыть]. Многие города Польши представляли собой груды развалин и пепелища.
В такую разрушенную и истерзанную страну вступили наши войска в 1944 году. С самого начала освобождения Польши Советское правительство и Красная Армия помогали ей всем, чем могли. Тыл нашего фронта оказал значительную помощь молодой Польской республике автотранспортом, горючим, отдельными видами продуктов. Надо было обеспечить одеждой и питанием тысячи сирот, родители которых погибли от рук фашистов. По просьбе Берута и Осубки-Моравского для этих детей фронт выделил муку, крупу, сахар, сгущенное молоко, постельные принадлежности из расчета на годовую потребность.
По личному указанию И. В. Сталина 1-й Белорусский фронт передал из своего парка 500 грузовых машин и несколько сот тонн горючего в распоряжение польского правительства. Это сделать было нам тогда нелегко.
По просьбе Польского комитета национального освобождения Советское правительство полностью обеспечило почти трехсоттысячное Войско Польское вооружением, боевой техникой, обмундированием, военными специалистами и пр.
В то время закладывались прочные основы братских связей с польским народом, укрепившиеся в последующие годы.
По выходе наших войск на Вислу в августе 1944 года началась подготовка тыла к новой наступательной операции.
В официальной литературе и всевозможных учебниках часто употребляется термин «подготовительный период операции». Продолжительность его определяется обычно для фронта 25–30 дней, для армии – 10–15 дней. Так, началом подготовительного периода Белорусской наступательной операции считается для войск 1-го Белорусского фронта 31 мая 1944 года (наступление началось 24 июня). Началом подготовительного периода Висло-Одерской операции считается обычно 28 ноября 1944 года (наступление началось 14 января 1945 года). И в том, и в другом случае имеется в виду дата получения оперативной директивы Ставки о подготовке наступательной операции.
Если даже исключить из рассмотрения наступательные операции первого периода войны, поскольку они отличались от операций, проводимых в дальнейшем, и поскольку в них отсутствовали многие факторы, характерные для длительной войны, то при этом условии для фронтового тыла указанные сроки имеют в известной степени приблизительное значение.
Самым характерным для операций Великой Отечественной войны было массовое разрушение наземных коммуникаций. Трудность восстановления их зависела от числа и протяженности в полосе наступления искусственных сооружений, разрушаемых отходившим противником.
Трудно было фронтовому тылу в ходе наступления, но еще труднее – когда оно завершено. Войска вышли на Вислу, а позади остались разрушенными все мосты и путепроводы. В то время, когда фронт продвигался к Висле, дорожные войска во главе с неутомимым и инициативным генералом Г. Т. Донцом строили мосты через Днепр, Припять, Сож, Березину, Западный Буг и множество малых рек и притоков.
Одной из важнейших задач дорожной службы при подготовке Висло-Одерской операции было строительство мостов через реку Вислу.
Белорусская операция завершилась захватом нашими войсками плацдармов на левом берегу Вислы – магнушевского и пулавского. Первый имел протяженность по переднему краю 45 километров и глубину 18 километров, второй – соответственно 30 и 10 километров. Концентрация личного состава на обоих плацдармах оказалась настолько значительной, что нужно было иметь большое число переправ, чтобы обеспечить пропуск тяжеловесной техники, автомашин, а также маневр войск.
Инженерные и дорожно-мостовые части фронта до начала операции построили через Вислу 13 мостов, в том числе 60-тонных – 6, 30-тонных – 5 и 16-тонных – 2 моста. Длина каждого составляла в среднем тысячу погонных метров, не считая подходов. Некоторые мосты, а также дороги, проложенные к ним, имели важное значение как средство оперативной маскировки. Так, в отчетном докладе начальника тыла 8-й гвардейской армии генерала П. Н. Пахазникова отмечалось, что армия располагала тремя дорогами на плацдарм, две из них проходили лесом, непосредственно примыкавшим к Висле и хорошо маскировавшим эти дороги, третья дорога была открыта. Выход войск на плацдарм, а также подвоз материальных средств осуществлялся по первым двум дорогам, а обратный порожняк шел по третьей дороге, что создавало видимость оттягивания войск с фронта в тыл.
Дорожные войска обслуживали также гражданское население и проходившие отдельные воинские команды; дорожники обязаны были сажать их на попутный порожний транспорт. Всего за три месяца до начала операции перевезли по дорогам нашего фронта до 2 миллионов человек. На дорогах, как это делалось и прежде, были организованы питательные, заправочные и медицинские пункты, созданы витрины, призывавшие всех содействовать окончательной победе над фашизмом.
Наряду с эксплуатацией действовавшей дорожной сети дорожные войска фронта готовились к строительству дополнительных мостов через Вислу в районах Варшавы, Демблина, где еще у нас не было плацдармов и противник занимал противоположный берег. К этим объектам заблаговременно подвозились фермы, балки, рамные опоры и прочие элементы мостовых конструкций.
Командующий фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков находил время, чтобы побывать на строительство вислинских мостов и лично убедиться в их состоянии.
Кроме Вислы в полосе предстоявшего наступления протекали такие большие реки, как Бзура (с притоком Равка), Варта, Одер с широкими поймами, достигавшими местами 5–6 километров.
Висла имеет очень сложный водный режим: весной подъем воды достигает 5–6 метров, река разливается до 6 километров. Дно реки песчаное, подвижное, неблагоприятное для строительства мостов. Ледоход начинается в этом районе рано. Такие условия создают большие трудности для сохранения мостов в любое время года, кроме лета.
В дорожных частях фронта насчитывалось 24 тысячи человек, 344 автомобиля, 287 тракторов, 6100 лошадей, 2930 повозок, 36 дизель-молотов, 15 лесопильных рам. Уровень их технической оснащенности был для того времени сравнительно высокий, но он далеко не отвечал размаху предстоявших работ, и лишь благодаря хорошей организованности, самоотверженному труду и отваге личного состава, а также большому опыту начальников наши славные дорожники с честью выполнили задачи, поставленные командованием.
Еще более трудные задачи встали перед военными железнодорожниками. Если строители автодорог могли в качестве временной меры строить низководные сборно-разборные мосты и обеспечивать пропуск войск и боевой техники, то к железнодорожным мостам предъявлялись во время войны почти такие же требования, как и в мирное время. Правда, восстановленные или вновь построенные на обходах железнодорожные мосты обычно назывались временными, но их «временность» была рассчитана на 10–15 лет. Иначе говоря, чтобы пропускать по 18–20 пар железнодорожных поездов в сутки, требовались надежные мосты.
Степень разрушения железнодорожных мостов обычно была настолько велика, что в редких случаях удавалось хотя бы отчасти воспользоваться старыми фермами и опорами, чаще же всего приходилось строить их заново, на обходе, параллельно. Это ускоряло ввод в эксплуатацию целых направлений, но требовало дополнительных усилий от строителей-железнодорожников.
Как только мы вступили на территорию Польши, перед командованием фронта встал вопрос, перешивать ли польские железные дороги на принятую в Советском Союзе колею (1520 миллиметров) или оставить их на западноевропейской колее (1435 миллиметров).
Разумеется, было бы неправильно все дороги Польши перешивать на союзную колею, ибо тогда пришлось бы отказаться от использования западноевропейских вагонов, платформ и цистерн и целиком перейти на советский подвижной состав, в то время когда растущие потребности нашего народного хозяйства и без того создавали трудности для железнодорожного транспорта. А ведь чем дальше уходили советские войска на запад, тем длиннее становились обслуживающие их магистрали, и если бы мы стали перешивать их на союзную колею, это отрывало бы от наших народнохозяйственных нужд все большее число вагонов и паровозов.
К такому выводу пришло командование 1-го Белорусского фронта после того, как мы подсчитали подвижной состав, оставленный противником в правобережной Польше. Всего насчитывалось 2966 исправных вагонов и столько же неисправных, 20 исправных и 148 неисправных паровозов западноевропейской колеи. Этот подвижной состав был, насколько возможно, использован на внутренних коммуникациях право-бережной Польши. Мы попытались даже на двухпутном направлении от Хелма до Демблина (около 180 километров) эксплуатировать один путь на союзной колее, другой – на западноевропейской и на этом участке оборудовали перевалочные пункты для переброски грузов с одной колеи на другую. На станции Хелм организовали слив горючего самотеком, пользуясь разностью уровней эстакад; одновременно сливали горючее из 6 советских цистерн в такое же число трофейных или польских. Эта операция требовала не менее 12 часов, а фронт должен был получать с направления Ковель – Хелм – Демблин ежедневно 20–25 снабженческих поездов или свыше 1000 вагонов. Чтобы перевалить груз из такого числа вагонов с одной колеи на другую, требовалось большое количество подъемных механизмов и перекачивающих средств, которых фронт не имел.
Опыт эксплуатации железной дороги Хелм – Демблин убедил нас, что организация перевалочной базы, которая обеспечила бы нужды фронта, является задачей государственного масштаба и решение ее одному какому-либо фронту не по плечу. Следовательно, отказываться от перешивки на союзную колею хотя бы одного, наиболее мощного железнодорожного направления было невозможно.
В полосе наступления фронта имелось два основных железнодорожных направления. Первое (северное) – Брест, Варшава и далее Познань, Франкфурт-на-Одере; второе (южное) – Ковель, Люблин, Демблин и далее Лодзь, Калиш. До Вислы оба направления перешили на союзную колею, и в целесообразности этого никто не сомневался. Но как быть с железными дорогами, идущими на запад от Вислы? Исходя из чисто экономических соображений, учитывая возможность захвата большого количества трофейного подвижного состава, их следовало бы оставить на западноевропейской колее. Но в этом случае требовались мощные перевалочные базы, способные ежесуточно перерабатывать по 2000 вагонов (по 1000 вагонов на каждом направлении). Такой возможности мы, к сожалению, не имели.
Позволительно поставить вопрос: можно ли было в то время организовать базы с перевалочной способностью 1000 вагонов в сутки на каждом направлении? Да, пожалуй, можно. Но об этом следовало подумать по крайней мере на полгода раньше, когда наши войска не перешли еще государственной границы. Тогда заблаговременно подтягивали бы к границе (по мере освобождения нашей территории) необходимые средства механизации. При этом, конечно, строить перевалочные базы такой мощности целесообразнее вблизи нашей государственной границы, а не по линии Вислы, левый берег которой находился у противника.
Не знаю, может быть, такой вопрос и сейчас кого-нибудь заинтересует, но в то время, во всяком случае у меня как начальника тыла, он даже не возникал. Мы исходили из того, что обеспечить боевую деятельность фронта может важнейшая двухпутная магистраль Варшава – Познань – Франкфурт-на-Одере, если ее перешить на союзную колею. Командование фронта не считало возможным ставить успех предстоящего наступления в зависимость от трофейного подвижного состава, который еще не захвачен, и от работы перевалочной базы, которая еще не организована. Поэтому Военный совет фронта внес на рассмотрение Государственного Комитета Обороны свое предложение: северное (главное) железнодорожное направление восстанавливать на союзную колею, а южное – на западноевропейскую.
В то время к нам поступало в сутки около 50 поездов с различным военным имуществом, из которых до 15 предполагалось переваливать на западноевропейскую колею, а остальные пропускать без задержки по союзной колее. Важным мотивом в обосновании нашего предложения был характер операции – ее стратегическое значение и высокие темпы наступления. Надеяться на автомобильный транспорт при таком большом объеме перевозок, да еще на растянутых коммуникациях, явно неразумно.
Однако Государственный Комитет Обороны решением от 7 октября 1944 года отклонил наше предложение и обязал готовиться к эксплуатации железных дорог западнее Вислы на западноевропейской колее. Уверенный в своей правоте, Военный совет фронта вновь поставил этот вопрос перед ГКО, добиваясь, чтобы разрешили перешить главное направление на союзную колею. И вновь поступило в ответ решение от 21 ноября, обязывавшее вести восстановление железнодорожного пути и строительство мостов только на западноевропейскую колею. Нам ничего не оставалось, как принять к исполнению это указание.
Как позже мне объяснил тогдашний начальник Центрального управления военных сообщений Красной Армии генерал И. В. Ковалев, Государственный Комитет Обороны имел определенные основания отклонить предложение Военного совета 1-го Белорусского фронта. ГКО считал, что удлинение на запад железнодорожных путей союзной колеи еще более усилит напряженность перевозок внутри страны, особенно в связи с развернувшимися работами по восстановлению народного хозяйства. И без того на нашем железнодорожном транспорте задачей номер один являлось достижение максимальной оборачиваемости подвижного состава. Но мы-то исходили из потребности фронта.
Итак, фронтовое управление военно-восстановительных работ № 20, во главе которого стоял Герой Социалистического Труда генерал Н. В. Борисов, получило от Военного совета фронта задачу: всемерно развивать пропускную способность железных дорог, подходивших к Висле с востока, и одновременно готовиться к восстановлению железнодорожных мостов и путей от Вислы и далее на запад на ширину западноевропейской колеи.
В составе железнодорожных войск фронта насчитывалось тогда 26 255 солдат, сержантов и офицеров, сведенных в четыре бригады. Во главе бригад стояли такие крупные специалисты и организаторы, как генерал-майор технических войск В. П. Тиссон (1-я гвардейская железнодорожная бригада), генерал-майор технических войск Т. К. Яцыно (5-я Краснознаменная железнодорожная бригада), генерал-майор технических войск В. И. Рогатко (29-я железнодорожная бригада), полковник Д. Г. Васильев (3-я железнодорожная бригада). Кроме того, было два мостопоезда (№ 13 – командир инженер-полковник И. Л. Москалев и № 7 – командир инженер-майор Н. П. Артеменко).
По тому времени и железнодорожные войска, и спецформирования НКПС были хорошо технически оснащены и материально обеспечены; они имели богатейший опыт нового строительства и восстановления. Достаточно сказать, что именно эти войска восстановили в 1943 году низководный железнодорожный мост через Днепр у Киева в рекордно короткий срок – всего за 8 суток. С сентября по декабрь 1944 года они восстановили 2803 километра пути, 10 770 километров линий связи, построили 24 больших и малых моста.
Но не только этим занимались тогда железнодорожные войска. Большим бедствием для фронтовых железных дорог было отсутствие топлива для паровозов. Его приходилось заготовлять самим. И вот железнодорожные и дорожные войска за короткий срок заготовили для Ковельской и Брест-Литовской железных дорог 542 тысячи кубометров дров. Дровяное отопление – не уголь, но мы и ему радовались: все же поезда двигались, не стояли на месте.
В восстановлении железных дорог и мостов значительную помощь оказало нам польское население. В иные дни выходило на работу до 10 тысяч польских граждан со своими инструментами и тягловой силой, соблюдая высокую организованность и дисциплину.
Военный совет и управление тыла фронта оказывали самую широкую помощь военным железнодорожникам, не считаясь иногда с некоторыми формальными ограничениями, связанными с их положением «прикомандированных». Им отпускалось дополнительно обмундирование, продовольствие, автотранспорт, горючее и др. Кроме того, в помощь железнодорожным войскам выделили за счет инженерных войск фронта 3500 человек, 2 буксирных катера, 40 понтонов грузоподъемностью 10–15 тонн каждый и другие средства.
Военный совет фронта утвердил план восстановления на западноевропейскую колею северного (главного) направления – Варшава, Лович, Кутно, Познань протяжением свыше 300 километров и южного – Демблин, Радом, Скаржиско-Каменка, Томашув, Лодзь, Зданьска Воля, Калиш протяжением свыше 400 километров. Темп восстановления железных дорог планировался 10 километров в сутки, а при незначительных разрушениях – 25 километров в сутки. Тогда же решили построить две перевалочные базы: одну в районе Варшавы, другую в районе Демблина с пропускной способностью по 400–500 вагонов в сутки каждая. Начало строительства баз определялось моментом освобождения от противника противоположного берега Вислы. На восстановление главного направления намечалось выделить две трети сил, а южного – одну треть.