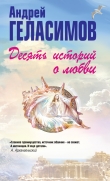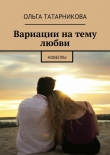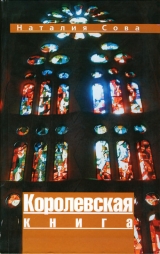
Текст книги "Королевская книга"
Автор книги: Наталия Сова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Вы изображали… то есть играли роль этого персонажа и говорили от его имени? Ваша контора, значит, и такие услуги предоставляет? Потрясающе!
– Я никого не изображал. Я устроил встречу, – возразил он терпеливо.
Я понимающе закивала: каждый имеет право на профессиональную лексику. Серафим глянул пристально:
– Но бывает и совсем другая работа, достаточно редко, – в случае, если автор принял решение бросить начатый текст. Или уничтожить недоделанную рукопись.
– Не поняла, – протянула я. – К вам и такие обращаются? Мол, извещаю вас, что много тут чего написал, но заканчивать не собираюсь?
– Такие не обращаются. Мы находим их сами.
Сердце неистово заколотилось, – казалось, его стук слышен не только Серафиму, но и соседям за пластиковой переборкой. Ну и крепкий же у него кофе, подумала я. Серафим, соблюдая правила железнодорожного этикета, предложил мне в свою очередь рассказать о том, чем я занимаюсь в жизни.
– Занимаюсь в смысле работы? Ну… я работаю в Конторе. Есть такая в Перми Контора. Маленькая – пятнадцать дам предпенсионного возраста. Я им перевожу на русский сообщения с экрана компьютера и слежу, чтобы они не вставляли дискеты задом наперед, а потом не вытаскивали их ножницами… Ну и… собственно, все.
– Постойте, вы же мне сказали, что вы музыкант.
– По образованию – да.
Серафим покачал головой. Я улыбнулась.
Появление Конторы в моей жизни было вопиющей случайностью. Полгода назад я со словами: «Музыку ненавижу с детства!» (словами лукавыми и не раскрывающими истинную суть моего поступка) – уволилась из музыкальной школы, где преподавала всю свою сознательную жизнь, перестала писать песни, выступать с концертами и подрабатывать пением в церковном хоре. Чтобы завершить картину, устроилась на первую попавшуюся работу, где с переменным успехом вливалась в коллектив и постигала диковинные законы циркуляции бумаг в природе. Каждое рабочее место было компьютеризировано, как и положено в стране наступившего двадцать первого века, но это отрадное обстоятельство омрачалось упорным нежеланием женщин освоить хотя бы самые основные операции. Они полагали, что для произведения операций в Конторе есть оператор (я), которому за это платят деньги. Посему мои деликатные попытки обучить их были обречены на провал с самого начала. С тех пор как я устроилась в Контору, на вопросы моих друзей о работе отвечала нечто лаконично-невразумительное, работы своей стыдилась и никак не могла понять, что именно не позволяет мне уволиться.
– Итак, вы оставили все свои честолюбивые планы, прекратили всяческое движение, затаились, превратились в серую мышь и ведете ординарнейшую, бедную событиями жизнь.
– Что-то вроде того.
– Вы живете одна?
– Теперь уже – да.
Полгода назад, придя домой (в оплаченную до марта квартиру), я обнаружила на полу посередине комнаты наш магнитофон, а на нем записку: «Включи меня». Включенный магнитофон запел одну из моих любимых песен: «В далеком странствии твоем ты пролетала сквозь дома…» – и второй куплет: «Я в одиночестве моем садился в десять поездов…» Улыбаясь, я прошла по квартире, странно пустой в весенних сумерках. И осознание того, что пуста она по причине отсутствия мужа и его вещей, пришло одновременно с третьим куплетом: «Так жили мы с тобой вдвоем в уютном гнездышке своем: ты – в дальнем странствии твоем, я – в одиночестве моем».
Вот так – никаких сцен, обвинений и угроз. Муж тихо исчез, предоставив Алексею Кортневу в высокохудожественной форме объяснить мне, почему он это сделал. (В общем-то за подобные находки он мне и нравился.) Он звонил мне потом несколько раз – то из Самары, то из Одессы. В принципе мы остались друзьями – такими примерно, как юные пионеры, дружившие по переписке с пионерами братских социалистических стран. Дальнейших попыток наладить личную жизнь я не предпринимала.
Серафим выслушал мой рассказ со вниманием.
– Дальнейшая ваша задача – свернуться в точку и стать совершенно незаметной, – подытожил он.
Несколько уязвленная таким резюме, я вынуждена была признать, что тут Серафим прав:
– Если хорошо подумать, то да. Почему-то мне кажется, что сейчас так будет лучше.
– В таком положении иных мыслей возникнуть и не может, – сказал Серафим. – Но поддаваться им не следует. Иначе неизбежно возникнет следующая мысль – желание не быть вообще. А это опасное желание. Поскольку имеет тенденцию к исполнению.
Не успела я открыть рот, чтобы осведомиться, что это у меня за положение такое, как Серафим быстро спросил:
– С вами не происходило ничего необычного?
– Например?
– Ничего странного? Из ряда вон выходящего?
– Не было ничего такого, – подумав, ответила я. Мощное сердцебиение ощущалось теперь и в солнечном сплетении, и в горле, и в висках. И снова мелькнул знакомый страх, который являлся всякий раз, когда я открывала пахнущие пожарищем страницы.
– Все как обычно? – не унимался Серафим.
– Да.
– Это хорошо.
– Ну вот вас встретила… – добавила я. – По-моему, вы очень необычный человек.
– Я рад знакомству с вами, – мягко улыбнулся он.
– А какова ваша специальность, господин советник? Кто вы – историк, филолог?
И Серафим ответил:
– Я даймон.
Поездное радио захрипело, закашляло и смолкло. В наступившей тишине (если можно назвать тишиной лязг и дребезг несущегося во весь опор вагона) я прошептала:
– К-кто?
О даймонах мне было известно немногое. Прежде всего – цитата: «Романы диктуют даймоны. Поэтому бессмысленно спрашивать писателя, что он хотел сказать своим произведением, – если бы даймон мог, он бы выразился яснее». И еще – что-то полузабытое из «Розы мира», мельком пролистанной в юности, столь ранней и глупой, что феерический смысл прочитанного угас, едва забрезжив.
– Даймон. Не пугайтесь. Так называется моя должность в нашей фирме. Претенциозно, граничит с дурновкусием, но что поделать – говорят, наиболее точно выражает суть дела.
Разговаривая, Серафим сосредоточенно рылся в сумке, похожей на списанный реквизит исторического фильма, – кожаной, с многочисленными завязками, тиснением на широком ремне, со зверски распоротым и аккуратно зашитым боком. Наконец вынул толстую записную книжку, переплетенную в потертый сафьян:
– Небольшой подарок вам. Напишете здесь конспект вашей сказки.
– Я не пишу от руки… – Я вспомнила похороненную в кладовке «Общую тетрадь», которая еще с древних, докомпьютерных, времен содержала имена героев, мимолетные идеи и события в нескольких вариантах. И еще несколько «Общих тетрадей», обрывки отрывков, увядшие, мятые листочки, исписанные вытянутым от смущения почерком.
Записная книжка с глухим шлепком легла на столик передо мной.
– На сей раз это будет необходимо. – Серафим аккуратно положил рядом полупрозрачную шариковую ручку.
– Почему?
– Потому что вы, Ирина, оказались в очень непростой ситуации. И втянули в нее несметное множество людей… Я знаю, что вы ничего не понимаете и не собираетесь ничего делать, пока вам не объяснят, что происходит. Но время так дорого, что я прошу вас начать записи сию минуту. Чем раньше вы начнете, тем большего количества неприятностей вам удастся избежать.
Я вытянулась и отстранилась. Надо сказать, никакой «непростой ситуации» я вокруг себя не чувствовала, а уж «несметное множество людей» втянуть никуда не могла и подавно – круг моих знакомых в последнее время сузился необычайно. Сообщив об этом Серафиму, я услышала в ответ:
– Ирина, я не хочу потратить предстоящую ночь на долгий кольцеобразный разговор, по окончании которого вы скажете, что никакой непростой ситуации не ощущаете, следовательно, делать ничего не надо. Поэтому прошу вас… – Он показал глазами на записную книжку.
– Шутите, – безнадежно предположила я.
Он покачал головой, достал из кармана куртки «Кэмэл» и китайскую зажигалку.
– Начинайте, Ирина. Несколько простых условий – из книжки листы не вырывать, ничего постороннего не писать, записанное не переделывать. Чистовой конспект.
И удалился с сигаретами в тамбур.
Я проводила его взглядом, раскрыла книжку. Шероховатые листочки цвета слоновой кости пахли кориандром и жимолостью. С удовольствием перелистывая их, я наткнулась на полустертую карандашную надпись – наискосок, остро и стремительно: «Правильно ждать – значит умереть на какое-то время и ожить, когда произойдет то, чего ждешь».
Поезд трясло, начальные страницы я исписала прыгающим и крупным леворуким почерком, потом к окну подъехал светящийся вокзал – стоянка двадцать минут – и Серафим принес мне с перрона ванильное мороженое, лизнув которое я поняла, что в Перми завтра выпадет первый снег.
В вагоне приглушили свет, но лампа в нашем купе горела ярче остальных, а Серафимов кофе не оставлял ни малейшего шанса уснуть. Сам Серафим сидел напротив, прямой и ясный, как свеча, его молчание и спокойствие окутывали нас, защищая от всего мира. Слова лились непрерывным потоком, и не вдохновение это было даже, а что-то другое, более обыденное и прочное. Вот так бы и жить, и ехать под светлым взором, покрывая листы судьбы бесконечным узором.
Из желтого полумрака появилась проводница.
– Ой, лампочка, что ли, сломалась? – озадаченно сказала она, глядя в потолок.
– Совсем наоборот, – ответил Серафим.
– А чего не спите? Три часа ночи…
Я наконец почувствовала, как устала.
– Вообще-то мне тоже не спится, – продолжала она. – Вы меня извините, Серафим Александрович, я что хотела спросить… Сигаретки есть у вас?
Серафим протянул разулыбавшейся проводнице пачку, я сунула книжку под подушку и, нырнув под тощее одеяло, отвернулась к серому пластику.
Перед самым погружением в тряский, гремучий полусон перед моими глазами прокрутился небольшой сюжетец. Седой мэтр, автор одного-единственного бестселлера, звонит своему даймону спустя много лет, после того как бросил писательство, почивая на лаврах. Голос автоответчика: «К сожалению, меня нет дома, улетел отдыхать на Сириус, вернусь лет через двадцать. Оставьте сообщение…» У писателя нет двадцати лет, но есть задумка, блестящая идея, зерно смысла, из которого можно вырастить грандиозное разветвленное повествование. Несколько дней он одиноко и бесплодно мучается над листом бумаги, зачеркивает, исправляет, снова и снова переписывает первый абзац, переполняясь темным отчаянием. И этот писатель я, и я пишу на очередном исчерканном листе, поверх каракулей и помарок, объявление в местную газету: «Перспективный автор рассмотрит предложения от даймонов фэнтези. Даймонам детектива, эротики и женской литературы просьба не беспокоиться».
Я проснулась в сказочном снежном свете и, быстро прикрыв глаза, подумала: что, если Серафим наряду с пожилым писателем просто приснился мне? Осторожно приподняв голову, и вправду никого не увидела. Но в уголке, не замеченная сразу, притаилась средневековая сумка, а вскоре появился и ее умытый хозяин с полотенцем, бритвой и зубной щеткой.
За окном сияло утро, холодное и белое, как его улыбка. От московских дождей остались только воспоминания. Ночью мы въехали в зиму, и теперь мчались средь полей туда, где горизонт сливался с бледным небом, где ждал нас суровый дымный город на семи холмах и восьми оврагах.
Мне мил первый снег – будто в этот день сходит на землю тысяча ангелов в ярких белых одеждах, залечивая рваные раны земли, превращая грязь в чистоту и протягивая каждому белый лист как шанс начать заново – с неизбежными ошибками и кляксами, но и с новой надеждой.
Серафим смотрел в окно, где провода чертили бесконечные параллельные линии, его лицо светилось отражением снега. Теперь уже казалось, что мне приснился наш разговор и ночное бдение. Я сунула руку под подушку, наткнулась на теплый сафьян переплета и облегченно вздохнула.
– Доброе утро, – сказал Серафим.
– Неужели вы так и не объясните, что происходит?
– Не вижу смысла пугать вас неведомыми опасностями, которых вы, как я убедился, можете с успехом избежать.
Нашарив в сумке косметичку и полотенце, я прошла по просыпающемуся вагону. Из зеркала на меня глянула черноглазая женщина с чуть впалыми щеками, похожая на утомленную безумной ночью француженку, загадочную и счастливую. Я взъерошила челку и подмигнула ей. Умывалась, причесывалась и красилась неторопливо и тщательно – дверь туалета то и дело сотрясалась, за ней слышались возгласы, свидетельствовавшие, что открывать небезопасно, ибо страждущие, ринувшись к заветному отверстию, растопчут меня подобно стаду бешеных слонов. Однако стоило мне выйти, как несколько мужчин в обвисших тренировочных костюмах разом замолчали, расступились и машинально подтянули животы.
– Ну вот, кажется, вы начинаете принимать свой истинный облик, – тихо произнес, увидев меня, Серафим.
– Что-что вы сказали?
– Вы прекрасно выглядите, Ирина. Запомните себя такой. Это ваше настоящее лицо, я не советую вам больше менять его на какое-либо другое. В особенности на то, которое было у вас в Москве на проспекте Мира…
Я рассмеялась. Последний день дождя всегда самый трудный в году, а первый день снега – самый легкий, но Серафиму необязательно об этом знать.
Завтракали весело, принесенный проводницей в раритетных подстаканниках чай плескался и дрожал, улыбка Серафима встречалась с моей, ничего не значащие слова о погоде и скорости поезда наполнены были потаенными смыслами, расшифровать которые можно было по узору на радужке глаз каждого из нас. Мне было до странности не важно, какие опасности могли мне угрожать, какую роль в их предотвращении играл загадочный «Международный центр содействия культурному развитию» и в чем состояло профессиональное предназначение даймона Серафима Александровича Пичугина. Важным был лишь сам факт существования Серафима и его присутствия рядом со мной.
– Продолжим? – предложил он, и я вынула книжку из-под подушки.
Тишина, неловкий, спотыкающийся узор слов на желтоватой бумаге, снежные луга за окном, удивительное молчание Серафима, – казалось, это длилось не более получаса. Но внезапно Серафим сказал: «Мы подъезжаем», и замелькал, грохоча, Камский мост, меж косыми перекладинами которого хмурилась тяжелая, серая вода, и завиднелся черно-белый город, уходящий вдоль берега вправо и влево за пределы видимости. Маленький мальчик у противоположного окна потрясенно спросил папу: «А Пермь что, больше Москвы?»
– Ирина, – сказал Серафим, – мы будем видеться часто…
– Я надеюсь.
– …но стоит подстраховаться. Вот средство экстренной связи, – он вложил в мою ладонь серебристый сотовый. – Там в списке только один номер, мой. Звоните при малейшем затруднении.
– Слишком дорогой подарок… – Я повертела телефончик в руке.
Серафим только приподнял бровь.
– Спасибо. А как же ваша работа? Вы говорили, что будете страшно заняты.
– Ирина… – Серафим с детским изумлением склонил голову к плечу. – Разве вы до сих пор не поняли? Я приехал в Пермь ради вас, и занят я буду исключительно вами.
– На самом деле я поняла. Хотела убедиться окончательно…
На перрон вышли вместе. Серафим нес мой саквояжик и держал меня за руку, словно я была маленькой девочкой и могла потеряться.
Привокзальная площадь приняла нас в натруженную, грязную ладонь. Замерзшие таксисты, зазывающие пассажиров, веселые мужики бодрыми голосами предлагающие купить почему-то дрели и болгарки. Пестрый киоск, исторгающий истошную песню с часто повторяющимся словом «воровайки», гроздь монтажников, облепившая железный остов магистрального рекламного щита. Осторожные, вкрадчивые снежинки, морозно-выхлопной запах города, милая родина-зима.
– Такси для влюбленных! – Выскочивший перед нами на дорогу парень был одной сплошной улыбкой.
Мы с Серафимом переглянулись.
– Я остановлюсь в «Замке», – сказал Серафим. – Один мой хороший знакомый мне рекомендовал эту гостиницу.
– Это в Камской долине, а мне совсем в другую сторону…
– Не важно, – сказал Серафим.
Парень подмигнул нам, и я улыбнулась в воротник куртки. Серафим открыл передо мной дверцу машины.
Я перешла на шепот:
– А этот ваш знакомый тоже… – я проглотила слово «даймон», – работник вашей организации?
– Нет, он владелец сэконд-хенда. Итак, где и когда мы встречаемся?
– Завтра выходной…
– Завтра, замечательно. Днем запишете продолжение истории, а затем – легкая вечерняя прогулка. Я заеду за вами в шесть. Покажете мне город?
– Конечно.
Мы говорили тихо-тихо, почти касаясь друг друга. Парень за рулем поглядывал в зеркало с живейшим интересом.
– Из свадебного путешествия? – не выдержал он наконец.
– В кустах гаишники! – ответил Серафим.
Парень дернулся и больше не оборачивался, сосредоточенно следя за дорогой.
Выходя у своего подъезда, я хрустнула льдом. Серафим опустил стекло и прокричал из медленно разворачивающейся машины:
– Ирина, ни в коем случае не выключайте телефон!
Я кивнула, помахала ему вслед и некоторое время стояла, улыбаясь, у треснувшей лужи, созерцая белую молнию, остановившуюся на поверхности льда.
2
В тот вечер огромная лужа у ворот постоялого двора «Полтора орла» впервые покрылась льдом. Вот и осень кончается, подумала Арника, стоя под облачным небом. Темным северным краем небо навалилось на дальние холмы, за которыми раньше был город Изсоур. Здесь, близ Сырого Леса, три большие дороги – из Антара, из Кардженгра и из самой столицы – превращались в одну, ведущую мимо ворот постоялого двора в этот великий город. С тех пор как Изсоура не стало, дороги год от года все больше зарастали бурьяном и постепенно сливались с окружающими пустошами. За все лето здесь проехало лишь два обоза – последние уцелевшие жители покидали эти места, двигаясь на юг, на поиски лучшей жизни. Отсюда были хорошо видны руины замка Иволин на самой высокой из вершин и пепелище, оставшееся от деревни.
Арника присела на корточки, ненадолго прижала ко льду палец и стала рассматривать возникшую маленькую луночку. Странно, думала Арника, почему в мире все гораздо легче ломается, нежели создается. Чтобы исчез след минутного прикосновения, воде и холоду придется трудиться целую ночь. Чтобы заново отстроить сожженный в одну ночь замок, понадобится, наверное, больше года. Может быть, где-нибудь далеко-далеко есть на свете такие края, где разрушать так же трудно и долго, как у нас – строить и чинить…
Стало зябко, и Арника привычным движением закуталась в длинные пушистые волосы. Ей летом исполнилось двадцать, но, так как никто к ней ни разу не сватался, она носила вышитую ленту на лбу и никогда не заплетала кос.
Однажды в раннем детстве она вдруг заметила, что не может быть вместе с другими людьми. Что-то отделяло ее от них, что-то прозрачное, но непреодолимое. И только совсем недавно Арника обнаружила, что пространство вокруг нее плотнее, чем везде. Скорее всего, оно сжато так, что один шаг вмещает в себя тысячу шагов и люди на самом деле гораздо дальше от нее, чем кажется.
Именно потому никто никогда не слушал ее речей, не приглядывался к выражению ее лица. Она старалась подходить к людям как можно ближе, но расстояние все равно оставалось очень большим. Сами люди этого не замечали, говорили с ней из своего дальнего далека, не заботясь о том, поймет Арника или нет. Расстояние часто искажало смысл их слов, а они сердились, порой даже кричали на Арнику, будто она была виновата.
Совсем иначе было с вещами. Вещи были рядом, их речи Арника всегда понимала. Цветные нитки говорили ей, как именно они хотят лечь на ткань, она всегда исполняла их просьбы, и лучше ее вышивок не было во всей округе. Блюда для особых гостей готовила только Арника. Выуявь тоже неплохо стряпала, но не знала, что обычно овощи и крупы сами говорят, как с ними нужно поступить, чтобы получилось вкусно. По скрипу ворот Арника могла определить, нравятся ли им въезжающие гости, а по едва слышным звукам из кладовой – догадаться, какое настроение сегодня у Закаморника, маленького существа, которого, кроме Арники, никто не видел.
Она могла беседовать с лесом и его существами так же непринужденно, как с домом и его вещами. Она знала, в какой из последних дней зимы начинает оттаивать ветер, и умела ловить в осенних лужах отражения пролетающих птиц.
Наступили сумерки, и глаза Арники поменяли цвет с голубого на серый. В сумерках она видела гораздо лучше, чем другие, – наверно из-за того, что мир вокруг менял цвет одновременно с ее глазами. Никто бы не разглядел цепочку всадников, движущихся по темному склону дальнего холма, как раз там, где раньше по вечерам мерцали тусклые огоньки деревни. А она разглядела. Один стремительно летел впереди, и остальные, усталые, изо всех сил торопились следом. Они спускались прямо в лес, где жил снегль. Конечно, они ничего не знали о снегле, иначе бы ни за что не поехали через лес сейчас, поздней осенью, да еще в сумерки, когда снегль, говорят, выходит на дорогу и, задрав клыкастую морду, ждет Первый Снегопад. А когда дождется, сразу же меняет цвет с дымчатого на светящийся белый. Арника проследила, как всадники скрылись среди облетевших, подернутых серебристым туманам деревьев, и вернулась к своему занятию.
Десять аккуратных луночек красовались на льду, располагаясь по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. В центре Арника задумала растопить самую главную лунку, такую, чтобы в нее вместилось отражение синицы. Палец совсем онемел и почти не почувствовал, как она сунула его в рот и слегка покусала.
– Симзуть! А ну в дом! – На пороге у открытой двери стоял брат Арники. – Чего ты там раскорячилась?
Арника сосредоточенно грызла палец. Она постоянно давала понять брату, чтобы он не называл ее чужим именем. Но брат был самым далеким из всех и никогда ее не понимал.
– Симзуть! – Арника знала, что имя человека заключено в его голосе и запахе. По голосу и запаху можно легко узнать, как звать любого. Имя брата было Наледь. Но в роду Арники все женщины носили имя Симзуть, а все мужчины были Мзымвиками. И выходило, что она Симзуть Мзымвикна, сестра Мзымвика Мзымвикича. Она никогда не откликалась на это имя, но упрямый брат не оставлял надежды приучить ее.
– Да что это за девка, – с досадой произнес он и начал спускаться с крыльца.
Мзымвик был хром, правая нога все время подламывалась, на краткий миг он начинал падать, но вовремя подставлял другую ногу. Арника всегда зачарованно наблюдала эту череду незаконченных падений, пока у нее не начинала кружиться голова. На этот раз она нарочно на брата не смотрела, до тех пор пока он не встал прямо над ней.
– В дом, говорю, иди! Темнеет.
Глаза Мзымвика никогда не менялись, оставаясь прозрачно-голубыми. Его бледное лицо в сумерках казалось тоже почти прозрачным и ненастоящим: поджатые губы, острый нос, редкие светлые волосы, слипшиеся на лбу.
– Поднимайся, поднимайся! А то придет фырлок и утащит тебя в лес!
У брата все было ненастоящим, даже гнев. И пугал он не взаправду: придумывал, что фырлоки злобные, и Арника им зачем-то очень нужна. Она раньше видела фырлоков, угрюмо поедающих землянику на опушке, они были почти как люди, лохматые, грязные, но вовсе не страшные. Она подозревала, что Закаморник тоже фырлок, только маленький и домашний. Говорили, что фырлоки живут только по соседству с людьми, наверное, это было правдой – после того как Иволин и Подхолмье сожгли, лесных фырлоков не стало. А Закаморник остался, правда, сделался совсем тихим и лишь иногда печально шуршал в мешке с луковой шелухой.
В прошлом богатый постоялый двор «Полтора орла» принимал столько проезжающих, что пришлось возвести второй этаж с комнатами для знатных гостей и пристроить кое-где клетушки для нищих странников. Комнат было восемнадцать, и убранство каждой ни в чем не повторяло остальные. В обширных подвалах всего было вдоволь, и каждый мог заказать здесь обед по своему вкусу и кошельку. Хозяину ничего не стоило поднести антарским рыцарям роскошного флангерского вина, угостить купцов из Кардженгра изысканными пряными блюдами, монахам с Порубежья предложить особые постные яства под названием «Трапеза отшельника», а непритязательным горожанам – хорошо прожаренную говядину и пиво. По вечерам гостей развлекал пением и музыкой Кривой Кыварт, лучший флейтист и певец этих краев, живший в «Полтора орла» на постоянном довольствии. Кривого Кыварта приезжали послушать из самого Изсоура. Говорят, своим пением он однажды заставил улыбнуться королевского посланника, а ведь всякому известно, что королевские посланники не улыбались никогда.
Теперь огромный дом, чудом уцелевший после разора, учиненного в этих местах армией герцога Хэмга, был пуст и темен. В единственной теплой комнате на нижнем этаже жил хозяин Мзымвик Мзымвикич с женой Выуявью и Арника. С наступлением заморозков в комнату взяли еще и козу, которую Выуявь не любила и называла скотиной. Тут же отирался тощий кот, неизвестно чем питавшийся, потому как мыши в доме перевелись давным-давно.
Окна Мзымвик заколотил досками и законопатил, чтобы не терять тепла. Выуявь ворчала, что из-за этого темно как в погребе и тратится много лампового масла. Но дров в печь она не жалела, топила так, что воздух становился густым, как теплое молоко. Выуявь в одной рубахе садилась к зеркалу, ставила перед собой лампу, распускала длинные черные косы и долго расчесывала их, пристально глядя на свое отражение. Драгоценное зеркало, сделанное в Кардженгре и купленное Мзымвиком на давней ярмарке, с невиданной точностью и ясностью отражало скуластое лицо хозяйки, складки в уголках рта, широкие, сросшиеся брови, огонек, пляшущий в глубине зрачков и спрятанную во взгляде тоску.
В прежние времена Выуявь слыла женщиной знающей и, случалось, избавляла поселян от хворей и несчастной любви. Правда, обращались к ней редко, она, хоть денег за помощь не брала, была слишком неприветлива.
А потом грянуло Великое Заклятье, и ни в чем больше не осталось силы – ни в земле, ни в людских душах, ни в древних заговорах. Выуявь теперь почти ничего не умела, но продолжала в положенное время собирать и сушить травы, ставить тайные знаки на новых вещах и раз в месяц обходить дом с горшком, где тлели высушенные коренья.
– Старею, – сказала Выуявь зеркалу, – а детей нет.
– И слава богу, – торопливо отозвался Мзымвик. – Были бы, так померли б давно. А хочешь, вон сестра моя, чем не дитя?.. И в ответ слова не скажет… – зачем-то добавил он и покосился на Арнику.
Она сидела на постели, поджав ноги. На плече у нее, накрытый облаком растрепанных волос, примостился кот. Оба с одинаковым выражением, не мигая, смотрели на огонек.
– И ведь звал меня с собой Кмыт, когда обоз мимо проезжал. Не пошла, тебя пожалела. Дура… – тихо говорила Выуявь, глядя в глаза своему отражению.
– Думаешь, в другом месте лучше? А я тебе говорю – везде одно и то же. – Голос Мзымвика звучал виновато.
– На сто верст ни души человеческой, только ты, постылый, да полоумная эта. Удавлюсь, – ответила Выуявь.
Арника не знала, почему Мзымвик так и не решился уехать вместе со всеми. Да он и сам толком не знал – говорил только, что теперь везде одно и то же и от судьбы не уйдешь, потому что Великое Заклятье действует повсеместно и дорог не разбирает.
Время разделилось на две части – то, что было до Великого Заклятья, и то, что после. До Заклятья была война, ничем не отличавшаяся от всех других войн на этих землях, – разве что была она кровопролитней прочих. У Западной окраины ударили друг на друга четыре армии, да так, что трещины пошли по всей империи и раскололась она на неравные части. Каждый государь крепко держал в кулаке осколок и не решался протянуть руку за другим, чтобы не выпустить свой. Герцог Хэмг первым сделал это и отобрал у лорда Гарга Изсоур, Иволин и все, что лежит ниже по течению рек. Герцог Хэмг держал при войске троих колдунов. Говорили, что Великое Заклятье – дело их рук. Выуявь возражала – не под силу даже дюжине колдунов так все на свете испортить: земля не родит, в Сыром Лесу не пойми что творится, народ смурной стал – ни работы, ни веселья не хочет. У нее на этот счет были свои догадки: ни герцог Хэмг, ни колдуны его тут ни при чем, а Великое Заклятье наслал неведомый враг задолго до войны, и действовало оно постепенно, исподволь, по этой причине и война случилась, и много чего другого стряслось.
Но теперь рассуждать о причинах стало не с кем – к осени обнаружилось, что единственный населенный дом в иволинской округе – «Полтора Орла», и кроме троих его обитателей никого больше не осталось.
В полночь Мзымвик проснулся от криков и тяжелых ударов в ворота, вскочил и на мгновение провалился во мрак и пламя давней страшной ночи, под багровое небо, в котором низкие облака смешивались с дымом пожаров. Гул стоял над холмами, река несла обломки и обрубки и вспыхивала, отражая зарево.
– Бабы, уходите, живее! – закричал он в темноту и очнулся.
Удары в ворота прекратились, и отчетливо донесся голос: «Эй, есть тут кто-нибудь?»
Выуявь зажгла лампу и торопливо одевалась. Арника зарылась глубже в тряпье, на котором спала, но ее подняли, закутали в одеяло и потащили к потайной кладовой в глубине дома. Она засыпала на ходу, поэтому даже не пыталась объяснить брату, что в звуках, доносящихся со двора, нет никакой опасности, хоть они и очень похожи на те, другие звуки, в которых опасность была. Выуявь, отдуваясь на бегу, крепко прижимала к груди зеркало – единственный предмет, который мог выдать присутствие женщин в доме.
В кладовой Мзымвик толкнул Арнику в уголок на груду пустых мешков, принял у Выуяви лампу и, не оборачиваясь, выбрался по лестнице наверх. Громыхнула дверца, стало темно. Выуявь тоскливо посмотрела ему вслед. Казалось, уже миновали дни, когда им с Арникой приходилось подолгу отсиживаться здесь, в то время как Мзымвик, хромая сильнее обычного, с застывшим лицом обслуживал лихих гостей. Удивительно, но «Полтора орла» не были сожжены никем – ни наемниками герцога, ни королевской армией, ни разбойничьими шайками Ола Справедливого и лесного барона Щурриора. Мзымвика никто пальцем не тронул. И никому даже в голову не пришло подойти к люку, ведущему в кладовую… Выуявь приписывала это чудо своей особой молитве, унаследованной от бабки, а также своему смирению и покорности Божьей воле. Она не раз говорила об этом Мзымвику, но он только усмехался молча, невесело, будто знал что-то, но говорить не хотел.
На этот раз жалобное бормотание Выуяви, просившей бога пожалеть и оградить, было прервано довольно скоро. Мзымвик вернулся.
– Вроде добрые люди, – сказал он и сунул жене кожаный тяжелый мешочек. – Схорони где-нибудь тут, да выходите обе. У них раненый, помочь надо.
Выуявь ахнула. В мешочке, по всему, были настоящие монеты, не те берестяные денежки, что были в ходу раньше и что иногда в насмешку бросали Мзымвику разбойники.
– Золото, – веско сказал Мзымвик. – Вперед платят, видишь… Симзуть буди.