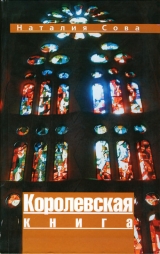
Текст книги "Королевская книга"
Автор книги: Наталия Сова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Оэл-менестрель
Окна на постоялом дворе «Полтора орла» были открыты настежь и источали тусклый свет. Внутри стоял чад, в душной желтой мгле било через край веселье – некий странник угощал ужином и вином всех без разбору: проезжих горожан, купцов, бродячих ремесленников и нищенствующих монахов. Все давно были пьяны, кто-то пытался плясать, кто-то, по-братски обнимая соседа, рассказывал о скорбной жизни своей. Виновник нежданного праздника – хрупкий улыбчивый молодой человек в новеньком дорожном одеянии – сидел у окна, играл с пламенем свечи, пропуская его между пальцами, и с интересом следил за происходящим.
Два дня тому назад он, Оэлларо Таллеарт, прославленный придворный менестрель лорда Гарга, наконец добился разрешения навсегда оставить службу. Решающими были такие его слова: «Ваше сиятельство, я не могу больше выполнять свои обязанности, ибо, слагая песни, всегда наталкиваюсь на непреодолимую стену, отделяющую ложь от правды, и, развлекая этими песнями ваше сиятельство, тщетно бьюсь в эту стену, пытаясь сделать несуществующее существующим. К концу каждого пира я разбиваюсь в кровь. Я едва жив, я в отчаянии, пощадите меня, ваше сиятельство».
Загадочная эта речь означала, что Оэлларо устал воспевать мнимую доблесть лорда и далеко не бесспорную красоту его супруги. Если бы лорд был чуточку сообразительней, Оэлларо неминуемо провел бы остаток своих дней в темнице. К счастью, тот подумал лишь, что бедняга слегка повредился в уме, и отпустил его на все четыре стороны, наградив в меру своей щедрости.
Деньги эти Оэлларо счел грязными, лестью и ложью добытыми, и решил избавиться от них как можно скорее. На постоялом дворе он с порога крикнул: «Угощаю всех!», и целый вечер развлекался, наблюдая постепенные изменения человеческих повадок в зависимости от степени подпития.
Народ уже не помнил, на чьи деньги гуляет, и больше не поднимал кружки за здоровье щедрого господина. Перевалило за полночь. Удовлетворенно пересчитав оставшуюся мелочь, Оэлларо поднялся было, чтобы отправиться спать, но тут дверь распахнулась с грохотом – и появились новые гости. Впереди – могучий бритоголовый воин с изуродованным шрамами лицом, раскосыми кошачьими глазами и огромным бриллиантом в серьге. За ним – еще четверо, пониже и ростом, и рангом. Судя по внешности и манерам, все они были жителями Кардженгра, оставалось только гадать, каким ветром занесло их в эти края.
Свободных мест не было. Оглядевшись, бритоголовый указал на стол у камина, где пригрелись за вином и беседой несколько хмельных горожан. Недолго думая, те четверо деловито вышвырнули собутыльников и, наклонив стол, со звоном ссыпали на пол тарелки с объедками, бутылки и щербатые кружки. Теперь вновь прибывших заметили все. Выбежал хозяин.
– Добро пожаловать, у нас сегодня бесплатно, – молвил он угодливо. – Угощение за счет вон того благородного господина.
Встретившись взглядом с чужеземцем, Оэлларо вежливо наклонил голову, но тот, не пожелав ответить на приветствие, мрачно проронил:
– Нет.
Это слово вмещало в себя очень многое. «Свое подаяние этот богатенький слюнтяй пусть оставит при себе. Мы сами заплатим за себя и за кого угодно, ибо денег у нас предостаточно, но, если вдруг не захотим платить вовсе, тебе придется с этим смириться».
Повисло тяжелое молчание. Постояльцы потихоньку стали разбредаться от греха подальше.
И тогда Оэлларо уселся на стол и тихо-тихо начал песню, которую сложил год назад и пел с тех пор всего два раза, – о битве у скалы Ощеренная Пасть, самом кровавом сражении минувшей войны, в котором Армия Трех Королей, никогда не знавшая поражений, была разгромлена войском ирнаков.
Знамена рухнули на камни
Мы отступаем с болью в сердце…
Оэл прикрыл глаза и представил себе то, что требовалось представить. Увидел желтые скалы и тучи пыли, почувствовал запах крови и нагретого солнцем металла, услышал свист горячего ветра, рассеченного длинной ирнакской стрелой. Он явственно увидел эту оперенную бело-черным стрелу против своей груди и снова пережил тот миг, когда время замедляется для того, чтобы перед глазами пронеслась вся жизнь с самого начала, в то время как стрела неторопливо преодолевает расстояние в два пальца. Оэлларо знал, что эта песня всякий раз отнимает у него год жизни, но ее нельзя петь иначе.
…Но мы не прокляты судьбою,
И доблесть не была напрасной,
И знаком будущей победы
Горит звезда у горизонта!
Открыв глаза, Оэлларо увидел бритоголового, неподвижно возвышающегося прямо перед ним. Исполосованное шрамами лицо ничего не выражало, но в желтых, без ресниц, глазах стояли слезы. Не говоря ни слова, он сгреб Оэлларо в объятия и стиснул так, что пресеклось дыхание.
Через минуту Оэлларо сидел рядом с ним за столом, держа в руке наполненный кубок. Суровые чужестранцы, протрезвевшие гости, хозяин, застывший на пороге кухни, – все смотрели только на него. Стояла тишина, особая чистая тишина, что приходит на смену славно спетой песне.
– Помянем, – глухо сказал воин и плеснул немного вина в камин. Пламя взвилось и опало.
– Помянем, – отозвался Оэлларо, еще не пришедший в себя после пения.
– Иарен, Ратн, Инриг, Таэрдж… – шептал воин, глядя в огонь. Остальные четверо, шевеля губами, тоже перечисляли имена, длинную череду, – в огонь ушедшие, огнем ставшие… простите, что я не с вами, – закончил воин и медленно пригубил.
Оэлларо хлебнул и закашлялся, такого крепкого он обычно не пил.
– Я барон Анорг из Дженгра.
– Я Оэл Тал из Эльта.
На самом деле Оэлларо не помнил этого города, хоть искренне считал его своей родиной. Он вырос в одном из больших селений в предгорьях, где его вечно дразнили подкидышем и тихоней и откуда он ушел при первой возможности, решив во что бы то ни стало добраться до столицы. Когда кончились припасы, попытался заработать пением на ярмарке. Там его услышал один из приближенных герцога Даррзы и привез в замок, где Оэлларо и жил с тех пор.
– В год битвы ты, верно, был совсем мальчишкой, – сказал барон. – Эльтский отряд кишел мальчишками. Не спорю, люди Эльта – маги. Но посылать в бой детей бесполезно.
И вдруг Оэлларо, не бывавший не только в бою, но и ни в одной крупной драке, выпрямился и гордо ответил:
– Это не так. Ты справедливо признаешь жителей Эльта сведущими в магии, но напрасно думаешь, что от эльтских парней мало толку в сражении.
– От кого было больше толку – не важно. Проиграли все.
Барон пригубил еще и добавил с угрюмой усмешкой:
– Тогда перед походом я побывал у одной ведуньи, она пошептала надо мной и начертила знак на внутренней стороне щита. Я не получил в том бою ни царапины. Остался в живых один из всего клана. Теперь я прошу прощения за это всякий раз, как поминаю своих. У тебя уцелел кто-нибудь – отец, братья?
Оэлларо покачал головой, желая сказать, что ни отца, ни братьев у него нет, но не успел.
Барон, по-своему истолковав этот жест, воскликнул:
– Неужели и ты заговоренный?
Люди внимали, затаив дыхание, – такую беседу не каждый день услышишь. Оэлларо огляделся и понял: признаваться в том, что он не был в сражении у Ощеренной Пасти, сейчас никак нельзя.
– Нет, я не заговоренный… я был ранен, – тихо произнес он. – Стрелой. В грудь.
И, произнося эти слова, вдруг почувствовал, как исчезает граница между ложью и правдой. Стрела действительно была, ведь он полной мерой пережил ее краткий полет. Ничто не переменилось в воображаемой картине, просто она стала подлинной настолько, насколько могут быть подлинными воспоминания. Все, что знал Оэлларо о битве у Ощеренной Пасти и ее героях, все, что домыслил, о чем спел, превращалось в воспоминания. Он вспоминал сражение, а в нем себя – другого, незнакомого, – видел свое другое прошлое, то, что было до и после достопамятной стрелы. Его память стала двойной: история придворного менестреля и история благородного рыцаря из Эльта существовали в ней одновременно и равноправно, он не мог сказать, кто он на самом деле и что это значит – быть на самом деле. Все вокруг стало зыбким, звенящим маревом. Оэлларо сжал кубок обеими руками, сплетя пальцы, не зная, кто сделал это движение – менестрель или рыцарь, в равной мере ощущая себя и тем и другим. Две истории сошлись словно две дороги, и он замер на перекрестке.
– Нам повезло, мы остались в живых и можем мстить, – послышался голос барона. – Я еду к государю Хэмгу, он готовит поход на ирнаков. Присоединяйся, Оэл. Или ты намерен соблюдать ваши странные обычаи? Вы, северяне, почему-то считаете месть недостойным делом.
Оэлларо поднял глаза.
– Отец сказал мне: «Запомни, мы не мстим. Никогда». За час перед битвой он сказал мне это. Прости, я не присоединюсь к тебе.
Барон неторопливо кивнул в знак понимания и одобрения:
– Выпей еще. Выпей и спой что-нибудь.
Оэлларо лихо осушил кубок, стукнул им о стол и начал:
Ты помнишь, друг,
Осаду города тогда, весною?
Костров неумолимое кольцо вокруг полночных стен,
На долгих склонах сиреневых холмов.
Чужая ночь так странно пахнет,
Сладко и тревожно…
Он слагал песню на ходу, как делал это не раз – неторопливо, с наслаждением нанизывал слова на длинную нить мелодии. Допел, начал другую, потом еще одну. Никогда прежде ему не удавалось так точно облекать свои мысли в стихи и музыку. Ведь теперь он пел не о придуманном или услышанном от других, а о том, что испытал сам. О боях и поединках, в которых участвовал, о землях, которые повидал, о людях, которым служил и с которыми был дружен. Оэлларо пел о своем прошлом так, чтобы ни одно слово нельзя было отбросить, заместить другим или хотя бы усомниться в нем. Он пел, и наваждение рассеивалось, вновь воздвигалась стена, отделяющая ложь от правды, замершее было время снова текло своим чередом.
– О, я вспомнил тебя, – вдруг молвил барон. – Верно. Турнир в столице минувшим летом. Доблестный граф Оэл Тал. Горностай в гербе. И как я не узнал сразу? Удивительно.
– Такое бывает, – с улыбкой ответил Оэлларо. – А я узнал тебя, как только увидел. Как не узнать того, кто был на ристалище вторым после короля Ангарского?
– Я был бы первым, если бы мой конь… Впрочем, черт с ним, – проворчал барон, – Государь Антарский – достойнейший из рыцарей, я не досадую, что победа досталась ему.
Граф Оэл Тал и барон Анорг беседовали до рассвета. Никто из них не жалел, что пожертвовал сном. На прощание они обнялись, и пятеро чужеземцев исчезли так же стремительно, как появились.
Оэл сидел в задумчивости, внимательно рассматривая пустой глиняный кубок, темные доски стола в трещинах и грязных подтеках и собственные руки, лежащие на столе, – смуглые, крепкие, с тусклыми фамильными перстнями на пальцах. Совершенно незнакомые руки.
– Люди Эльта – маги, – негромко повторил он. – Эй, хозяин, есть у тебя зеркало?
Хозяин, измученный ночным бдением над знатными гостями, из последних сил улыбающийся, ответил, что зеркала как такового нет, но есть полированный щит, оставленный в уплату за ночлег каким-то купцом, и блистающая как солнце, нет, ярче солнца, большая крышка от сковороды. Что прикажет принести, лорд рыцарь?
Оэл не ответил. Он догадывался, каким увидит свое отражение. Важнее было посмотреть, как выглядит теперь остальной мир. Он поднялся, громыхнув о скамью тяжелым мечом, висящим на поясе.
– Уезжаете, лорд рыцарь? – Хозяин глядел на него снизу вверх. – Доброго пути вам. Вот и погода знатная стоит как раз…
– Испортится завтра, – невозмутимо предсказал Оэл.
Старая рана от ирнакской стрелы всегда ныла перед дождем.
Королевская книга
1
Город равнодушно перекатывал меня в желобах просторных улиц. Я двигалась без цели и направления, коротая время, оставшееся до отхода поезда, – в толчее подземных переходов, в пустых кривоколенных переулках под осенним ветреным небом, в забегаловках фаст-фуда. Рискуя заблудиться, я выбирала неизвестные сложные маршруты, возвращалась к знакомым пейзажам, поглядывая на часы, понимала, что времени все же остается очень много, и спускалась в метро. Выныривала наудачу, неся на щеках прикосновения пыльного подземного ветра, пропитавшись теплом поезда – пожирателя пространств, и снова шла бродить.
Так продолжалось до тех пор, пока извилистый, бессмысленный путь мой не пересекся с путем Серафима. Теперь мне кажется, что в точке пересечения и находилась не осознаваемая мной цель моего тогдашнего путешествия, а может быть, Серафим меня потом в этом убедил.
Когда я впервые увидела его, у него была внешность революционера-разночинца – длинные волосы, бородка, грязноватый вязаный шарф, длинное антикварное пальто и то особенное выражение бледного лица, какое бывает, если подолгу размышлять о несовершенствах мира и о способах приведения человечества к счастью: вдохновенное, решительное и одновременно обреченное. Он слегка покашливал (осенью все немного простужены), и в его исполнении кашель выглядел как начальный симптом чахотки, которую истинный разночинец непременно должен подхватить на поселении в Сибири. Круглые очки в тонкой металлической оправе слабо поблескивали в пасмурном свете. Типаж был настолько чист, настолько невозможен… впрочем, за неделю моего пребывания в столице я уже убедилась, что на улицах столицы возможны любые персонажи. В моем родном городе, пожалуй, ему вслед оборачивались бы.
Его спутник был обычным – полноватый молодой человек в дутой куртке и поношенной лыжной шапочке, этакий неспортивный спортсмен. Они ожесточенно спорили, даже ссорились, то и дело останавливались, неспортивный принимался витийствовать и жестикулировать. Разночинец держался строго, чуть наклоняясь прямым корпусом к собеседнику, и отвечал короткими, отрывистыми фразами, от которых неспортивный впадал во все большее раздражение.
Наконец, ребром ладони обрубив собственную речь, неспортивный круто повернулся и пошел к метро. Разночинец проводил его взглядом, перевел дух и огляделся вокруг, слегка потерянно, словно выброшенный бурей на неведомый берег. Обреченно-вдохновенное выражение потихоньку сглаживалось, но вопиющая странность (это слово можно перевести как «отличительная черта странника, пришедшего из чужих краев и поразительно непохожего на нас, здешних») осталась.
Мне захотелось услышать, как звучит его голос. Сделав несколько робких шагов поперек тротуара, я спросила:
– Простите, это ведь проспект Мира?
– Да.
Я мелко закивала, как старушка, страдающая болезнью Паркинсона. Собственно, о том, что улица называется проспектом Мира, можно узнать из таблички, украшающей ближайший дом. Нужно срочно придумывать что-то более конкретное.
– Тогда не подскажете ли… – мысль моя заметалась, – где находится спорткомплекс «Олимпийский»… Да, книжная ярмарка!
– Я иду именно туда. Могу проводить, если вы не против.
– Благодарю, – церемонно ответила я.
Мы пошли мимо промокших стен, огибая прозрачные лужи и прохожих, на ходу бодающих ветер. Я тихо дивилась себе, только что – впервые в жизни – заговорившей с заинтересовавшим меня незнакомым человеком на улице. Обычно благовоспитанность моя простиралась так далеко, что нескольких коротких снайперских взглядов в направлении интересующего субъекта было вполне достаточно.
Полы пальто и концы шарфа «разночинца» развевались от мощных порывов ветра. Я втянула голову в плечи. О, летние подмосковные вечера, рождественские солнечные дни с гимназистками румяными, золотая осень – мифические явления, метафоры и гиперболы песенного фольклора. На самом деле в Москве всегда свинцовое небо, дождь и пронизывающий ветер – всякий раз я вижу этот город именно таким.
– «Найдет тепло прохожему, а деревцу – земли», – пробормотала я нараспев, подражая невесомому голоску Татьяны Никитиной.
– Что, простите? – наклонился ко мне «разночинец».
– Холодно, – ответила я. – Я пытаюсь согреться магическим способом, напевая песню о теплой Москве. Просто напасть какая-то – как приезжаю, тут же портится погода.
– Приезжаете откуда? – неподдельный немосковский интерес.
– Город Пермь, – ответила я, готовясь терпеливо ответить на вопрос: «А где это?»
Название моей малой родины не на слуху у среднестатистического россиянина. Предельно высокая концентрация военных заводов на квадратный километр не позволяла в советские времена упоминать его даже в прогнозе погоды. Город «открыли» еще в начале перестройки, но в нем до сих пор не произошло ничего интересного.
Однако «разночинец» не выказал неосведомленности, и это мне понравилось.
– А вы? Вы конечно же москвич?
– Нет… – Он чуть помедлил. Казалось, старинное название несуществующего города, вроде Малоги, в незапамятные времена затопленной Рыбинским водохранилищем, сорвется сейчас с его губ. И тогда никуда не денешься, придется спрашивать, где он припарковал машину времени. Но он сказал только: – Я жил много где. А здесь сейчас работаю. – Он бросил быстрый взгляд в сторону, где скрылся его сердитый знакомец. – Да, кстати…
Он извлек визитку, где под эмблемой – белые крылья в синем звездном небе – было написано: «Международный центр содействия культурному развитию» и ниже четыре слова: «Серафим Пичугин. Литературный консультант». Номер телефона, номер мобильника, адрес электронной почты.
– Какие совпадения случаются, надо же… – пробормотала я, разглядывая визитку.
И продолжила, что тоже занимаюсь литературой, хотя, строго говоря, я музыкант и литератором себя не считаю. А зовут меня Ириной, и нахожусь я в Москве потому, что здесь только что закончился литературный семинар, на который меня пригласили, ибо я выиграла конкурс, впрочем, это было случайностью…
Мы влились в поток входящих в стеклянные двери «Олимпийского», и я, прекратив сбивчивые речи, устремилась вдоль прилавков, отыскивая глазами последнюю книгу Паоло Коэльо. Я не знала названия, но была уверена, что опознаю ее методом исключения – все ранее вышедшие его книги я уже читала.
– Господи, – слегка поморщился Серафим, – искать здесь Коэльо! Да зачем он вам?
Я сказала что-то о философских и эзотерических темах, которые привлекают меня в творчестве самобытного писателя, но Серафим отрезал:
– Это эзотерика для бедных.
«Ишь ты…» – подумала я, а вслух сказала:
– А вы что здесь ищете?
– Натана Агоряна.
Я пожала плечами. Серафим уже открыл рот, намереваясь просветить меня, но не успел.
– Фимка-а! – Пронзительный крик, перекрывая гул голосов, ввинтился в плотный от духоты воздух. Расталкивая людей локтями и коленями, к нам двигалось юное существо неопределенного пола, чьи волосы, выкрашенные в огненный цвет, наполовину скрывали лицо, а красная куртка была исполосована поперечными разрезами, сквозь которые поблескивала черная подкладка. Серафим нервно сжал губы и, не оборачиваясь, взял в руки первую попавшуюся книгу. Существо повторило крик и повисло на его плече, отдувая со лба обильную челку и пытаясь заглянуть в глаза. – Ну куда ж ты пропал? Ты обиделся, что ли, ангел мой? – услышала я. – О, какой прикид! Очечки, что-то малиновенькое… славно… Ну скажи мне хоть слово, я хочу слышать тебя.
– Нам не о чем разговаривать.
– Да неужели?
Будучи по природе человеком деликатным, я отступила назад, и медленный поток книголюбов понес меня прочь. С той стороны, где остался Серафим, раздался хрипловатый девичий хохот, быстро поглощенный душным гулом ярмарки.
Купив томик Коэльо и аккумулировав некоторое количество тепла, я вышла на воздух. Окружающий пейзаж показался мне еще более удручающим и мрачным. Не оттого, что общение с необычайно заинтересовавшим меня человеком было так быстро и бесцеремонно прервано, а оттого, что разговор вызвал к жизни черные мысли, окончательно затмившие серенький цвет московского неба.
«Занимаюсь литературой»… – усмехалась я криво и зло. – Не «пишу», а именно «занимаюсь литературой»… Сказала чистую правду. Много лет подряд «занимаюсь литературой» и думаю, что занимаюсь на самом деле ерундой.
С некоторых пор такие мысли часто посещали меня, я их прогоняла – занятие столь же плодотворное, как разгон радиопомех метлой на крыше сарая.
Так почему бы не это сегодня?
Я пошла вперед, уворачиваясь от злых оплеух ветра и внимательно глядя по сторонам в поисках кофейни. Найдя прелестное, тихое заведение, где было запрещено курить и тихонько наигрывал Ричи Блэкмор, я устроилась в уголке и раскрыла книгу.
– Итак, – шепнула я, обращаясь к портрету Паоло Коэльо, – на повестке дня один вопрос: быть или не быть? Видишь ли, Паоло, мои писания напоминают бродячие клочья тумана, несомые ветром листья, обрывки шепотов, доносящихся с невидимого в темноте берега, мелькающие в призрачном свете лица – все стерто и невнятно, будто во сне. Он не дается мне, мой мир, слова разлетаются стаей пугливых воробьев, и нужно охотиться за ними – долго, мучительно, чтобы описать самые простые вещи… Не дается, – повторила я, закрывая глаза и устремляя взгляд поверх горной гряды, где облака рвутся, являя изумрудно-зеленую равнину в золотых и голубых прожилках дорог и рек, синие леса, города, которые не спутаешь ни с какими другими – хоть сейчас рисуй карту в средневековом стиле, где по дорогам мчатся всадники, из дебрей выглядывают алые драконы, в море плывут наперегонки парусники и дельфины, а над северными снегами парит на распростертых крыльях врок-призрак. Знакомая страна, всякий раз ускользающая от моих торопливых пальцев, бегущих по клавиатуре компьютера.
– Так, может быть, не надо? – печально спросила я у самого читаемого в мире современного писателя. – Если вдохновения нет слишком долго, может быть, мне отступиться?
Коэльо доброжелательно слушал, догадываясь, что я умалчиваю о главном.
А предметом умолчания моего был вкрадчивый страх, с которым я в последнее время сталкивалась всякий раз, стоило мне только подумать о том, чтобы продолжить писать. Страх мелькал где-то на краю сознания, словно призрак, ускользающий в темноту, едва направишь на него пристальный взор. И черт знает, откуда он брался – из неуверенности моей или из горьковатого запаха пожарища, которым в последнее время веяло от распечатанных на принтере страниц рукописи.
– Это не ваше, девушка?
Надо мной стояла официантка, держа двумя пальцами перчатку – длинную, кожаную, поблескивающую дивной бисерной вышивкой – синий причудливый не то цветок, не то зверь. Василиск. Василек, под взглядом которого можно умереть, задохнувшись от его красоты.
– Не мое. А жаль!
Она молча повесила перчатку на спинку стула и удалилась.
– Может быть – больше никаких сказок? – прошептала я на ухо Паоло Коэльо. Как и ожидалось, ответа он не дал, предоставляя мне, как всякому полноправному жителю этой Вселенной, свободу выбора. – Нет, ты только представь себе: мне двадцать шесть лет, жизнь не устроена. Да-да! Я не о личной жизни, вернее, не только о ней – жизнь моя не устроена вообще… Я живу на съемной квартире, оплаченной до марта месяца включительно, работаю на нелепой работе не по своей специальности, провожу свободное время в уединении и пресловутых «занятиях литературой», будто чья-то чужая жизнь втихомолку поменялась местами с моей собственной, где все было иначе: освоенная ниша в социуме, кое-какая известность и неплохая в общем-то семья из двоих человек. И теперь я живу эту чужую жизнь, а может быть, даже наоборот – она живет меня, однако за всем этим стоит твердое знание, что винить тут некого, все устроено мною самой со смутным чувством, что так нужно. И как ты думаешь, Паоло, возможно ли создавать чьи-то чужие судьбы, если со своей собственной творишь черт знает что?
Я залпом выпила остывший кофе и, уходя, украдкой сунула перчатку в карман куртки.
Поезд «Москва – Серов» намного комфортнее поезда «Свердловск – Бишкек». Эта простая мысль спасла меня от приступа жесточайшей хандры, когда я увидела, в какой обстановке мне предстоит ехать целые сутки. Подслеповато щурясь в скудном свете и держа под мышкой «Сеньориту Прим», я пробиралась по грязному, обшарпанному вагону. Народ теснился, был редкостно озлоблен и обременен многочисленными челночными сумками. Голосило радио.
Однако, отыскав свое место, я поняла, что в поезде «Москва – Серов» имеется локальная аномалия: четыре плацкарты свободны, шторки на окне новые, на столике салфетка, а над нижней полкой, рядом с откидной сеточкой, прикреплен скотчем портрет Вигго Мортенсена.
«Мы видим то, что знаем, знаем то, во что верим, и верим в то, что видим», – философски заметила я, помещая в сеточку книгу, а под столик – дорожный саквояжик с торчащей наружу пластиковой бутылкой боржоми. Радио устроило истерику, уверяя, что нас не догонят, и поезд тронулся.
Поплыли огни. Москва темнела, уходила назад в пространстве и времени, проваливалась в прошлое. Дожидаясь, пока включат полный свет и можно будет читать, я прикрыла глаза.
– Добрый вечер, – сказал человек, усаживаясь напротив.
Я молча кивнула, а присмотревшись, заметила, что попутчик мой вылитый Серафим, по крайней мере при таком освещении. Правда, шире в плечах, старше и мужественнее, без лихорадочного вдохновения во взоре, без интеллигентских очков и бородки. Спокойное лицо с холодноватым, аристократическим выражением, светлые волосы слегка вьются над плечами, белый свитер грубой вязки оставляет открытой шею. Не успела я подумать, насколько прихотлива природа, создающая двоих практически идентичных внешне, но непохожих внутренне людей, как вдруг он улыбнулся углом рта:
– Все-таки купили Коэльо?
– Купила, – медленно ответила я.
– А я нашел-таки Натана Агоряна. – Серафим кивнул на котомку, лежавшую рядом с ним.
Поколебавшись между двумя одинаково глупыми фразами: «Вот как неожиданно мы с вами встретились» и «Что-то вы на себя совсем не похожи», я промолчала и уставилась в темное окно, где отчетливо виднелось мое озадаченное отражение.
– На меня свалилась срочная командировка в Пермь, отправили буквально через час после нашего знакомства, – пояснил Серафим.
– А, – только и ответила я.
Поезд набрал ход, черный подмосковный ельник слился с ночью, в вагоне вспыхнул свет, и началась дорога – качающийся долгий миг между домом и не-домом.
Проводница пошла по вагону, проверяя билеты. Легкая, маленькая, словно птичка, она присаживалась на краешек сиденья, брала билеты, сворачивала, аккуратно засовывала в кармашки маленькой книжки-сумочки, брала деньги за постельное белье, вспархивала и пересаживалась.
Возле Серафима она задержалась подольше, поинтересовалась, не родственник ли он знаменитого доктора Пичугина, именем которого названа в Перми детская больница, и многозначительно сказала: «Если что – обращайтесь». Мы получили от нее по пакету с влажными железнодорожными простынями, а Серафим в придачу еще и обещающую улыбку в тридцать два мелких беличьих зубика. Я принялась устраивать спальное место, попутчик же мой отложил пакет в сторону как вещь второстепенную и даже излишнюю.
Люди проходили мимо, закидывали на верхние полки сумки, несли куда-то детей под мышками и кипяток в кружках, но вся эта суета никак не касалась нашего купе, наполненного молчаливым присутствием Серафима. Пренебрегая всеми нехитрыми занятиями пассажира – не решая кроссворды, не перелистывая страницы, не чаевничая, не глядя пустым взором в окно, – Серафим словно бы чего-то ждал от меня с бесконечным терпением и спокойствием.
– И надолго вы в Пермь? – Я взбила подушку.
– Минимум на месяц.
– Долгие у вас командировки.
– Не всегда. Но на сей раз будет очень много работы.
– А как вы работаете? С кем и каким образом? – Я устроилась напротив него и приготовилась слушать.
– Чаще всего предоставляю автору материал по теме. Достоверный, проработанный, подробный.
Консультант. Эрудит. Какой-нибудь аспирант-историк, или литературовед, или культуролог… Я вспомнила, как на заре туманной юности, испытывая затруднения при написании финала некой повести (впоследствии стыдливо уничтоженной), обзванивала знакомых с вопросом, может ли человек застрелиться из арбалета. Исходя из того, что мне тогда ответить не смог никто, услуги консультанта показались мне вполне востребованными.
– Хотите кофе, Ирина? – спросил он, извлекая из недр дорожной сумки серебристый термос.
Я подставила свою синюю с корабликами кружку, и по вагону, затмевая все запахи, поплыл драгоценный аромат, яркий, как закатное марокканское солнце, рассеченное надвое черным силуэтом пальмы.
Я украдкой рассматривала Серафима: серые глаза, морщинки, резко выделяющиеся на загорелом лице, твердая складка рта, плавное, полное достоинства движение, которым он ставит кубок на стол… (Конечно, кубок, а не эту громоздкую кружку с загадочной надписью – INTERSIST.) Повадки аристократа, профиль, взгляд… Облик Серафима неуловимо и настойчиво напоминал мне кого-то из моих персонажей – непроработанных или вовсе не найденных еще, – литературный консультант словно ждал, чтобы я его придумала.
Образ человека всегда содержит в себе семена других образов – черточки, жесты, интонации голоса. Стоит дать волю воображению – и семена прорастают, меняется облик, брезжит другая судьба, иная реальность. Придумывание с детства было моей любимой игрой и причиной множества недоразумений. Я не успевала рассмотреть человека – настолько быстро он превращался в моих глазах в персонаж. И в результате неизменно проигрывала в гораздо более актуальной игре под названием «Разбираться в людях». Вот и Серафим на глазах утрачивал связь с окружающей действительностью, и уже не хотелось спорить с ним о таких мелочах, как эзотерика для бедных, и просилось уже на язык обращение «господин советник». И вдруг я заметила, что он прекрасно знает, что я делаю. Мало того – нарочно позирует, не только позволяя себя придумать, но и всячески тому способствуя.
Я замерла с пряником во рту, и он увидел, что я поняла.
– Не стесняйтесь. – Он улыбнулся.
– С чего вы взяли, будто я стесняюсь, чего мне стесняться, в самом деле? – Я залилась тяжелым, плотным румянцем.
– Своего воображения. – Он добавил мне кофе. – Я общался с немалым количеством авторов – и узнаю этот взгляд. Едва такой огонек появляется в глазах автора, точно знаю – меня втихомолку производят в офицеры белогвардейской разведки, или сажают за пульт управления звездолетом, или дают в руки меч о двух фигурных лезвиях…
– Так внешность благоприятствует! – засмеялась я.
– Внешность, Ирина, у меня разная.
Я ощутила на секунду холодок внутри. Серафим-разночинец в развевающемся шарфе, сосредоточенный, чуть наклоненный к собеседнику, прошел передо мной по мокрой улице.
– В Москве мы как раз закончили работу с одним человеком, – продолжал Серафим. – По-моему, вы его видели со мной тогда, на улице. Написал неплохой исторический роман и напоследок все донимал меня вопросом: должен ли герой в финале совершить… скажем так, некий нетипичный для него поступок или все же нет – не мог решить. Я устроил ему встречу с героем, они поговорили, и все решилось как бы само собой.






