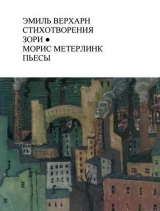
Текст книги "Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы"
Автор книги: Морис Метерлинк
Соавторы: Эмиль Верхарн
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
Лишь однажды, неожиданно, краски ожили, и Метерлинк доказал, что талант его не зачах. Это случилось в начале второй мировой войны и, возможно, под ее влиянием. Вновь героиней стала жертвующая собой женщина, но на этот раз ею была Жанна Д’Арк. Может быть, сам найденный Метерлинком пример, сам образ Жанны не позволил ему просто «проиграть» еще раз все ту же пластинку.
«Жанна Д’Арк» доказала, что необычная писательская судьба Метерлинка, – не результат естественного, с возрастом нередко происходящего угасания таланта. Да и какой возраст: угасание ведь заметным стало накануне первой мировой войны, а тогда Метерлинку было всего около 50 лет!
Нет, дело не в возрасте. Ответ можно получить в произведениях излюбленного Метерлинком жанра, в бесчисленных его эссе. После первой мировой войны им было написано шестнадцать книг – размышлений по разным вопросам и поводам. Поражает несоответствие огромного проделанного труда, множества исписанных страниц – и незначительного результата. Кажется, что писатель работает на холостом ходу. Почему же? Метерлинк жил и писал в такое время, был свидетелем таких исторических событий, которые сами по себе были ответом на многие, поставленные перед человечеством вопросы. Метерлинк был современником 1917 года, он был очевидцем второй мировой войны, разгрома фашизма. Но как трудно его представить писателем эпохи возникновения социалистического лагеря!
До крайности абстрактный гуманизм увел Метерлинка так далеко от реальных забот человечества, что и гуманизм позднего Метерлинка сомнителен. Метерлинк брал уроки у насекомых, он у термитов увидел «образ нашей судьбы» и «модель будущего общества». Абсолютная социальная дезориентация привела его к тому, что он с сочувствием приглядывался даже к фашизму (итальянскому и португальскому). Не удивительно, что в поисках ответов Метерлинк со все возраставшим вниманием всматривался не в социальную реальность, а в пустоту «возле нас», туда, где, как ему казалось, возник поучительный для живых опыт жизни усопших. Не удивительно и то, что размеры неизвестного, неизведанного не уменьшались в ходе трудов Метерлинка, а все увеличивались, и в итоге многолетней деятельности этого писателя возник вывод: «Бог – всё и всё – бог».
Вот и не удивительно, что такими безжизненными и надуманными были на протяжении почти сорока лет художественные произведения этого очень одаренного человека. Консервативный романтизм превратил Метерлинка в писателя из давно прошедшего времени.
Тогда как умевший наблюдать реальную жизнь Эмиль Верхарн остается необычайно актуальным, хотя довелось ему видеть лишь зори двадцатого века. Можно с уверенностью сказать, что актуальность Верхарна еще впереди, еще дело будущего.
Л. АНДРЕЕВ
Эмиль Верхарн
{1}
Стихотворения
Фламандки{2}
Перевод Г. Шенгели
В столовой, где сквозь дым ряды окороков,
Колбасы бурые, и медные селедки,
И гроздья рябчиков, и гроздья индюков,
И жирных каплунов чудовищные четки,
Алея, с черного свисают потолка,
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы
И кровь и сок текут из каждого куска, —
Сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры:
Дюссар, и Бракенбург, и Тенирс, и Крассбек,
И сам пьянчуга Стен сошлись крикливым клиром,
Жилеты расстегнув, сияя глянцем век;
Рты хохотом полны, полны желудки жиром.
Подруги их, кругля свою тугую грудь
Под снежной белизной холщового корсажа,
Вина им тонкого спешат в стакан плеснуть, —
И золотых лучей в вине змеится пряжа,
На животы кастрюль огня кидая вязь.
Царицы-женщины на всех пирах блистали,
Где их любовники, ругнуться не боясь,
Как сброд на сходбищах в былые дни, гуляли.
С висками потными, с тяжелым языком,
Икотой жирною сопровождая песни,
Мужчины ссорились и тяжким кулаком
Старались недруга ударить полновесней.
А женщины, цветя румянцем на щеках,
Напевы звонкие с глотками чередуя,
Плясали бешено, – стекло тряслось в пазах, —
Телами грузными сшибались, поцелуя
Дарили влажный жар, как предвещанье ласк,
И падали в поту, полны изнеможенья.
Из оловянных блюд, что издавали лязг,
Когда их ставили, клубились испаренья;
Подливка жирная дымилась, и в соку
Кусками плавало чуть розовое сало,
Будя в наевшихся голодную тоску.
На кухне второпях струя воды смывала
Остатки пиршества с опустошенных блюд.
Соль искрится. Блестят тарелки расписные.
Набиты поставцы и кладовые. Ждут, —
Касаясь котелков, где булькают жаркие, —
Цедилки, дуршлаки, шпигалки, ендовы,
Кувшины, ситечки, баклаги, сковородки.
Два глиняных божка, две пьяных головы,
Показывая пуп, к стаканам клонят глотки, —
И всюду, на любом рельефе, здесь и там, —
На петлях и крюках, на бронзовой оковке
Комодов, на пестах, на кубках, по стенам,
Сквозь дыры мелкие на черпаке шумовки,
Везде – смягчением и суетой луча
Мерцают искорки, дробятся капли света,
Которым зев печи, – где, жарясь и скворча,
Тройная цепь цыплят на алый вертел вздета, —
Обрызгивает пир, веселый и хмельной,
Кермессы царственной тяжелое убранство.
Днем, ночью, от зари и до зари другой,
Они, те мастера, живут во власти пьянства:
И шутка жирная вполне уместна там,
И пенится она, тяжка и непристойна,
Корсаж распахнутый подставив всем глазам,
Тряся от хохота шарами груди дойной.
Вот Тенирс, как колпак, корзину нацепил,
Колотит Бракенбург по крышке оловянной,
Другие по котлам стучат что стало сил,
А прочие кричат и пляшут неустанно
Меж тех, кто спит уже с ногами на скамье.
Кто старше – до еды всех молодых жаднее,
Всех крепче головой и яростней в питье.
Одни остатки пьют, вытягивая шеи,
Носы их лоснятся, блуждая в недрах блюд;
Другие с хохотом в рожки и дудки дуют,
Когда порой смычки и струны устают, —
И звуки хриплые по комнате бушуют.
Блюют в углах. Уже гурьба грудных детей
Ревет, прося еды, исходит криком жадным,
И матери, блестя росою меж грудей,
Их кормят, бережно прижав к соскам громадным.
По горло сыты все – от малых до больших;
Пес обжирается направо, кот налево…
Неистовство страстей, бесстыдных и нагих,
Разгул безумный тел, пир живота и зева!
И здесь же мастера, пьянчуги, едоки,
Насквозь правдивые и чуждые жеманства,
Крепили весело фламандские станки,
Творя Прекрасное от пьянства и до пьянства.
Перевод С. Шервинского
Вкруг малого села, приземистых домов,
Где колоколенка, алея черепицей,
Встает, увенчана позолоченной птицей,
Где кузнецов меха, где сети рыбаков,
Здесь, где нежданно вид переграждаем чащей,
И здесь, где черные мычат в траве быки,
Где с сеном движутся воза, как бугорки,
Где парус вдалеке виднеется торчащий,
На фоне радужном весь красный, о волнах
Напоминающий и песне, что в просторе
Поутру моряки поют, пускаясь в море,
О солнечной реке, блестящей в лезвиях, —
Всё клевер да овес, луга и луговины,
Повсюду – поле льна, повсюду – поле ржи,
До горизонта, вплоть до пурпурной межи,
Безбрежность зелени – равнины и равнины.
Перевод В. Шора
Слюну с могучих морд коровьих отерев,
Перекидав навоз и освежив подстилку,
В рассветном сумраке дверь хлева отперев
И подобрав платок, сползающий к затылку,
Засунув грабли в ларь и подоткнув подол,
Като, дородная и дюжая девица,
Садится на скамью. Скрипит дощатый пол,
А в полутьме фонарь мигает и дымится.
Ступни в больших сабо. Подойник между ног.
Передник кожаный стоит на ней бронею.
Шары-колени врозь. И розовый сосок
Она шершавою хватает пятернею.
Струя тугая бьет, и пузыри кипят,
И ноздри скотницы вдыхают запах вкусный
Парного молока – как белый аромат,
Которым нас весной дурманит ландыш грустный.
И приходя сюда три раза в день, она
Лениво думает о будничной работе,
О парне-мельнике и о ночах без сна,
О буйных празднествах неутолимой плоти.
А парень ей под стать: в руках подковы мнет;
В возне любовной с ней он неизменно пылок,
Таскает он кули. А как она придет —
Он жирный поцелуй влепляет ей в затылок.
Но держит здесь ее коровьих крупов строй.
Коровам нет числа: их десять, двадцать, тридцать…
Стоят они, застыв, хвостом взмахнут порой,
Чтоб от докучных мух на миг освободиться.
Чисты ль животные? Лоснится шерсть всегда.
Откормлены ль? Мяса мощны у них на диво.
От их дыхания бурлит в ведре вода;
Кой-где от их рогов стоят заборы криво.
Желудков и кишок вместительных рабы —
Всегда они жуют, ни голодны, ни сыты,
Муку иль желуди, морковь или бобы.
Сопят, довольные, и тычутся в корыта.
Иль пристально глядят, как пухлая рука
Проворно полнит таз нарубленной ботвою,
Иль устремляют взор на щели чердака,
Где сено всклоченной их дразнит бородою.
Из глины, смешанной со щебнем, слеплен хлев;
А крыша – чуть сидит на скошенных стропилах:
Солома ветхая, изрядно подопрев,
От ливня сильного укрыть уже не в силах.
Гнетет животных зной, безжалостен, суров;
Порой полуденной стоят в поту коровы,
А в предвечерный час на мрамор их задов
Ложится, как рубец, заката луч багровый.
Как в топке угольной, в хлеву пылает жар;
От мест, належанных в подстилке животами,
И от навозных куч исходит душный пар,
И мухи сизые жужжат везде роями.
От глаз хозяина и бога вдалеке —
Ни фермер, ни кюре в хлеву не станут рыскать —
Тут с парнем прячется Като на чердаке,
И может вдоволь он и мять ее и тискать,
Когда скотина спит, хлев заперт на засов
И больше не слыхать протяжного мычанья, —
И только чавканье проснувшихся коров
Тревожит полноту огромного молчанья.
Перевод А. Голембы
О, трепетная рань святого захолустья,
Когда еще река вся в золоте стрекоз,
И в промельках ветвей и камышовых слез
Еще кленовый мост на солнце нежит брусья!
Цветущих луговин пестреющие устья,
И цоканье подков в конюшне, и оброс
Свинарник визгами веселий и угроз:
Даянья скотницы исчезли в жадном хрусте!
О, утренняя тишь! Блаженный час, когда
Накидок и чепцов покорные стада
Вплывают в городок, где божий храм беленый,
Где млеют яблоки, где шпанских вишен звоны,
Где в томной синеве над самой головой
Внезапных простынь залп с веревки бельевой!
Перевод А. Голембы
Он высится в лугах громадою беленой.
Оштукатуренный и крытый камышом,
На расстоянии заметен он большом,
А сбоку, под стрехой, ютится мох зеленый.
Вот дикая лоза к стене прильнула сонной.
На кровле горлица воркует с голубком.
А скирды, ровные, как срезаны ножом,
Стоят по сторонам ограды отворенной.
Теперь затишье тут. А некогда цепы
Звучали поступью шагающей толпы,
Иль поступью солдат, под грохот барабана.
Казалось, сердце здесь безмерное стучит.
Звук падал и взлетал. И вечер, с песней слит,
К поляне припадал, и таяла поляна.
Перевод А. Голембы
В сады, где воробьи и черные дрозды
Нашли себе приют меж мшистыми стволами,
Сверкающий апрель внес солнечное пламя,
Сплетя благих ветвей несчетные ряды.
Пусть в завязи еще сладчайшие плоды,
Но пчелы, меж ветвей сквозными куполами,
Влекут грядущий мед. И тяжкими сосцами
Коровы – сочных трав касаются, горды.
Мерцающий туман окутал утром рано
Сонм яблонь. Пелена молочного тумана
Развеялась, легло на ветви бремя дня.
А в предвечерний час, под гневным небосклоном,
Струилось золото по всем ветвям червонным,
По всем излучинам бессмертного огня.
Перевод Е. Полонской
Их спины нищета лохмотьями одела.
Они в осенний день из нор своих ушли
И побрели меж сел по ниве опустелой,
Где буки вдоль дорог алеют издали.
В полях уже давно безмолвие царило,
Готовился покрыть их одеялом снег,
Лишь длился в темноте, холодной и унылой,
Огромных мельничных белёсых крыл разбег.
Шагали нищие с сумою за плечами,
Обшаривая рвы и мусор за домами,
На фермы заходя и требуя еды,
И дальше шли опять, ища своей звезды,
По рощам и полям, как будто псы, слоняясь,
Порой крестясь, порой неистово ругаясь.
Перевод А. Ибрагимова
Субботним вечером, в конце дневных работ,
Из тонко сеянной отборнейшей крупчатки
Пекут служанки хлеб. Струится градом пот
В опару, до краев наполнившую кадки.
Разгоряченные, окутаны дымком
Тела их мощные. Колышутся корсажи.
И пара кулаков молотит теста ком,
Округлый, словно грудь, – в каком-то диком раже.
Слегка потрескивают поды от жары.
Служанки, ухватив упругие шары,
Попарно в печи их сажают на лопатах.
А языки огня с урчанием глухим
Бросаются на них ватагой псов косматых
И прыгают, стремясь в лицо вцепиться им.
Перевод Е. Полонской
Во всю длину шпалер тянулся веток ряд.
На них зажглись плодов пунцовые уборы,
Подобные шарам, что в сумерки манят
На сельских ярмарках завистливые взоры.
И двадцать долгих лет, хотя стегал их град,
Хотя мороз кусал в предутреннюю пору,
Цепляясь что есть сил за выступы оград,
Они вздымались вверх, все выше, выше в гору.
Теперь их пышный рост всю стену обволок.
Свисают с выступов и яблоки и груши,
Блестя округлостью румяных сочных щек.
Пускает ствол смолу из трещинок-отдушин,
А корни жадные поит внизу ручей,
И листья – как гурьба веселых снегирей.
Перевод С. Шервинского
Вновь холодно, земля твердеет, подмерзая,
Роясь пушинками, вновь первый снег идет
И по навесам крыш соломенных кладет
Свои подушечки, свисающие с края.
И снова, жалуясь, шуршит стерня сухая,
Над наготой полей опять молчанья гнет;
Голодная, зимы почувствовав приход,
Уже слетается к жилью воронья стая.
Зато, лишь серая задернет небо мгла,
Опять по-зимнему вся ферма весела, —
Сидят и греются пред алою жаровней;
И зарождается любовь у парня с ровней, —
По вечерам, когда кипящий чан поет,
Где сусло варится, бурливо, как живот.
Перевод С. Шервинского
В дни холодов сырых, пронзительных ветров
На волны светлые ложился мглы покров;
Меж грязной зелени, по пашням и дорогам,
Влачился паводок огромным осьминогом.
Тростник сухой свисал оборками. Стеснен
Стенами темноты, гремел со всех сторон
Иль зюйд, иль норд, всю ночь гудели глухо дали.
Белесым отсветом во тьме снега мерцали.
Но лишь мороз, ряды чудовищные льда
Сползали, – шумные, обширные стада, —
Толкаясь и давясь, как сбившиеся горы.
В часы, когда в лесу и в поле был покой,
Они со скрежетом шли друг на друга в бой,
Громовым грохотом тревожа сел просторы.
Перевод С. Шервинского
Монахи
Река была полна снастями, парусами,
А небо на нее всем весом налегло
И почву жарило вокруг и жгло лучами,
Как будто подобрав под знойное крыло.
А около плотин кипели ил и тина,
Иглой сверкал тростник от солнечной игры,
И судна трескалась смоленая махина,
Томясь под бременем расплавленной жары.
А в узком месте, там, где волны вдруг немели,
Из вод песчаные выпячивались мели
И белым стаи птиц пятнали их пером.
Поселок весь пылал, как в воздухе горнила,
Грозившего ему медлительным огнем,
И уголья волна горящие влачила.
{3}
Перевод В. Микушевича
Я призываю вас, подвижники-монахи,
Хоругви божий, кадила, звездный хор,
Свет католичества затеплившие в прахе
И в ослеплении воздвигшие собор;
Пустынножители на скалах раскаленных,
Навеки в мраморе веленье, гнев и зов,
Над покаяньем толп коленопреклоненных
Каскад молитвенный тяжелых рукавов;
Живые витражи в сиянии восхода,
Неистощимые сосуды чистоты,
Благие зеркала, в которых вся природа,
Как в тихом озере прибрежные цветы;
Провидцы, чья душа задолго до кончины
В сверхчеловеческом таинственно жила,
Утесы посреди языческой пучины,
Над Римом дикие горящие тела;
Мосты, взлетевшие изгибами в пространство,
Тяжеловесные устои в серебре,
Со стороны зари – потоки христианства
По направленью к нам, к другой своей заре;
Фанфары звучные пришествия Христова,
Громоподобные набаты в тишине;
От солнца вечного, от пламени святого
Распятий ваших свет в небесной вышине.
Перевод В. Микушевича
Он как будто пришел из дремотных пустынь,
Где глотают во сне раскаленную синь
Одинокие львы, чья свирепая сила
На горячих горах величаво почила.
Был он ростом велик, этот дикий монах,
Сотворен, чтобы жить в беспрестанных трудах;
Сил хватило бы в нем хоть на целую вечность.
До глазниц – борода, из глазниц – бесконечность.
С пешеходом таким не сравнится никто.
Нес монах на плечах лет без малого сто.
Каменела спина от усталости этой.
Был он весь – как утес, власяницей одетый.
Повергая во прах за кумиром кумир,
На ходу попирал он поверженный мир;
Как железный, возник он по воле господней,
Чтобы мог раздавить он змею преисподней.
____
Лишь такой человек из эпохи мечей
Жизнь бросает свою прямо в стих эпопей.
И зачем бы пришел он, апостол ужасный,
В этот суетный век, век больной и несчастный?
Ни один монастырь бы теперь не вместил
Изобилье таких необузданных сил,
И себя потонуть бы монах не заставил
В современной грязи предписаний и правил.
____
Нет, подобной душе лишь пустыня под стать.
На горах бы ему, пламенея, сгорать,
Испытав на жаре всевозможные казни,
Изнывая весь век в сатанинском соблазне,
Чтобы губы ему обжигал сатана
Красной плотью блудниц, чтобы ночи без сна,
Чтобы в жадных глазах вожделенное тело,
Как в озерах закат, исступленно алело.
____
Представляешь его одиноким всегда.
Остается душа в искушеньях тверда.
Он, как мраморный, бел перед всякою скверной.
Он один со своей чистотой беспримерной.
Мимо гулких морей, мимо топких болот,
По лесам и полям он упрямо идет.
В каждом жесте восторг и безумье провидца.
Это Риму таким он дерзает явиться,
Безоружный монах под защитой креста.
Императорам крах возвещают уста,
В неподвижных очах темнота грозовая;
Варвар в нимбе, грядет он, богов убивая.
Перевод В. Давиденковой
В те времена, когда тиары и кресты,
Бросаясь в ярые бои средневековья,
Внезапно падали, ломаясь о щиты,
И, словно скипетры, окрашивались кровью, —
Епископы, почти до самых облаков
Воздвигнув грозные, с зубцами, укрепленья,
Владели землями, судили бедняков,
Чудесным объявив свое происхожденье.
Сердца их были – медь, и, как колокола,
Гудели их мозги желаньем бранной славы.
В сраженьях, в пышности эпоха та текла;
Прогресс жестокие, безжалостные нравы
Сравнять своим скребком тогда еще не мог,
И вот – кровавая слагалась эпопея.
Всем управлял монах, неумолим, жесток,
Распятье в руку взяв – и шпагою владея.
Он ниц заставил пасть трепещущий народ,
Земные короли его признали силу,
Шептал он кесарям, что небо власть дает,
И оглушал рабов, чья мощь уже страшила.
Так феодальные монастыри в лесах
Возникли, тайнами и глухоманью скрыты,
Храня святых могил чудотворящий прах.
Они у королей нашли себе защиту
И золото взамен дарили королям.
С годами ширились селений их границы,
И города росли. Покорна чернецам,
Земная власть впряглась в их солнца колесницу,
И брызнули на мир зловещие лучи,
И в блеске золота, в дыханье ароматов,
На троне пурпурном, под сенью из парчи
Спесь оплела сердца готических аббатов.
Одеты в мантии, как и князья земли,
Величьем мертвенным слепя народы мира,
У трона папского приют они нашли,
Застыв у ног его, как медные кумиры.
В скитах учение, которое Христос
Дал человечеству, раскрыв для всех объятья,
Ковать свою судьбу упрямо принялось,
Точить оружие… горели страстью братья,
Но их сердец булат чрезмерно был тяжел,
Чтоб хрупкий разум мог служить ему основой —
И рог войны трубил, что добрый бог пришел,
На стягах боевых Христово рдело слово,
Был рукоятью крест для доблестных мечей,
Архангел Михаил топтал стопой Беллону,
И в Риме вознеслась над сонмом королей
Святая папская, из трех венцов, корона.
Так гордо высилось надменное чело
Монастырей! Но вот дыхание Эллады
Неискушенную Европу обожгло,
Как дуновение, исполненное яда,
И ожил старый мир, душою обновясь,
Но мудрость новую впитали и аббаты;
Из крепких дланей в мозг их сила поднялась:
Титаны-воины, которые когда-то,
Развив знамена, в бой летели напролом,
Явились как ума и знания титаны.
Пред верой изгнанной, пред изгнанным Христом
Они своих сердец суровую охрану
Воздвигли, и, как встарь, их пламень запылал,
Хотя, казалось, тьмой уже грозил им жребий, —
И был мистический и бледный идеал
Воздвигнут вновь, и крест опять возник на небе.
Вот были каковы. И гордой их спины
Согнуть не в силах был полет тысячелетий.
А нынче, жалкие, толпой оскорблены,
Поруганы, бледны, одни на целом свете —
И все же гордые, – они мертвы лежат,
Мертвы, навек мертвы под тяжким черным сводом,
Где нет ни ладана, ни плача, ни лампад, —
Гиганты-мертвецы, презренные народом.
Перевод В. Микушевича
Серой рясой прикрыт от соблазна мирского,
Сердцем он походил на Франциска Святого.
Преисполнен любви, доброты, чистоты,
В монастырском саду поливал он цветы.
Словно пламя, в перстах лепестки трепетали,
Наяву и во сне ароматом питали
Эту кроткую жизнь, и любил он за них
Царство красок дневных и видений ночных
И прохладную тьму в предрассветных туманах
С теплым золотом звезд на небесных лианах.
Весь в слезах, как дитя, слушал он допоздна,
Сколько лилий в былом затоптал сатана
И какие тогда были синие дали,
Если там, в синеве, серафимы летали
И процессии дев по просторам земли
Зелень свежую пальм, как молитву, несли,
Чтобы смерть небеса, наконец, даровала
Тем, кто золото чувств отдавал ей, бывало.
Майским утром, когда день-младенец во сне
В крупных брызгах росы улыбался весне
И когда вдалеке, в светлых нимбах мелькая,
Трепетали крыла на окраинах рая,
Был он, кажется, всех на земле веселей,
Украшая алтарь в честь любимой своей
Пресвятой госпожи, богородицы-девы,
Ей вверяя себя, и сады, и посевы.
Ей хотел он отдать все, чем был он богат,
Чтоб могла вознестись в богородицын сад
Белой розой душа, непорочной и чистой,
Лишь восход пережив, благодатно лучистый.
И когда ввечеру, не жалея ничуть,
Отлетала душа в свой таинственный путь,
Не оставив клочка обездоленной жизни
На колючих кустах в этой тусклой отчизне,
Вечный запах цветов, нежный тот фимиам
С давних пор хорошо был знаком небесам.








