Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы
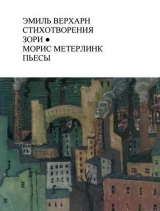
Текст книги "Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы"
Автор книги: Морис Метерлинк
Соавторы: Эмиль Верхарн
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
Перевод А. Голембы
I
В Голландии, чье сердце пронзено
Хитросплетеньем рек кровоточащих,
Близ пустошей, в забвенье уходящих,
Любовь их родилась давным-давно.
Покинутый, нелепый флигелек
Их пережил, легендою облек
И полувоскресил
Воспоминанье о полузабытых —
В краю, где позолота на бушпритах
Огромных кораблей, едва ль не вросших в ил.
К возлюбленным пришла беда.
В тот знойный августовский день
Он уезжал бог весть куда,
Но знал, что, возвратясь
Из тысяч дней
Борений и побед,
Он снова будет с ней,
Что ей он принесет – с душою вдохновенной
И ясностью очей и силой крепких рук —
Круг бесконечности, сомкнувшийся вокруг
Вселенной!
Он увидал морей безмерных переливы,
И в дебрях зарослей – заветные заливы;
И как в лесной глуши, обуглен и багрян,
Колдует сонм ветвей над знойным небом бури,
И белых обезьян, проказниц обезьян,
На вервиях ветвей, сплетенных из лазури!
В кораллах островов ему открылась даль,
Воскрылья странных птиц и клювов их эмаль,
И в злате, в пурпуре, в роеньях перламутра,
В миражах дальних гор пред ним вставало утро.
Он брел по влажному нездешнему песку
И погружался вдруг в сладчайшую тоску,
Как будто нет уже ни скорби, ни разлуки,
Как будто по вискам скользят любимой руки,
Которые из той, из отческой земли,
Чрез беспредельность волн в лазоревой пыли,
Отраду и любовь скитальцу принесли!
А там, в Голландии, в стенах, плющом увитых,
Она средь пустошей и палуб деловитых
Одним лишь им жила, и письма берегла…
На этом бархате влюбленные лежали!
(Мореный дуб шкафов, и кресел, и стола,
Подушек вмятины – благой любви скрижали!)
Вот зеркала кристалл – ужель и вправду в нем
Скрещались взоры их, пылавшие огнем?
Так, вплоть до слов любви в резном ларце кургузом,
Все здесь, немотствуя, звучало их союзом!
Порою, под вечер, закатный небосклон
К сквозной ограде льнул, угрюм и утомлен, —
И руки милые, с медлительностью верной,
Касались губ ее, грудей и щек и глаз;
Казалось ей, что в них был набожный экстаз,
Благоговейный пыл и зов и зной безмерный!
Какою радостью она цвела, какой
Веселостью цвела! Ни бури, ни печали,
Ни горести – ее ничуть не омрачали,
Затем, что в ней царил волшебный непокой,
Когда она, во мгле свою лелея муку,
Лобзала пылкую и дерзостную руку.
Казалось, что сердца их связаны навек!
В краю угрюмых скал и полноводных рек,
Везде, где он шагал с опасностью бок о бок,
В равнинах и в степях, в трясинах и в чащобах,
И в полночь лунную, под золотом огней,
Ее он чувствовал и думал лишь о ней;
И, заключив ее в своей душе и теле,
Сквозь все препятствия он шел к далекой цели!
II
Но как-то под вечер, в какой-то дивный час,
Он, возвратясь в страну, где рекам счет потерян,
Где каждый клок земли на совесть перемерян,
Где над лачугами – кирпичный акведук,
В столпотворении церквей и водокачек,
Он город увидал, и сердце, будто мячик,
Запрыгало в груди – и обновилось вдруг.
Гранитно-золотым
Навис тот город садом, —
Весь в рокоте глухом,
В крови, в дыму седом;
И раскаленных волн безжалостный содом
Морскою солью льнул к сверкающим фасадам, —
И в комья копоти вонзались, как клинки,
Внезапные свистки,
И от цистерн несло зловоньем керосина,
Но свежестью лесной дышала древесина
У пирсов гавани, где пасмурность болот
Гудками хриплыми будил торговый флот.
Висячих фонарей мерцающий оскал
Нежданно озарял весь этот мрак летучий,
Где башня – теменем – сливалась с черной тучей
И крытый рынок в ночь проемами сверкал.
И веера лучей цвели на влаге пенной,
И высился маяк, своим лучом разжав
Туман, чтоб корабли из варварских держав
Сюда держали курс со всех концов вселенной.
Великим скопищем трагедий и тревог
Тот город-исполин с его срастался телом,
Кичился волею и упованьем смелым
И подводил всему логический итог.
С чудесной ясностью пришелец ощутил
В душе недремлющей прилив блаженных сил, —
Как бы увидел он, вместить пространство силясь,
Что в зеркале души контрасты отразились!
Так, в сердце пестуя грядущую грозу,
Он слился с толпами людскими, там, внизу,
Чтоб повторять потом, с людьми другими вместе,
Их крики и шаги. Быть с ними в каждом жесте.
Как были мускулы его напряжены,
Когда, ему в лицо дыша волшебным жаром,
Всхрапнул локомотив, окутав мятым паром
Могучие свои стальные шатуны!
Вот так в душе его, податливой и кроткой,
Был город утвержден, со всей его походкой,
Со всею поступью горячечных недель,
Со всею ритмикой вибрирующей стали, —
Гигант, прядущий времени кудель!
Ну, а любимая? Увы! В какой печали
Терзалась бедная! Молитву сотворя,
Душа ее рвалась куда-то за моря!
А в сердце тяжкое забвенье и усталость, —
В пустом пространстве грез вдруг сердце заметалось:
Все вещи стали вдруг угрюмей и бедней,
Нахмурился диван, свидетель лучших дней,
Постыдно выцвела обивка милых кресел;
А ветер под вечер в деревьях куролесил,
Угрюмый, сумрачный, жестокий, как палач;
И в сердце властвовал его охрипший плач!
III
Пока в ее душе, истерзанной тоской,
Сменялись образы печали колдовской,
Он в битву ринулся, и все клинки запели,
Внезапно закалясь, как в огненной купели.
Судьбу в дугу сгибать он волею привык,
Так вихрь с востока гнет податливый тростник;
И молниями гроз над ним цвело крылато
Все озарившее чудовищное злато!
Он стал повелевать, сжигая, как огонь,
Все наважденья бед, препятствий и погонь.
Но, мощью овладев поистине державной,
Он чаровал людей своей улыбкой славной.
Он верил в добрый свет высокого ума
И в то, что движет им История сама.
Искатели его, ведомые гордыней,
Бурили землю там, где вечный лед и иней,
Он знал, что их кирки вопьются в землю впредь
Лишь там, где прячутся от глаз свинец и медь,
Где олово лежит, и серебро, и злато.
…Большие корабли, груженные богато,
Сокровища всех стран, кряхтя, везли ему,
Он именем своим украсил их корму.
Он подчинил их так, как волны не смогли бы.
Случалось, что слова, тяжелые, как глыбы,
Срывались с губ его. В неведомый предел
Под лампой, вечером, не видя, он глядел,
Над письменным столом, на славу поработав
И чуть не опьянясь от всех своих расчетов.
Он подчинил себе винты и якоря,
И мрак пакгаузов, и синие моря,
В безмерном ритме дней взманил он всё на свете —
Экватор, полюса, ночных созвездий сети, —
Он в грудь свою вобрал восторг, и блеск, и зной,
И стужу льдистую в безгранности земной!
IV
Недавние часы затишья и отрады,
Счастливые часы, о, как вы хороши!
Всей силой любящей души
Она его ждала, забыв про все преграды.
Но в дальней стороне, несправедлив и строг,
Он зовом любящей жестоко пренебрег;
Пути предвечных сил в его душе скрещались,
Он многое постиг, ликуя и печалясь;
Повиновался он, познав волшебный страх,
Закону, что царит в космических мирах;
В нем счастья времена тускнели, как в старинных
Полотнах: все цвело на фоне золотом,
Но выцвело потом
Очарованье сцен картинных!
О, эта зимняя трагическая ночь, —
Упало зеркальце, где их любовь томилась,
Где, взоры их скрестив, томленье затаилось,
Упало на паркет, упало и разбилось, —
Из пальцев любящей выскальзывая прочь.
И сердце сделалось надгробьем роковым,
Что память озарит светильником живым.
Тускнея, как цветок, как зеркальца осколок,
Она узнала, сколь осенний вечер долог!
А те, которые вернулись в старый свет,
При ней всегда блюли молчания обет.
И ни одна волна в эфирном океане
Не выплеснулась к ней в часы рассветной рани.
Но в синеву пучин впивался нежно вдруг
Взор, хорошеющий от неизбывных мук.
И расцвела любовь с такою силой шалой
В ее больной душе, тенистой, и усталой,
И полной нежности слепой,
Что смерть скользнула к ней незримою тропой;
И зимним вечером, когда белым-бела
Равнина плоская под кровлей снега зыбкой,
Любимого простив с блаженною улыбкой,
Неслышная, она неслышно умерла.
И вот теперь,
В Голландии, чье сердце пронзено
Хитросплетеньем рек кровоточащих,
Близ пустошей, в забвенье уходящих,
Где родилась любовь давным-давно,
Покинутый, нелепый флигелек
Их пережил, – легендою облек
И полувоскресил
Воспоминанье о полузабытых, —
В краю, где позолота на бушпритах
Огромных кораблей, едва ль не вросших в ил.
Перевод В. Дмитриева
Когда моя душа, почуяв близость битвы,
В грядущее стремит полет —
Во мне растет,
Как в детстве, пламенный, давно забытый пыл,
С каким я некогда твердил
Слова молитвы.
Иные, повзрослев, я бормочу слова,
Но прежняя мелодия жива
И сердце мне волнует неизменно
И в такт его биениям поет,
Когда во мне восторга молот бьет
И я себя люблю самозабвенно.
О, искра, что блестит из глубины времен,
Молитва новая, иной святыне!
Грядущее! Тобой я вдохновлен,
Не бог, а ты владычествуешь ныне.
Ты будешь в людях жить, веселых и простых,
Ты станешь мыслями, глазами, плотью их.
Далекие! Пусть вы в мечтах не таковы,
Какими будете, планеты заселяя,
Не все ль равно мне, если вы
Мой пробудили дух, величьем окрыляя?
Как близки мне ваш трепет, ваш восторг,
О люди дней грядущих,
Потомки тех, чей труд еще не всё исторг
Из недр, так долго ждущих!
Я посвящаю вам, хозяева земли,
Весь жар моей любви, безмерно одинокой.
Пытались погасить его, но не могли
Дни вереницею жестокой.
Я не из тех, кто в прошлое влюблен,
Кто тишиной его дремотной усыплен.
Борьба, опасности, что требуют усилья,
Влекут меня… Хочу лететь в зенит,
И не могу себе подрезать крылья,
И неподвижность мертвых мне претит.
Люблю я наших дней глухое беспокойство,
Волнующее веянье идей,
Труды и подвиги, стремления, геройство
Бесстрашных тех людей,
Что пролагают путь, дерзая и творя,
Хотя еще не занялась заря.
В чем радость? Воспарять душою окрыленной
В великие часы, когда гремит прибой
Проклятий и угроз, когда самим собой
Становишься, забыв о вере обыденной.
В чем радость? Отогнать весь рой сомнений прочь.
И в бой не опоздать, и страх свой превозмочь,
Быть храбрым, и любить стремительность порыва,
И молодости слать привет вольнолюбивый.
В чем радость? Подарить властительный свой стих
Народу: он поймет всю горечь строф твоих,
Всю пылкость их поймет и, может быть, прославит.
В чем радость? Смысл вложить в ту цепь страстей людских,
Которая так душит нас и давит,
Затем соединить могучей цепью той
Век нынешний и век грядущий золотой.
В чем радость? Отступать лишь для того в борьбе,
Чтоб силы накопить для схватки новой,
И, зная, что потомкам, не тебе
Достанется венок лавровый
И что не вовремя отважный подвиг твой, —
Все ж ратоборствовать с рутиной и с судьбой,
Грядущего во всем провидеть очертанья.
И, пронеся сквозь страх, отчаянье и тьму,
Хранить, наперекор всему,
Огонь заветный упованья,
И чувствовать в закатный час,
Что у тебя в душе светильник не погас,
И в ней трепещут вновь молитвы,
И новой веры в ней рождается порыв,
Все чаянья веков в закон объединив,
Чтоб мир и человек вздохнули после битвы.
Перевод Вс. Рождественского
Вся Фландрия
Мы мирно курс ведем под звездными огнями,
И месяц срезанный плывет над кораблем.
Нагроможденье рей с крутыми парусами
Так четко в зеркале отражено морском!
Ночь вдохновенная, спокойно холодея,
Горит среди пространств, отражена в волне,
И тихо кружится созвездие Персея
С Большой Медведицей в холодной вышине.
А снасти четкие, от фока до бизани,
От носа до кормы, где светит огонек,
Доныне бывшие сплетеньем строгой ткани,
Вдруг превращаются в запутанный клубок.
Но каждый их порыв передается дрожью
Громаде корабля, стремящейся вперед;
Упругая волна, ложась к его подножью,
В широкие моря все паруса несет.
Ночь в чистоте своей еще просторней стала,
Далекий след кормы, змеясь, бежит во тьму,
И слышит человек, стоящий у штурвала,
Как весь корабль, дрожа, покорствует ему.
Он сам качается над смертью и над бездной,
Он дружит с прихотью и ветра и светил;
Их подчинив давно своей руке железной,
Он словно и простор и вечность покорил.
{38}
Перевод А. Блока
В зимний вечер, когда запирались
С пронзительным визгом ставни
И зажигались
В низенькой кухне лампы,
Тогда звенели шаги, звенели шаги,
Вдоль стены, на темной панели – шаги, шаги.
Уже дети в постелях закутались,
Их игры спутались;
И деревня сгустила тени крыш
Под колокольней;
Колокол бросил в мир дольний из ниши
Часы – один – и один – и два.
И страхи, страхи без числа;
Сердца стуки – вечерние звуки.
Воля моя покидала меня:
К ставне прильнув, я слушал томительно,
Как те же шаги, все те же шаги
Уходят вдаль повелительно,
Во мглу и печаль, где не видно ни зги.
Я различал шаги старушки,
Фонарщиков, дельцов
И мелкие шажки калечной побирушки
С корзиной мертвых барсуков;
Разносчика газет и продавщицы,
И Питер-Хоста, шедшего с отцом,
Воздвигшего вблизи распятья дом,
Где золотой орел блестит на легком шпице.
Я знал их все: одним звучала в лад клюка
Часовщика; другим – костыль убогий
Монашенки, в молитвах слишком строгой;
Шаги пономаря, что пьет исподтишка, —
Я различал их все, но остальные чьи же?
Они звенели, шли – бог весть, откуда шли?
Однообразные, как «Отче наш», они звучали ближе,
Или пугливые – то сумасшедшие брели вдали, —
Иль тяжкие шаги, – казалось,
Томленьем всех времен и всех пространств обременялась
Подошва башмака.
И был их стук печален и угрюм
Под праздник Всех Святых, когда протяжен шум, —
То ветер в мертвый рог трубит издалека.
Из Франции влачили ноги,
Встречались на большой дороге, —
Когда сошлись, куда опять ушли?
И, углубясь опять, бредут в тени бессменной
В тот мертвый час, когда тревожные шмели
По четырем углам вселенной
Звенели, как шаги.
О, дум их, их забот бесцельные круги!
О, сколько их прошло, мной всё не позабытых!
Кто перескажет мне язык их странствий скрытых,
Когда я их стерег, зимой, исподтишка,
Когда их шарканий ждала моя тоска,
За ставней запертой, на дне деревни старой? —
Раз вечером, в телеге парой,
Железо, громыхая, провезли
И у реки извозчика убитого нашли;
Он рыжий парень был, из Фландрии брел к дому.
Убийцу не нашли с тех пор,
Но я… о! чувство мне знакомо,
Когда вдоль стен моих царапался топор.
А вот еще: свой труд дневной кончая,
Наш пекарь, весь в муке, ларек свой запирал
И даму странную однажды увидал, —
Колдунья здесь она, а там – святая, —
Соломой золотой одета, за углом
Исчезла – и вошла на кладбище потом;
А я, в тот самый миг, в припадке,
Услышал, как плаща свернулись складки:
Так землю иногда скребут скребком.
И сердце так стучало,
Что после долго – из глубин
Души – мне смерть кивала.
А тем, – что делать им среди равнин,
Другим шагам, несметным и бесплодным,
Подслушанным на Рождестве холодном,
Влекущимся от Шельды, сквозь леса? —
Сиянье красное кусало небеса.
Одних и тех же мест алкая,
Издавна, издали, в болотах, меж травы,
Они брели, как бродит сила злая.
И вопль их возлетал, как хрип совы.
Могильщик шел с лопатой следом
И хоронил под ярким снегом
Громаду сложенных ветвей
И окровавленных зверей.
Душа еще дрожит, и ясно помнит разум
Могильщика с лопатой на снегу,
И призраки сквозь ночь мигают мертвым глазом,
Взметенные в пылающем усталостью мозгу, —
Шаги, услышанные в детстве,
Мучительно пронзившие меня
В сторожкие часы, во сне, в бреду мучений,
Когда душа больна и стиснуты колени,
Они бегут, в крови ритмически звеня.
Из теней дальних, далей синих
Угрюмо-грузные, в упорной и тяжелой тишине.
Земля пьяна от них. Сочти их!
Сочти листы, колосья, снег в небесной вышине!
Они, как вести грозной мести, —
С раскатным шорохом, вдали,
В ночной тени, верста к версте, они
Протянут тусклые ремни,
И от одной страны, и от одной петли
Замкнется обруч их вдоль всей земли.
О! как впились и плоть прожгли
Шаги, шаги декабрьской тьмы,
И светлые пути зимы, —
Со всех концов земли – сквозь комнату прошли!
Перевод А. Корсуна
О, дом, затерянный в глуши седой зимы,
Среди морских ветров, и фландрских дюн, и тьмы!
Едва горит, чадя, светильня лампы медной,
И холод ноября, и ночь в лачуге бедной.
Глухими ставнями закрыт провал окна,
И тенью от сетей расчерчена стена.
И пахнет травами морскими, пахнет йодом
В убогом очаге, под закоптелым сводом.
Отец, два дня в волнах скитаясь, изнемог.
Вернулся он и спит. И сон его глубок.
Ребенка кормит мать. И лампа тень густую
Кладет, едва светя, на грудь ее нагую.
Присев на сломанный треногий табурет,
Кисет и трубку взял угрюмый старый дед.
И слышно в тишине лишь тяжкое дыханье
Да трубки сиплое, глухое клокотанье.
А там, во мгле,
Там вихри бешеной ордой
Несутся, завывая, над землей.
Из-за крутых валов они летят и рыщут,
Бог весть какой в ночи зловещей жертвы ищут.
Безумной скачкой их исхлестан небосклон.
Песок с прибрежных дюн стеной до туч взметен…
Они в порыве озлобленья
Так роют и терзают прах,
Что, кажется, и мертвым нет спасенья
В гробах.
О, как печальна жизнь средь нищеты и горя
Под небом сумрачным, близ яростного моря!
Мать и дитя, старик в углу возле стола —
Обломок прошлого, он жив, но жизнь прошла.
И все-таки ему, хоть велика усталость,
Привычный груз труда влачить еще осталось.
О, как жестока жизнь в глуши седой зимы,
Когда валы ревут и вторят им холмы!
И мать у очага, где угасает пламя,
Ребенка обняла дрожащими руками.
Вой ветра слушает, молчит она и ждет,
Неведомой беды предчувствуя приход,
И плачет и скорбит. И дом рыбачий старый,
Как в кулаке гнездо, ноябрь сжимает ярый.
Перевод Г. Шенгели
{39}
Ведя ряды солдат, блудниц веселых круг,
Ведя священников и ворожей с собою,
Смелее Гектора, героя древней Трои,
Гильом Жюлье, архидиакон, вдруг
Пришел защитником страны, что под ударом
Склонилась, – в час, когда колокола
Звонили и тоска их медная текла
Над Брюгге старым.
Он был горяч, и юн, и жаркой волей пьян;
Владычествовал он над городом старинным
Невольно, ибо дар ему чудесный дан:
Везде, где б ни был он, —
Быть господином.
В нем было все: и похоть и закон;
Свое желание считал он высшим правом,
И даже смерть беспечно видел он
Лишь празднеством в саду кровавом.
Леса стальных мечей и золотых знамен
Зарей сверкающей закрыли небосклон;
На высотах, над Кортрейком безмолвным,
Недвижной яростью застыл
Французов мстительных неукротимый пыл.
«Во Фландрии быть властелином полным
Хочу», – сказал король. Его полки,
Как море буйное, прекрасны и легки,
Собрались там, чтоб рвать на части
Тяжелую упрямую страну,
Чтоб окунуть ее в волну
Свирепой власти.
О, миги те, что под землею
Прожили мертвые, когда
Их сыновья, готовясь к бою,
С могилами прощались навсегда,
И вдруг щепоть священной почвы брали,
С которою отцов смешался прах,
И эту горсть песка съедали,
Чтоб смелость укрепить в сердцах!
Гильом был здесь. Они катились мимо,
Грубы и тяжелы, как легионы Рима, —
И он уверовал в грядущий ряд побед.
Велел он камыши обманным покрывалом
Валить на гладь болот, по ямам и провалам,
Которые вода глодала сотни лет.
Казалось твердою земля, – была же бездной.
И брюггские ткачи сомкнули строй железный,
По тайникам глухим схоронены.
Ничто не двигалось. Фламандцы твердо ждали
Врагов, что хлынут к ним из озаренной дали, —
Утесы храбрости и глыбы тишины.
Легки, сверкая и кипя, как пена,
Что убелила удила коней,
Французы двигались. Измена
Вилась вкруг шлемов их и вкруг мечей, —
Они ж текли беспечным роем,
Шли безрассудно вольным строем, —
И вдруг: треск, лязг, паденья, всплески вод,
Крик, бешенство. И смерть среди болот.
«Да, густо падают: как яблоки под бурей», —
Сказал Гильом, а там —
Все новые ряды
Текли к предательски прикрытой амбразуре,
На трупы свежие валясь среди воды;
А там —
Всё новые полки, сливая с блеском дали,
С лучом зари – сиянье грозной стали,
Все новые полки вставали,
И мнилось: им глаза закрыв,
В горнило смерти их безумный влек порыв.
Поникла Франция, и Фландрия спаслась!
Когда ж, натужившись, растягивая жилы,
Пылая яростью, сгорая буйной силой,
Бароны выбрались на боевых конях
По гатям мертвых тел из страшного разреза, —
Их взлет, их взмах
Разбился о фламандское железо.
То алый, дикий был, то был чудесный миг.
Гильом пьянел от жертв, носясь по полю боя;
Кровь рдела у ноздрей, в зубах восторга крик
Скрипел, и смех его носился над резнею;
И тем, кто перед ним забрало подымал,
Прося о милости, – его кулак громадный
Расплющивал чело; свирепый, плотоядный,
Он вместе с гибелью им о стыде кричал
Быть побежденными мужицкою рукою.
Его безумный гнев рос бешеной волною:
Он жаждал вгрызться в них и лишь потом убить.
Чесальщики, ткачи и мясники толпою
Носились вслед за ним, не уставая лить
Кровь, как вино на пире исступленном
Убийств и ярости, и стадом опьяненным
Они топтали всё. Смеясь,
Могучи, как дубы, и полны силы страстной,
Загнали рыцарей они, как скот безвластный,
Обратно в грязь.
Они топтали их, безжизненно простертых,
На раны ставя каблуки в упор,
И начался грабеж оружья, и с ботфортов
Слетали золотые звезды шпор.
Колокола, как люди, пьяны,
Весь день звонили сквозь туманы,
Вещая о победе городам,
И герцогские шпоры
Корзинами несли бойцы в соборы
В дар алтарям.
Валяльщики, ткачи и сукновалы
Под звон колоколов свой длили пляс усталый;
Там шлем напялил шерстобит;
Там строй солдат, блудницами влекомый,
На весь окутанный цветным штандартом щит
Вознес Гильома;
Уже давно
Струился сидр, и пенилось вино,
И брагу из бокалов тяжких пили,
И улыбался вождь, склоняясь головой,
Своим гадальщикам, чьих тайных знаний строй
У мира на глазах цвет королевских лилий{40}
Ему позволил смять тяжелою рукой.

Верхарн. «Зори»








