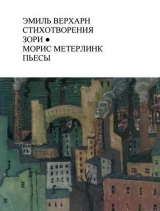
Текст книги "Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы"
Автор книги: Морис Метерлинк
Соавторы: Эмиль Верхарн
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)

Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори
•
Морис Метерлинк Пьесы
Перевод с французского
О двух знаменитых бельгийцах
В конце XIX века в созвездии имен, представляющих классику всемирной литературы, появились имена бельгийские. Появились они с большим запозданием и, в сущности, неожиданно. До того времени хорошо были известны фламандские имена, но то были имена не писателей, а художников из старой «фламандской школы» (Рубенс, Иорданс, Ван-Дейк и др.). К новому же времени и живопись пришла в упадок в той части Европы, которая после тяжелой и долгой предыстории лишь в 1830 году превратилась в самостоятельное бельгийское государство.
Знаменитый французский критик Ипполит Тэн в конце 60-х годов прошлого века сделал по поводу бельгийской литературы безапелляционное заключение: «Такой литературы почти не существует».
Можно сказать, что не успел Тэн произнести свой приговор, как он был опровергнут самым убедительным образом. В последние дни 1867 года появилась «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» Шарля де Костера. В те времена имя де Костера не было известным не только за пределами, но и в пределах Бельгии. Тем не менее «от поэмы Шарля де Костера произошла бельгийская литература», по категорическому, но в общем верному определению Ромена Роллана.
«Быть собой» стремилась литература, чье развитие было ускорено борьбой за независимость страны. В границах государства бельгийского после революции 1830 года были объединены две различные народности – фламандцы, чей язык принадлежит германской группе и близок голландскому, и франкоязычные валлоны. «Бельгийского» языка не существует. Если представить себе к тому же десятки бытующих на территории Бельгии фламандских и валлонских диалектов, то картина получается весьма и весьма пестрая. Тем более, что буржуазное бельгийское государство, едва успев сложиться, до предела довело национальную рознь.
Желание бельгийцев «быть собой» сразу же вобрало в себя два сплетенных в труднорасплетаемый узел стремления – центростремительное и центробежное, желание «быть бельгийцем» и желание «быть фламандцем», «быть валлоном», «быть брюссельцем». Первое, центростремительное, сыграло свою роль в XIX веке, отразив борьбу за национальную независимость, за самостоятельную культуру. Второе, центробежное, берет верх ближе к нашему времени, когда развиваются составляющие Бельгию народности, а патриотические лозунги «единой Бельгии» превращаются в ура-патриотическую демагогию, призванную укрепить буржуазное государство и идеализировать его.
С самого начала французский язык неизменно использовался бельгийской буржуазией для наступления на права фламандцев и их языка, для укрепления унитарного государства, основанного на неравенстве. Однако, при парадоксальном и противоречивом развитии этой страны, – в определенный момент, в XIX веке, в эпоху Верхарна, – именно французский язык сыграл роль исключительную и особенную. Под лозунгом «быть собой» развивалась фламандская литература, давшая в прошлом веке таких значительных писателей, как Хендрик Консьянс, Гвидо Гезелле, Стейн Стревелс. Но де Костер, и Верхарн, и Метерлинк, и Роденбах, и Лемоннье, то есть писатели, которым принадлежит первостепенное значение в формировании самостоятельной бельгийской культуры, – все они писали по-французски.
Французский язык в Бельгии прошлого века сыграл роль могучего рычага, который помог бельгийской литературе «стать собой», выйти из плачевного состояния и достичь мировых литературных стандартов. «Защищая французскую культуру, я защищаю свою культуру, защищая французский язык, я защищаю свой язык» – так определял свое отношение к языку Эмиль Верхарн. Во времена Верхарна именно французский язык позволил бельгийской литературе подняться над провинциализмом, над узким, националистическим толкованием лозунга «быть собой». И не помешал тому «открытию Бельгии», которое совершали литераторы, сражавшиеся за самобытную бельгийскую культуру. Нет сомнения в том, что внезапный выход бельгийской литературы на мировую арену – прямое следствие этого процесса самоутверждения, этой потребности в открытии себя, вызвавшей необычайную активизацию духовных сил маленькой Бельгии.
Став собой, выдающиеся бельгийские писатели приобрели интерес для других. Интерес этот лишь отчасти питается бельгийской экзотикой, этнографической ценностью де Костера или Верхарна. Интенсивное познание себя, своей страны, своего времени вывело крупнейших бельгийских писателей к главным закономерностям эпохи, к ее доминирующим признакам. Это и сделало их крупнейшими бельгийскими писателями и писателями всемирной литературы, ушедшими далеко за те деревенские околицы, которые казались горизонтом немалому числу писателей, отождествивших Бельгию со своей деревней, а магистрали современности – с родной улочкой.
Отсюда проистекает значение Эмиля Верхарна. Верхарн кажется осью бельгийской литературы, стержнем, на который нанизываются главные из ее свойств, основные ее увлечения, направления ее развития. Дело тут не только в одаренности поэта, одаренности, конечно, исключительной. Дело в непрестанной потребности «быть собой», которая породила органическую потребность «непрестанно наблюдать реальность», превратив Верхарна в великого бельгийского реалиста. Став выразителем духа своего народа, Верхарн с необычайной силой выразил демократические, революционные тенденции целой эпохи. Когда русский революционер Владимир Ленин по ночам зачитывался бельгийцем Верхарном, когда в предреволюционной России (Верхарн приехал в Россию в конце 1913 г.) его с восторгом встретили русские пролетарские поэты, это было – смеем высказать предположение – не только потому, что Верхарн поэт первоклассный, но и потому, что на пороге XX столетия его поэзия предвещала суть нового века как века революций, века великих свершений человечества.
А Метерлинк? Метерлинк тоже выбрался за бельгийскую «околицу», тоже преодолел бельгийский провинциализм и стал у порога XX века как характерная и выразительная фигура. Но прежде чем и он заговорил о возможностях человека, он представил его существом, лишенным каких-либо возможностей. Создатель символистского «театра смерти», Метерлинк стал классической фигурой международного декаданса. В этом, само собой разумеется, тоже заключен пророческий смысл.
Верхарн и Метерлинк – две ключевые фигуры, возникшие в преддверии новой эпохи, как ее олицетворение, как обозначение исторической границы.
* * *
Эмиль Верхарн родился в 1855 году, Морис Метерлинк – в 1862. Верхарн родился в Сент-Амане, что возле Антверпена, Метерлинк – в Генте. Таким образом, оба они из одной провинции, из Восточной Фландрии, оба фламандцы. Вышедшие из буржуазных семей, Верхарн и Метерлинк получили сходное, обычное для тогдашних обеспеченных молодых людей образование – сначала в иезуитском коллеже (в одном и том же коллеже города Гента, но Метерлинк поступал, когда Верхарн оканчивал), где обучение шло на французском языке и вообще «по-французски», потом в университете. Оба изучали право, и оба к юриспруденции никакого интереса не проявили.
И Верхарн, и Метерлинк проявили интерес к поэзии, к искусству. Начали они со стихов: в 1883 году выходит первый сборник стихотворений Верхарна («Фламандки»), и тогда же несколько стихотворений Метерлинка появляются в журнале «Молодая Бельгия».
Оба писателя сотрудничали в этом журнале, который сыграл исключительную роль в развитии бельгийской литературы. «Молодая Бельгия» выходила с 1881 года, под громко звучавшим тогда в Бельгии лозунгом – «будем собой». Однако очень скоро в движении за самоопределение бельгийской литературы наметился раскол, обозначилось два направления этого движения. Одно из них определилось как искусство «социальное», другое – как «асоциальное». В недрах первого созревал реализм, в недрах второго – символизм и другие декадентские школы.
Пути Верхарна и Метерлинка довольно быстро разошлись по этим главным направлениям бельгийского литературного процесса. В начале 90-х годов Верхарн и Метерлинк оказываются на различных полюсах бельгийской, а вместе с тем и мировой литературы: один приступает к созданию монументальной социальной трилогии, великому документу реализма и романтизма в поэзии, другой пишет символистские драмы из цикла «театра смерти».
К социальной трилогии Верхарн шел с первых же шагов в поэзии, с первого сборника, с «Фламандок». За «Фламандками» в 1886 году появились «Монахи». Родина – вот над чем раздумывает поэт, вот чей портрет он создает. Разбросанные на равнинах северной Бельгии фермы, монастыри, церкви – все это приметы бельгийского пейзажа, признаки родного края, его поэтизируемая повседневность. Уже первые стихи Верхарна поражают монументальностью и демократичностью. Стремясь «стать собой», изображая родину, бельгийские писатели преимущественно писали о народе, о деревне, именно там разыскивая специфичность и близость природе, способность к «сохранению себя». Для бельгийской литературы времени Верхарна не редкость «рассказы в деревенских башмаках», произведения, намеренно «обутые» в простую доступную форму.
«Фламандки» воспевают деревню и ее обитателей, ведут читателя на ферму, в амбар, на кухню, рисуют быт крестьянина со множеством совершенно прозаических деталей. Героем поэзии Верхарна оказывается простолюдин, крестьянин, точнее крестьянка, «фламандка», воплощение силы, естественной красоты, которая не нуждается в «румянах», ибо прекрасна, как сама природа. Поэта привлекают монументальные фигуры, могучие страсти – будь то плотские страсти крестьян или же исступленная вера монахов.
«Фламандки», «Монахи» – первая стадия наблюдения реальности в творчестве Эмиля Верхарна. Пока еще это наблюдение извне, улавливающее внешние приметы, внешнюю красоту, игру красок. «Картинное» Изображение деревни подчиняется романтической концепции. «Фламандки прошлых времен» (так и называется завершающее сборник стихотворение) – образ в немалой степени условно-литературный. Он кажется срисованным с натюрмортов старой фламандской школы, срисованным, правда, рукой настоящего мастера. В простоте раннего Верхарна есть нарочитость стилизации.
«Эпические монахи» Верхарна тоже не свободны от стилизации, от романтического преувеличения. Но во втором сборнике приоткрылся идейно-эстетический смысл романтизма раннего Верхарна. В «Монахах» заметнее первые результаты изучения современной реальности. И результаты эти неутешительны. «Фламандки» – статичны, в «Монахах» фиксируется движение, эволюция, в основе которой соотнесение и характеристика различных периодов человеческой истории. «Агония монахов» в стихах Верхарна – символ всеобщей деградации, символ движения от прошлого времени, где было нечто яркое, мощное, к нынешнему времени, когда все поблекло, когда «все рушится и умирает».
Перед лицом этого мира Верхарн тотчас же растерял свои романтические иллюзии. Возникает под его пером то, что может быть названо «трагической трилогией», – три сборника второй половины 80-х годов: «Вечера» (1887), «Крушения» (1888), «Черные факелы» (1890).
Верхарн был поэтом универсальным, и первый резкий поворот его искусства, сверкающего самыми различными гранями, заключается в стремительном переходе от поэзии описательной, безличной, к стихам лирическим, поражающим своей искренностью. Трагическая трилогия, однако, не стала документом субъективизма. Для Верхарна изоляция от внешнего мира была просто-напросто делом невозможным. Считая искренность признаком истинной поэзии, Верхарн даже в исповеди поэта видел связь с временем.
Исповедь самого Верхарна в те годы была окрашена в тона трагические. Освобождаясь от романтической идеализации плотской красоты фламандок и религиозного исступления монахов, поэт оказывался перед пустотой. «Нет ничего», – восклицал он и бесконечно варьировал этот мотив, мотив опустошения, безысходности, абсурдности бытия.
Пессимизм Верхарна питался и литературными влияниями. Именно в это время он знакомится с французским декадансом, его поражает Бодлер, увлекают символисты, особенно Малларме и меланхолическая поэзия Верлена. Поэзия самого Верхарна соприкасается с символизмом – появляются стихотворения («Числа» и др.), похожие на ребусы, содержащие чисто субъективный образ обезумевшей, потерявшей всякий смысл действительности. Образы смерти, гибели, распада, гниения наводняют стихи Верхарна.
Именно в это мгновение пересекаются пути Верхарна и Метерлинка: «Черные факелы» и классическое произведение «театра смерти» пьеса «Слепые» относятся к одному и тому же 1890 году. Можно поэтому счесть 1890 год полюсом в развитии бельгийского декаданса.
Но для поэзии Эмиля Верхарна это было всего лишь мгновение, одна – и не главная – грань его универсальности. Потребность наблюдать реальность, доверие к реальности тут же вывели Верхарна из плена субъективизма. Вот почему трагическая трилогия оказалась не только символистским моментом в движении поэта, но и периодом перехода от романтизма к реализму. Реализму в познании и внешнего мира, и мира внутреннего. Лиричность трагической трилогии была признаком того внезапного открытия «я», которое совершил автор «Фламандок» и «Монахов», обогатив тем самым и свою собственную поэзию, и поэзию вообще.
В трагической трилогии создан потрясающий по искренности, по правдивости, по силе эмоционального впечатления образ страдающей души, повергнутой в отчаянье, в неслыханные муки, оказавшейся на грани самоистязания. Верхарн в те годы был тяжело болен; его стихи правдивы и в силу того, что они воссоздают – искренне, честно – тяжелое физическое состояние поэта. Во множестве произведений, вышедших из-под пера декадентов конца прошлого столетия, воспевалась смерть и воссоздавалась всевозможная патология. Но нередко это были литературные страдания, дань декадентскому мировосприятию. Верхарн же не сочинял страдания – он страдал.
И он выковывал в себе способность к сопротивлению, к преодолению отчаяния. Замечательная особенность трагической трилогии состоит в том, что она отразила формирование незаурядной личности, воспитание мужества, воли к сопротивлению.
Лиризм преобразил поэзию Верхарна. На смену величавому, эпическому александрийскому стиху, который господствует во «Фламандках» и «Монахах», приходит более гибкая, более свободная система стихосложения, соответствующая драматизму, крайней эмоциональности трагической трилогии. На смену подчеркнутой предметности, буквальности образов первых двух сборников приходит сложная метафорическая система. Поэзия Верхарна насыщается символами, внешний мир приобретает смысл иносказательный, отражая настроения и мысли поэта, намекая то и дело на его внутреннее состояние.
Но символика Верхарна выдает и еще одно непременное качество его поэзии. Поэт не мог оторваться от реальности, к идее он идет именно от нее, сохраняя наглядность и зримость образа. Внутреннее состояние поэта даже в трагической трилогии постоянно ищет себе соответствия во внешнем мире. При этом внешний мир лишь в редких случаях – тогда мы имеем дело с символизмом – порабощается, совершенно поглощается миром внутренним. Верхарн чаще тяготеет к созданию реалистических картин внешнего мира, соответствующего миру внутреннему. «Да, ваша скорбь – моя, осенние недели… деревьев плач – мой плач», – восклицает поэт (стихотворение «Осенний час») и рисует правдивую картину осени, когда «под гнетом северным хрипят и стонут ели».
Не случайно именно в трагической трилогии, в большей степени, нежели в «Монахах», возникает облик современности как мира жалкого, пустого, безобразного:
И я оцепенел, и ноги прилипают
К земной грязи, и вонь мне не дает дышать.
(«Вдали»)
Уже не извне созерцает поэт равнины и города своей родины. Он втянут в их трагедии, он страдает вместе с ними. При этом облик настоящего времени социально конкретизируется. В трагической трилогии не только холод, свирепый ветер, осенняя грязь распоряжаются на фламандских равнинах – но и нищета, которая «лачуги сгорбила худые» («Соломенные кровли»). Холодные, равнодушные структуры, сдавившие человека, – порождение враждебных людям законов, прибежище какого-то бесчеловечного общественного механизма («Законы»). Возникает впервые и важнейшая для социальной лирики Верхарна тема города. Сначала город описывается как бы со стороны, со стороны полей, как чуждое им и опасное для них инородное тело, как некое чудище, средоточие порока и грязи, грохота и суеты. Затем этот образ расчленяется, конкретизируется, обретает социальный смысл («Города»).
Социально уточняется уже в трагической трилогии и потребность поэта в сопротивлении, в протесте. В «Черных факелах» есть стихотворение «Мятеж». При всей отвлеченности и экзотичности картины мятежа, чувствуется, что он, как магнит, влечет поэта, что душа поэта там, где взметнулось пламя гнева, мести, борьбы.
Итак, даже трагическая трилогия, которую нередко – и ошибочно – целиком считают декадентским творением Верхарна, помещая заодно всю его поэзию в рубрику символизма конца века, даже трагическая трилогия показывает, сколь естественным для Верхарна был выход к социальной трилогии, стремительное освобождение от плена декаданса.
Были причины, которые ускорили это освобождение. Среди причин называют обычно появление на пути Верхарна женщины, возникновение любви, которая преобразила поэта. Верхарн и сам много раз писал об этом, а главное, отразил свои чувства в циклах стихотворений, посвященных любимой женщине. «Ранние часы» (1896), «Послеполуденные часы» (1905), «Вечерние часы» (1911) – замечательный образец интимной лирики, еще одна грань искусства Верхарна. И опять-таки поражает неспособность поэта забыть о мире, уйти в себя, замкнуться.
Любовная лирика Верхарна в свою очередь знаменует постоянное для бельгийского поэта открытие мира, внимание к реальности. Лирика выражает возникновение и расцвет любви. Мало этого: как и ранее, поэт неизменно ищет соответствия между внутренним состоянием и внешним миром. Поэтому вновь и вновь рисуется этот внешний мир, пишутся проникновенные картины природы. Необыкновенно поэтическим, очищенным любовью, предстает мир окружающих обыденных вещей. «Ранние часы» – образец пейзажной лирики.
И все же, несмотря на все это, возникновение рядом с «Ранними часами» грандиозной социальной трилогии – поразительное свидетельство универсальности Верхарна, его потребности в познании мира. Поэзия Верхарна жадно всасывает в себя действительность. Но это не натуралистическое подбирание с пути всего, что на пути попадется, – нет, Верхарн создает, творит, он тщательно отбирает строительный материал, берет существенное, главное.
Этому отбору содействовала не только исконная наблюдательность и вкус поэта к реальности. К началу 90-х годов Верхарн обретает революционное понимание действительности. С этого времени его поэзия – одно из бесчисленных свидетельств того процесса сближения Искусства с социалистическими идеями, который стал характерным признаком конца XIX – начала XX века. 80—90-е годы в Бельгии – время решительных выступлений пролетариата, мощных забастовок. Рабочая партия Бельгии одерживает крупные победы, социалистическая идеология увлекает интеллигенцию. Бельгийские социалисты организуют в 90-е годы довольно широкое просветительское движение, пытаясь установить прямой контакт творческой интеллигенции и народа, содействовать духовному раскрепощению масс. Верхарн принял участие в деятельности организованных социалистами Народных домов и Новых университетов, читал там лекции.
Все говорило о выходе Верхарна из состояния депрессии, все свидетельствовало о том, что поэт вновь обрел идеал – но уже не романтический, не условно-литературный. Идеал Верхарна основывается теперь на реальности, на познаваемой им сути современного общества, он обращен в будущее, а не в прошлое.
Социальная трилогия – это сборники стихов «Поля в бреду» (1893 г., к нему примыкают «Призрачные деревни» и «Двенадцать месяцев»), «Города-спруты» (1895) и драма «Зори» (1897). Вновь мы оказываемся на тех же полях, на улицах тех же городов, что и в сборниках 80-х годов. Однако уже не картинных фламандок видит поэт на равнинах Бельгии – он видит толпы изможденных людей, бредущих по нескончаемым дорогам. Трагическое восприятие мира, присущее сборникам конца 80-х годов, окончательно сменилось изображением подлинных жизненных трагедий. То, что вызывало у поэта лишь болезненно-острую эмоциональную реакцию, теперь им анализируется, изображается на полотнах социальной трилогии.
Какими категориями мыслит поэт, с какими понятиями он имеет дело – деревня, город, настоящее, будущее! Причем монументальность теперь лишена того привкуса романтической гиперболизации, который оставляют образы крестьян и монахов из ранних сборников Верхарна. Монументальность – от глубины анализа и от широты взгляда, от революционного миропонимания.
Здесь и деревня, изображение трагедии крестьянства, разоряемого быстрой капитализацией, – такой процесс действительно имел место в Бельгии конца прошлого века. Здесь город, чья социальная функция «пожирателя деревень» олицетворяется образом спрута, мощного и грозного. Уточняя социальное содержание понятий деревни и города, Верхарн освобождает их от зашифрованности и неопределенности. Теперь Верхарн предпочитает несложные метафоры, которые в конкретном, наглядном облике представили бы самую суть изображаемого явления. Даже зловещие, кошмарные видения сумасшедшего (семь «Песен безумного» в сборнике «Поля в бреду») лишь усиливают впечатление от подлинно кошмарного существования крестьян, от их беспомощности. Безумцу кажется, что мир прогрызли крысы, а итоговое стихотворение «Полей в бреду», «Заступ», изображает деревню, равнину, ставшую кладбищем, прибежищем смерти, Для эпической поэзии Верхарна характерны чрезвычайная обобщенность и удивительная наглядность. Верхарн как бы мыслит полотнами, он имеет в виду явления, но явления в его стихах живут, они конкретны.
Для реализма Верхарна особенно показателен созданный им образ города. Сборник «Города-спруты» принес поэту славу великого урбаниста, одного из зачинателей современной поэзии. Пристально наблюдавший реальную жизнь, Верхарн очень быстро к конфликту деревни и города добавил те конфликты, которые присущи самому городу. «Город-спрут» – образец поэтической живописи. Цельная картина возникает из-под пера Верхарна, картина не внешних признаков, не архитектурных особенностей, а картина социального бытия города в приметах кипучей и бурной городской жизни, образ сути, «души города».
Именно образ города привнес в поэзию Верхарна подлинное движение. На разоряемых равнинах он видел бегство, бесперспективный исход из «никуда и в никуда» («Исход»). Перспектива возникла с возникновением образа города – «все колеи стремятся в город». Город, в отличие от деревни, представлен поэтом не как нечто застывшее, подвластное лишь гибели, но как концентрация человеческой истории, как сгусток энергии. Город вобрал в себя прошлое, Историю. Но он оказывается и кузницей будущего.
Со сборника «Города-спруты» поэзия Эмиля Верхарна поворачивается к будущему. Стихи великого поэта становятся формой предчувствия грядущего. Они были стихами реалистическими в той мере, в какой это предчувствие основывалось на точном анализе социальных противоречий современности, на характеристике тех именно сил, которые путь к будущему намечают.
Само по себе это было делом уникальным, исключительным. Ведь осуществив точный социальный анализ своей эпохи, Верхарн не перестал быть поэтом, не превратил поэзию в политическую публицистику.
Если пытаться дать ответ на вопрос, в чем секрет огромной популярности Верхарна на рубеже веков, то следует прежде всего ответить: потому что он был поэтом. И, будучи поэтом, доказал, что «поэзия все может».
Развитие поэзии Верхарна было отмечено всесторонностью, сочетанием лиризма и масштабности, монументальности социальных тем и кажущейся камерности тем личных. Поэзия Верхарна похожа на могучий поток, который стремится охватить все, вовлечь в свое течение само существование человека и общества.
Вот в этой колоссальной силе, в этой способности к безграничному обогащению – секрет успеха поэзии Верхарна, его значения для мировой поэзии на рубеже XIX–XX столетий. В те годы очевидным стало, что западноевропейская поэзия импрессионизма, а тем паче символизма идет путем отстранения от земных источников. Для мэтра символизма Стефана Малларме мир существовал, чтобы возникла книга. Для Эмиля Верхарна книга была отражением существования мира, воссозданием бытия.
Необыкновенное обогащение содержания у Верхарна влекло за собой обогащение формы. В социальной трилогии утверждается свободный стих. Верхарн был одним из первых франкоязычных поэтов, заменивших строгие, регламентированные формы традиционного, «правильного» стиха стихом свободным. Случилось это оттого, что Верхарн искал путь к наиболее точному выражению мысли, он искал поэтическую форму, которая позволила бы и помогла бы воспроизвести бесконечное богатство реального мира.
Совершенно прав был Валерий Брюсов, поклонник Верхарна и первый его русский пропагандист, когда писал, что «во власти Верхарна столько же ритмов, сколько мыслей». Форма поэзии Верхарна поразительно подвижна, гибка; жанр, ритм и звуковая система постоянно меняются в зависимости от мысли, от содержания стихотворения. Форма стихов Верхарна отражает верхарновский динамизм, его потребность в движении, в предчувствии и поэтическом предвещании грядущего. Разве сама форма, могучий разворот стиха не воссоздает «душу города» («Душа города») как нечто могучее и живое, подвижное, развивающееся? Достаточно сравнить подобное стихотворение с натюрмортами, изображающими деревню, чтобы ощутить соответствие формы содержанию, поиски жанров, ритмов, которые в состоянии передать богатство реальности с ее законом безостановочного движения, развития к грядущему. Разве суть города не передается свободным ритмом стихотворения «Город» с его подвижными строфами, то тяжеловесными, то сжимающимися, с резкой амплитудой строк, то разбегающихся по странице, то концентрирующих смысл в одном, ударном слове?
Изображение города в стихах Верхарна буквально с каждым стихотворением подчиняется мысли поэта о том, что движение – это порыв к будущему, это созидание нового. Динамика «городов-спрутов» – революционная динамика. «В мысли и в поте гордых рабочих рук» видит Верхарн обещание «новой мечты». Поэт вливается в толпы восставших и вместе с ними – в экстазе, в радостной надежде на будущее – выходит на улицы города.
Так Верхарн, еще не достигнув порога XX века, увидел смысл и значение новой эпохи в социальных преобразованиях, в революции, ощутил и с исключительной силой передал это ощущение вздымающейся, неодолимой волны мятежа. Поэзия Верхарна уподобилась сейсмографу, удивительно точно фиксирующему суть приближающегося века как века преобразований. Помимо социальных – преобразования научные; рядом с восстанием – «искания», воспеваемый Верхарном бесконечный процесс познания мира, разгадка тайн природы. Увидев поэзию в труде рабочего и ученого, Верхарн показал благородное нравственное значение труда и познания, совершенствование человека в этом единоборстве с природой. Социальная и научная революция для Верхарна – единый порыв человечества, доказательство его всемогущества, его способности самоусовершенствоваться и усовершенствовать мир, уничтожить все то зловещее, губительное, что населяет стихи «Полей в бреду», «Призрачных деревень». Грядущее для Верхарна – мир прекрасный, царство добра и красоты, царство возвышенной идеи.
Грядущее стало темой третьей части социальной трилогии, пьесы «Зори». (Помимо «Зорь», Верхарном были написаны три драмы – «Монастырь», «Филипп II», «Елена Спартанская».)
«Мы живем в дни обновлений» – вот вывод Верхарна, который доминирует в «Зорях». Пьеса о революции, «Зори» показывают те социальные противоречия буржуазного общества, которые, будучи доведены до предела войной, разрешаются в революционном взрыве. Недавно Верхарн писал о гибели деревни – теперь он пишет о «смерти одного мира», о гибели целой общественной системы.
Мощь революции отражена в образе главного героя пьесы, вождя восставших Эреньена. Нравственная функция революции воплощена этим совершенным человеком, способным отдать себя целиком, отдать даже жизнь свою великой задаче, человеком благородным, чистым, нежным, предназначенным для любви. И это нисколько не противоречит задаче уничтожения старого мира, революционной задаче, которая для Верхарна есть акт гуманный, высшее проявление гуманизма, любви к ближнему, доверия к человеку.
С таким героем Верхарн вплотную приблизился к XX веку. А Метерлинк?
Можно считать, что Метерлинк сконденсировал в себе «фламандский мистицизм», которому Верхарн отвел лишь одну грань в многогранном облике своего соотечественника. Дело, впрочем, тут не только в свойствах «фламандской души».
В те же 80-е годы прошлого века, в годы крупных побед рабочей партии и широкого распространения социалистических идей, атмосфера в Западной Европе – атмосфера fin de siècle[1]1
Конца века (франц.).
[Закрыть] – была густо насыщена мистицизмом. Так было даже во Франции, с ее сильными традициями рационализма, просветительства и атеизма. Что же касается Бельгии, то за «фламандской душой», повторяем, прочно закрепили мистицизм как ее обязательное свойство. Во всяком случае, давней, укоренившейся традицией была в этой стране традиция реакционного романтизма, тесно связанного с религиозными идеями и мистикой. К этому следует добавить руководящую роль католиков в жизни страны. С 1884 года у власти в Бельгии стояла католическая партия. Святые отцы ухитрились примкнуть к движению за национальное искусство, что помогало им укрепить свой позиции. Возрождая к жизни «фламандский дух» под столь актуальными в XIX веке для Бельгии патриотическими лозунгами, католики убеждали, что фламандец якобы «религиозен по инстинкту».
Вот и Метерлинк детство свое, как он сам вспоминал, «провел меж двумя монастырями», там «полный почтения слушал речи о добром господе, о святой деве, об ангелах и небесном блаженстве». Затем попал в иезуитский коллеж, где интенсивно внедрялась в учеников «святость». Метерлинк, по его признанию, провел среди отцов иезуитов «самое неприятное время» своей жизни. Хотя Метерлинк как будто и не был в прямом смысле слова религиозным человеком, однако благодаря мистицизму трудно уловимой стала грань между верой в бога и мировоззрением Метерлинка. Место бога в этом мировоззрении было занято еще более безликим и неопределенным понятием, Неизвестным. Трибуной Неизвестного стал символистский театр Метерлинка, «театр смерти».








