Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы
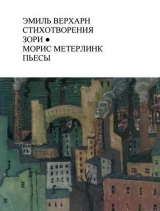
Текст книги "Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы"
Автор книги: Морис Метерлинк
Соавторы: Эмиль Верхарн
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Перевод А. Ибрагимова
Все тонет в сумерках, закатом обагренных,
И только, словно ножницы, в ночи
Сверкают, темноту взрезая на перронах —
От фонаря до фонаря – лучи.
Как раззолоченная рака, изукрашен
Вокзал – весь в ярких отблесках стекла.
Повисли хлопья копоти и мгла
На крышах и на шпилях башен.
По подъездным путям, в пыли, в дыму,
Ползут вагоны похоронным цугом.
Гробы зловещие, толкаясь, друг за другом
Они скрываются в густеющую тьму.
А вслед им тянется рука в прощальной ласке,
Взлетает над толпой надрывный чей-то крик…
То постоит недолго паровик,
То снова мчится – в грохоте и лязге.
Его вбирают, с ужасом в груди,
То рощи дикие, то пашни, то долины.
Вот позади тоннель – и путь окончен длинный;
Все море распахнулось впереди.
Здесь, по волнам, сияя в позолоте,
Проходят бриги утренней порой.
Их флаги пестрые – в стремительном полете,
И рею каждую – усеял птичий рой.
Диковинно изогнуты их кили.
Рули шафрановы и рыжи кливера.
Прочны канаты их – тугая жила к жиле;
Высоким мачтам не страшны ветра.
Матросы из краев неведомых и древних
Поют на палубе. Так нежен их напев,
Движенья так усталы. На форштевнях
Драконы раскрывают грозный зев.
Мечты идут войною против буден…
А волны в гавани свершают свой побег
Вдоль старых, тихо зыблемых посудин
В страну, где пылкости не остужает снег.
И вдруг – забыто все: отгрохотали
Вагоны, и замолк вокзальный гул.
Полны неистовства, нас призывают дали,
И мир все двери настежь распахнул.

Верхарн. «Зори»
Перевод Ю. Александрова
– Душа печальная моя,
Откуда, об руку с луною,
Пришла ты говорить со мною,
Последней правды не тая?
– Оттуда я, где огнекрылы
Дворцы зари, где ночь светла.
Смотри: я розы принесла
Для завтрашней твоей могилы.
– Душа бессмертная моя,
Ты знаешь: одержим я страхом
Однажды стать холодным прахом,
Уйти во мрак небытия.
– Но ты боишься только света,
Боишься вечной высоты,
Где жизнь и смерть свои цветы
Сплетают на челе поэта.
– Скажи, прекрасная моя:
Ты видишь время, призрак черный,
С косой в руке над этой сорной
Травой, которой стану я?
– Не бойся жалких привидений.
Не нам с тобой во тьме лежать.
В пространстве время удержать
Способен плодоносный гений!
Перевод М. Донского
Среди полей,
Вздымаясь царственно громадой одинокой,
В дни ласковой весны и в дни зимы жестокой,
С жарой и холодом равно ведя борьбу,
Оно всегда полно стремлением единым:
Навязывать свою державную судьбу
Равнинам.
Уж сколько раз, пока над ним текут века,
Зарею новою сменялся день вчерашний;
Всё те же стелются вокруг луга и пашни.
Давно ушедшие во тьму небытия
Исчезнувшие поколенья
Следили, как его сучков рождались звенья,
Коры сплеталась чешуя.
Крестьяне видели в его спокойной силе
Оплот своих трудов; в тени его ветвей
Полдневный отдых свой обычно проводили,
И дети их под ним нередко находили
Приют любви своей.
В деревне по нему любой из стариков
Предскажет – будет дождь иль ясная погода:
Оно посвящено и в замыслы ветров,
И в откровения восхода.
Извечную печаль тоскующих полей
Оно хранит в своей тяжелой древесине,
Но лишь снега растают на равнине
И сок в его стволе задвижется быстрей, —
Мильоном пробужденных клеток,
Губами почек и руками веток,
Всем существом своим в грядущее оно
Устремлено.
Из солнечных лучей, из струй весенних ливней
Оно плетет листвы живые кружева.
К покорным небесам все выше, все призывней
Вздымается его могучая глава;
Его настойчивые пористые корни
День ото дня жадней, год от году упорней,
Всё ненасытнее из почвы сок сосут,
Верша таинственный и исступленный труд.
Но, чтоб в могуществе державном утвердиться,
В какой свирепый бой
Оно должно вступить с суровою зимой,
Как с ураганами отчаянно сразиться!
Повсюду ненависть, и ярость, и вражда;
Метели севера и град востока
Обрушиваются, казня его жестоко;
Опилки инея, иголки льда Вонзаются в его кору глубоко,
Но никогда,
Ни на мгновенье
Не прекращает дерево труда,
Идя путем упорства и терпенья
К поре прекрасного весеннего цветенья.
И в октябре, когда в его листах блистало
Густое золото и пурпур гордый рдел,
Придя издалека, как пилигрим усталый,
Светло и радостно я на него глядел.
Оно своей листвы торжественное пламя
Вздымало заревом огромным в небеса;
Казалось, что оно живыми существами
Населено и в нем слышны их голоса.
И я ласкал его своим влюбленным взглядом,
Завидя, как оно трепещет на ветру,
Я подходил к нему и становился рядом
И гладил пальцами шершавую кору.
Я грудью припадал к его стволу, и грубо,
Со страстью, с жадностью его я обнимал
И прижимал к нему пылающие губы,
И дивный ритм его мне в сердце проникал.
Так я сливался с ним душой своей и телом,
Был как бы ветвь его среди других ветвей,
Примером вдохновлен блистательным и смелым,
Я жизнь все преданней любил и горячей;
Я твердость черпал в нем, и мощь, и постоянство,
Былую легкость мышц я ощущал в себе,
И был способен сжать в своих руках пространство,
И не боялся вновь противостать судьбе.
И восклицал я: «Сила – это благо.
Благословенны мощь, и стойкость, и отвага!
Пусть человечество их изберет как стяг:
Сметет преграды грозный их кулак
И нам откроет путь к земле обетованной».
И жарко целовал я узловатый ствол…
Когда же небосвод закатом алым цвел
И вечер на поля сходил благоуханный,
Я, светлым, радостным безумием объят,
Стремительно шагал, куда глаза глядят.
Перевод М. Волошина
Земля дрожит раскатом поездов,
Кипят моря под носом пароходов;
На запад, на восток, на север и на юг
Они бегут,
Пронзительны и яростны,
Зарю, и ночь, и вечер разрывая
Свистками и сигналами.
Их дымы стелются клубами средь туманов
Безмерных городов;
Пустыни, отмели и воды океанов
Грохочут гулами осей и ободов;
Глухое, жаркое, прерывное дыханье
Моторов взмыленных и паровых котлов
До самых недр глубинных потрясает
Землю.
Усилья мускулов и фейерверк ума,
Работа рук и взлеты мыслей дерзких
Запутались в петлях огромной паутины,
Сплетенной огненным стремленьем поездов
И кораблей сквозь пенное пространство.
Здесь станция из стали и стекла —
Там города из пламени и теней;
Здесь гавани борьбы и сновидений,
Мосты и молы, уголь, дымы, мгла —
Там маяки, вертясь над морем бурным,
Пронзают ночь, указывая мель;
Здесь Гамбург, Киль, Антверпен и Марсель —
А там Нью-Йорк с Калькуттой и Мельбурном.
О, этих кораблей огромный караван!
О, груз плодов и кож для неизвестных целей,
Идущий сквозь моря самумов и метелей,
Сквозь раскаленный штиль и гневный ураган!
Леса, лежащие на дне глубоких трюмов,
И недра гор на спинах поездов,
И мраморы всех пятен и цветов,
Как яды темные запекшиеся руды,
Бочонки и тюки, товаров пестрых груды
И надписи: Кап, Сахалин, Цейлон.
А возле них, кипя со всех сторон,
Взмывает, и бурлит, и бьется в исступленье
Вся ярость золота!.. Палящее виденье!
О, золото! Кровь беспощадной вседвижущей силы.
Дивное, злое, преступное, жуткое золото!
Золото тронов и гетто, золото скиний,
Золото банков-пещер, подземное золото,
Там оно грезит во тьме, прежде чем кинуться
Вдоль по водам океанов, изрыскать все земли,
Жечь, питать, разорять, возносить и мятежить
Сердце толпы, – неиссчетное, страстное, красное.
Некогда золото было богам посвященным,
Пламенным духом, рождавшим их молнии.
Храмы их поднимались из праха, нагие и белые,
Золото крыш отражало собою их небо.
Золото сказкою стало в эпоху русых героев:
Зигфрид подходит к нему сквозь морские закаты,
Видит во тьме ореолы мерцающей глыбы,
Солнцем лежащей на дне зеленого Рейна.
Ныне же золото дышит в самом человеке,
В цепкой вере его и в жестоком законе,
Бродит отсветом бледным в страстях его и безумье,
Сердце его разъедает, гноит его душу,
Тусклым бельмом застилает божественный взор.
Если же вдруг разражается паника – золото
Жжет, пепелит и кровавит, как войны, как мор,
Рушит безмерные грезы ударами молота.
Все же
Золото раз навсегда в человеке вздыбило
Волю к завоеванью безмерного.
О, ослепительный блеск победителя-духа!
Нити металла – носители быстрого слова —
Сквозь сумасшедшие ветры, сквозь сумасшедшее море
Тянут звенящие нервы одного сумасшедшего мозга.
Все повинуется некоему новому строю.
Кузня, в которой чеканят идеи, – Европа.
Расы древних культур, расчлененные силы,
Общие судьбы свои вы вяжете вместе с тех пор,
Как золото жалит ваш мозг общим желаньем!
Гавани, молы, покрытые дегтем и варом,
Черные склады, кипящие штольни, гудящие домны,
Ваша работа вяжет всё уже узлы паутины
С тех пор, как золото здесь, на земле,
Победило золото неба!
Золото жизни иль золото смерти – страстное золото
Азию тянет петлей, проливается в Африку;
Золото – скиптр океанов, бродячее золото,
С полюсов белых срывается к рыжим экваторам.
Золото блещет в победах, в разгромах мерцает,
Золото кружится в звездных орбитах веков,
Золото властно ведет в державно намеченных планах
Мачты своих кораблей, рельсы своих поездов
Вдоль по пустыням земли, вдоль по водам океанов…
Перевод А. Голембы
Залюбоваться всей вселенской суматохой,
Чтоб творчески взорлить над тщетной суетой,
Над всеми корчами бескрылости пустой;
Стать вровень с временем, с трагической эпохой,
Вином реальности суметь упиться всласть,
Чтоб в сердце – власть огня, в мозгу – похмелья власть!
О, ясность мудрая отборных крупных злаков!
О, пламень, избранный из тысячи огней, —
Нет обольстительней его и холодней!
О, мужество! Всегда твой жребий одинаков:
Твой путь высок и крут, а встреча далека,
И гордость светлая разит верней клинка!
Сметать препятствия, смелее с каждым разом,
И, шествуя вперед, уверенность храня,
По тропам времени и перепутьям дня,
Знать, что с тобой твои терпенье, воля, разум,
И, стало быть, в простом величии своем,
Ты сам становишься сильнее с каждым днем!
Любить, но не себя. Любить друзей, в которых
Твои достоинства. Друзья всегда с тобой:
За ту же будущность они вступают в бой
И мыслят так, как ты. И каждый сердца шорох
У них, как у тебя, и каждый сердца звук,
И тот же перечень тревог и черных мук!
В них упоение все той же вечной сечей,
В них отсвет трепетный чудовищных атак
И гневных приступов. В них звездный зодиак,
И человечья боль, и подвиг человечий;
Так сердцем доблестным благой закон прими,
Что правит звездами, мирами и людьми!
Перевод А. Голембы
Державные ритмы
Незримо царствуя в сознании людей
Над спесью городов, над грозной их судьбиной,
Превыше горестей и радости невинной,
Парит летучий рой живительных идей.
Светильнику небес был разум равносилен
Уже в начале дней, когда, освободясь,
Летуньи светлые вспорхнули в синь и в ясь
Из лабиринта золотых извилин;
Их крылья широко простерты в небесах,
В них сонм людских надежд и весь наш смутный страх,
В них наши радости и наши упованья,
И наших всеблагих заветов толкованья!
Они у нас в сердцах, они у нас в мозгу,
В них Вещь и Человек, Предмет и Человечность;
Сквозь веки их глядит седая бесконечность,
Седых безгранностей провидя мелюзгу.
Вот так они парят в материи безмерной,
Окольцевав огнем разбег земных дорог,
Купаясь в ясности предвечно-беспримерной.
Так человек, узрев их золотой чертог,
Так сам создавший их, пленясь красой безмерной,
Внезапно захмелел и молвил: «Это бог!»
Чем большей точности со временем достичь
Сумеют мудрецы; чем пламенней их души
Воспрянут; чем скорей во тьму предвечной чуши
Ученые метнут слепящих молний бич;
Чем больше озарят они голов людских,
Чтоб жадный к мудрости – во всем ее достиг, —
Чем ревностней они, в соперничестве здравом,
Под ветхой синевой рванутся к новым славам,
Тем беспредельнее, красивей и пышней
Распустится в веках цветок живых идей!
{22}
Перевод М. Донского
Что совершить еще для умноженья славы?
Увы! Уж сколько лет
Он утомлял закат и утомлял рассвет.
Увы! Уж сколько лет
Он утомлял моря, болота и дубравы
И хмурые хребты в морщинах лавы!
Как долго он терзал и ужасал весь свет
Громами подвигов, грозою величавой
Своих побед!
Хотя былой огонь пылал в груди Геракла,
Порою думал он, что мощь его иссякла;
Герои юные, покамест он старел,
Успели совершить так много славных дел.
И пусть он по земле еще шагал широко, —
Шаги его уже звучали одиноко.
Шар солнца поднялся к зениту над горой
И опустился вновь, и дали потускнели, —
И Эта{23} целый день смотрела, как герой
Блуждал без цели.
Средь множества дорог свой путь определив,
Он колебался;
Он шел вперед и снова возвращался,
Настороженностью сменяя свой порыв;
В смятенье
Он видел пред собой путей переплетенье.
Вдруг охватил его слепой и ярый гнев,
И в пальцы рук его вселилось нетерпенье.
Того, что делает, осмыслить не успев,
Он к лесу бросился, расталкивая скалы;
Рыча, как дикий зверь, в неистовстве борьбы,
Он начал вырывать с корнями, как бывало,
Дубы.
Когда же гнев остыл и прояснился разум,
Как в блеске молнии ему предстала разом
Вся жизнь прошедшая, весь путь его судьбы,
И детства грозного могучие забавы,
Когда в пылу игры он истреблял дубравы.
И мышцы мощные отяжелели вдруг,
Меж тем как всё вокруг,
Казалось, с явною насмешкою кричало,
Что возвратился он, замкнув огромный круг,
В свое начало.
Горячий пот стыда покрыл его чело;
Но все же дикое и глупое упорство
Превозмогло:
Он тяжело,
Себе назло,
С природой продолжать решил единоборство.
И в сумерках, когда последний солнца луч,
Прощаясь, покидал последнюю вершину,
Геракл безумствовал, неистов и могуч,
И грузные стволы, покорны исполину,
Катились, грохоча, подпрыгивая, с круч
В долину.
Громадой страшною кровоточащих тел
Деревья мертвые заполнили равнину.
Геракл растерянно и сумрачно смотрел
На мечущихся птиц, что оглашали воздух
Стенаньями о разоренных гнездах.
И наступил тот час, когда ночная мгла
Величие своих глубин в луне и звездах
Зажгла.
Увы, Гераклу ночь с собой не принесла
Успокоенья;
Был смутным взор его, бесцельными – движенья.
Вдруг зависть к небесам в безумный мозг вошла
И породила в нем безумную причуду:
Поджечь всю эту груду
Стволов, корней, ветвей, листвы, коры,
Чтоб зарево костра оповестило
Далекие миры,
Что сотворил Геракл здесь, на земле, светило.
И вот,
Стремительно взмывая в небосвод,
Как стая птиц морских над пенными валами,
Затрепетало пламя.
Густеет, ширится тяжелый черный дым,
Стволов окутывая груду;
И ветки тонкие, кора со мхом сухим
Трещат и здесь, и там, и дальше, и повсюду.
Огонь ползет в обход и рвется напрямик,
Он пряди рыжие вздымает, грозно воя;
Внезапно, словно бы шутя, лизнул героя
Огня язык.
Геракл почувствовал ожоги,
Но, побеждая боль, не хочет отступать;
Как в юности, когда он призван был карать,
Он должен задушить врага в его берлоге.
И вот, одним прыжком, сомнения гоня,
Он – в логове огня.
Шаги его легки, во взгляде снова ясность,
Вновь крепок дух его, вновь мысль его остра;
Уже на гребне он гигантского костра,
И не страшит его смертельная опасность.
Когда огонь простер вокруг него крыла,
Он понял, наконец, к чему судьба звала:
Он понял, что в дыму багровом
Еще раз удивит он всю земную твердь
Последним подвигом, завоеваньем новым, —
Осилив смерть.
И пел он с вдохновенной силой:
«О ты, ночь звездная, ты, ветер быстрокрылый,
Мгновенье прошлого и будущего час,
Прислушайтесь, остановитесь!
Геракл встречает смерть и воспевает вас.
Всю жизнь я окружен был пламенною славой:
Я гибкость получил от Гидры{24} многоглавой;
В моей крови живет неукротимый гнев,
Которым одарил меня Немейский лев{25};
Шаги мои звучат в лесах олив и лавров,
Как звонкие прыжки стремительных кентавров;
Пред силою моей, оторопев, поник
Тяжелой головой свирепый Критский бык;
Из глубины лесов привел я за собою
Лань златорогую, настигнутую мною;
Я, сдвинув горы с мест и повернув поток,
Конюшни Авгия{26} один очистить смог;
Подобно молнии, стрела моя блистала,
Разя ужасных птиц на берегах Стимфала{27};
Я долго странствовал, чтобы прийти туда,
Где страшный Герион{28} растил свои стада;
Была моей рукой одержана победа
Над кровожадными конями Диомеда{29};
Пока Атлант{30} в саду срывал чудесный плод,
На собственных плечах держал я небосвод;
Мечи воительниц стучали в щит мой звонкий,
Но захватил в бою я пояс Амазонки;
Смирил я Цербера, чудовищного пса,
Заставив стража тьмы взглянуть на небеса».
Внезапно из-под ног Геракла клубы дыма
Взметнулись, и огонь вокруг него взревел,
Но непоколебимо
Стоял герой и пел:
«Прекрасно то, чем я владею:
Сплетенье мускулов моих —
Мышц рук и ног, спины и шеи;
Ритм подвигов бушует в них.
Так много долгих лет с неутолимой жаждой
Трепещущую жизнь впивал я порой каждой,
Что в этот час, когда сгораю я в огне,
Я чувствую, что вся вселенная – во мне:
Я – ураган, и тишь, и ясность, и ненастье;
Я знал добро и зло, изведал скорбь и счастье;
Я все впитал в себя, я, как водоворот,
Упорно всасывал поток текущих вод.
Иола кроткая, Мегара, Деянира{31},
Для вас, трудясь, борясь, я обошел полмира.
И пусть безрадостен и долог был мой путь, —
Я все же не давал судьбе меня согнуть.
И вот теперь, в огне, в час муки и страданья,
Встречаю смерть свою я песнью ликованья.
Я светел, радостен, свободен и велик,
И в этот миг,
Когда на золотом костре я умираю,
Я благодарно возвращаю
Вам, горы и леса, вам, реки и поля,
Крупицу вечности, что мне дала земля».
И вот уже заря над Этой заалела,
Рождался новый день, ночную тьму гоня,
Но гордо реяли полотнища огня,
И песнь торжественно, как гимн сиянью дня,
Гремела.
Перевод Г. Шенгели
Когда вошел в Сикстинскую капеллу
Буонарроти, он
Остановился вдруг, как бы насторожен;
Измерил взглядом выгиб свода,
Шагами – расстояние от входа
До алтаря;
Счел силу золотых лучей,
Что в окна бросила закатная заря;
Подумал, как ему взнуздать коней —
Безумных жеребцов труда и созиданья;
Потом ушел до темноты в Кампанью{32}.
И линии долин, и очертанья гор
Игрою контуров его пьянили взор;
Он зорко подмечал в узлистых и тяжелых
Деревьях, бурею сгибаемых в дугу,
Натуру мощных спин и мышцы торсов голых
И рук, что в небеса подъяты на бегу;
И перед ним предстал весь облик человечий —
Покой, движение, желанья, мысли, речи —
В телесных образах стремительных вещей.
Шел в город ночью он в безмолвии полей,
То гордостью, то вновь смятением объятый;
Ибо видения, что встали перед ним,
Текли и реяли – неуловимый дым, —
Бессильные принять недвижный облик статуй.
На следующий день тугая гроздь досад
В нем лопнула, как под звериной лапой
Вдруг лопается виноград;
И он пошел браниться с папой:
«Зачем ему,
Ваятелю, расписывать велели
Известку грубую в капелле,
Что вся погружена во тьму?
Она построена нелепо:
В ярчайший день она темнее склепа!
Какой же прок в том может быть,
Чтоб тень расцвечивать и сумрак золотить?
Где для подмостков он достанет лес достойный:
До купола почти как до небес?»
Но папа отвечал, бесстрастный и спокойный:
«Я прикажу срубить мой самый лучший лес».
И вышел Анджело и удалился в Рим,
На папу, на весь мир досадою томим,
И чудилось ему, что тень карнизов скрыла
Несчетных недругов, что, чуя торжество,
Глумятся в тишине над сумеречной силой
И над величием художества его;
И бешено неслись в его угрюмой думе
Движенья и прыжки, исполнены безумий.
Когда он вечером прилег, чтобы уснуть, —
Огнем горячечным его пылала грудь;
Дрожал он, как стрела, среди своих терзаний, —
Стрела, которая еще трепещет в ране.
Чтоб растравить тоску, наполнившую дни,
Внимал он горестям и жалобам родни;
Его ужасный мозг весь клокотал пожаром,
Опустошительным, стремительным и ярым.
Но чем сильнее он страдал,
Чем больше горечи он в сердце накоплял,
Чем больше ввысь росла препятствий разных груда,
Что сам он воздвигал, чтоб отдалить миг чуда,
Которым должен был зажечься труд его, —
Тем жарче плавился в его душе смятенной
Металл творенья исступленный,
Чей он носил в себе и страх и торжество.
Был майский день, колокола звонили,
Когда в капеллу Анджело вошел, —
И мозг его весь покорён был силе.
Он замыслы свои в пучки и связки сплел:
Тела точеные сплетеньем масс и линий
Пред ним отчетливо обрисовались ныне.
В капелле высились огромные леса, —
И он бы мог по ним взойти на небеса.
Лучи прозрачные под сводами скользили,
Смыкая линии в волнах искристой пыли.
Вверх Анджело взбежал по зыбким ступеням.
Минуя по три в раз, насторожён и прям.
Из-под ресниц его взвивался новый пламень;
Он щупал пальцами и нежно гладил камень,
Что красотой одеть и славою теперь
Он должен был. Потом спустился снова
И наложил тяжелых два засова
На дверь.
И там он заперся на месяцы, на годы,
Свирепо жаждая замкнуть
От глаз людских своей работы путь;
С зарею он входил под роковые своды,
Ногою твердою переступив порог;
Он, как поденщик, выполнял урок;
Безмолвный, яростный, с лицом оцепенелым,
Весь день он занят был своим бессмертным делом.
Уже
Двенадцать парусов{33} он ликами покрыл:
Семь прорицателей и пять сивилл
Вникали в тексты книг, где, как на рубеже,
Пред ними будущее встало,
Как бы литое из металла.
Вдоль острого карниза вихри тел
Стремились и летели за предел;
Их золотые спины гибкой лентой
Опутали антаблементы;
Нагие дети ввысь приподняли фронтон;
Гирлянды здесь и там вились вокруг колонн;
Клубился медный змий в своей пещере серной;
Юдифь{34} алела вся от крови Олоферна;
Скалою Голиаф{35} простер безглавый стан,
И в пытке корчился Аман{36}.
Уверенно, без исправлений,
Без отдыха, и день за днем,
Смыкался полный круг властительных свершений.
На своде голубом
Сверкнуло Бытие.
Там бог воинственный вонзал свое копье
В хаос, клубившийся над миром;
Диск солнца, диск луны, одетые эфиром,
Свои места в просторе голубом
Двойным отметили клеймом;
Егова реял над текучей бездной,
Носимый ветром, блеск вдыхая звездный;
Твердь, море, горы – все казалось там живым
И силой, строгою и мерной, налитым;
Перед создателем восторженная Ева
Стояла, руки вздев, колена преклонив,
И змий, став женщиной, вдоль рокового древа
Вился, лукавствуя и грудь полуприкрыв;
И чувствовал Адам большую руку божью,
Персты его наполнившую дрожью,
Влекущую его к возвышенным делам;
И Каин с Авелем сжигали жертвы там;
И в винограднике под гроздью золотою
Валился наземь Ной, упившийся вином;
И траурный потоп простерся над землею
Огромным водяным крылом.
Гигантский этот труд, что он один свершил,
Его пыланием Еговы пепелил;
Его могучий ум свершений вынес бремя;
Он бросил на плафон невиданное племя
Существ, бушующих и мощных, как пожар.
Как молния, блистал его жестокий дар;
Он Данта братом стал или Савонаролы{37}.
Уста, что создал он, льют не его глаголы;
Зрят не его судьбу глаза, что он зажег;
Но в каждом теле там, в огне любого лика —
И гром и отзвуки его души великой.
Он создал целый мир, такой, какой он смог,
И те, кто чтит душой благоговейно, строго
Великолепие латинских гордых дел, —
В капелле царственной, едва войдя в предел,
Его могучий жест увидят в жесте бога.
Был свежий день: лишь осень началась,
Когда художник понял ясно,
Что кончен труд его, великий и прекрасный,
И что работа удалась.
Хвалы вокруг него раскинулись приливом,
Великолепным и бурливым.
Но папа все свой суд произнести не мог;
Его молчанье было как ожог,
И мастер вновь в себя замкнулся,
В свое мучение старинное вернулся,
И гнев и гордость с их тоской
И подозрений диких рой
Помчали в бешеном полете
Циклон трагический в душе Буонарроти.








