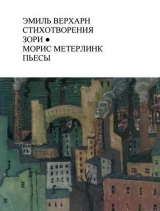
Текст книги "Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы"
Автор книги: Морис Метерлинк
Соавторы: Эмиль Верхарн
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
До цикла символистских драм Метерлинк написал немного – в мае 1886 года в одном, очень недолго прожившем, парижском журнале появилась прозаическая миниатюра «Избиение младенцев» («переложение», по словам Метерлинка, картины Брейгеля), а в 1889 году Метерлинк собрал написанные к тому времени стихи в сборник «Теплицы». Позаимствовав у матери 250 франков, Метерлинк издал в том же 1889 году в Брюсселе свою первую пьесу, «Принцессу Мален». Штук пятнадцать книг было раскуплено, с десяток автор раздарил друзьям – и все. Громом среди ясного неба было появление в парижской «Фигаро» 24 августа 1890 года статьи Октава Мирбо, в которой сообщалось, что некто Морис Метерлинк («Я не знаю, откуда он и кто он, стар или молод, богат или беден») создал «самое гениальное произведение нашего времени». Восторженный отклик – чрезмерно, конечно, восторженный – парижского критика привлек внимание к никому не известному бельгийцу. С этого факта начинается пугь Метерлинка к славе, – путь, который был для него недолгим и нетрудным.
«Принцесса Мален» явилась введением в символистский театр Метерлинка. В громоздкой пятиактной сказке уже вырисовывался облик главного героя «театра смерти» – Неизвестного. Теоретически оправдать его появление Метерлинк попытался в большом эссе «Сокровище смиренных» (1896). Это было первое из двадцати четырех опубликованных Метерлинком произведений прозаического жанра, удовлетворявших чрезвычайную потребность этого писателя в комментировании своих драм и в поучении. Судя по «Сокровищу смиренных», философия Метерлинка была одной из многих попыток идеалистической мысли конца XIX века подыскать подходящую замену скомпрометированной идее бога («бог умер»), найти ему аналогию, которая была бы, однако, свободна от церковных несообразностей и была бы философски более или менее респектабельной.
Философия Метерлинка до крайности проста, она построена из немногих, самых стандартных деталей философского идеализма. Исходная идея состоит в том, что всем распоряжается Неизвестное, господствуют «невидимые и роковые силы, намерения которых никому не известны». Порой Неизвестное принимает облик смерти, но лишь порой – дальнейшая конкретизация этой загадки невозможна. Человек – жертва Неизвестного, бессильное и жалкое существо, «без видимой цели отданное во власть безразличной ночи». Соответственно, «наша смерть руководит нашей жизнью, и наша жизнь не имеет иной цели, чем наша смерть». Вполне понятно поэтому, что «надо жить… без дела, без мысли, без света» и лучше молчать, ибо «истинная жизнь создается в молчании».
Пьесы «Непрошеная» (1890), «Слепые» (1890), «Семь принцесс» (1891) – иллюстрация к этим размышлениям о Неизвестном. Правда, иллюстрацию выполнил исключительно одаренный художник. Метерлинку удалось выдумать, создать мир, который живет по законам его философии. Конечно, это выдуманный мир, нереальный, но своей внутренней логикой он обладает. Если считать «заразительность» признаком искусства (как то считал Л. Толстой), то признак этот налицо в «театре смерти».
Метерлинк сумел добиться эффекта присутствия Неизвестного на сцене своего театра. Только символизм мог дать необходимые для этого средства. Символизм – это такое искусство, которое намекает на иррациональную суть бытия. Все символично и в «театре смерти», все лишь намек на Неизвестное. Метерлинк выводит на сцену мир обыденный, до предела сокращает внешние аксессуары. В «Слепых» – обычный лес, в «Непрошеной» – комната старого замка. Метерлинк отказывается от внешних приемов устрашения, которых немало в «Принцессе Мален» с ее зверскими убийствами и гибелью одного персонажа за другим. В «театре смерти» человек оставлен наедине с загадкой, с Неизвестным. Драматургический конфликт сужен, все перипетии, все возможные усложнения сняты. И чем обыденнее обстановка, чем обыкновеннее то, что изображено, тем сильнее эффект, тем заметнее безликое Неизвестное.
«Театр смерти» – театр статичный. Пьесы стали небольшими, одноактными. Метерлинк сразу же после «Принцессы Мален» отказался от традиционной композиции, от деления на несколько актов, ибо такая композиция предполагала действие, развитие. В «театре смерти» дело обходится «без дела, без мысли». Персонажи Метерлинка не способны к действию, они абсолютно беспомощны. Как кролик перед удавом, застыли они перед таинственным Неизвестным в томительном ожидании. Вот это состояние ожидания, какой-то угрозы Метерлинк передал очень сильно. Действие внешнее заменяется в «театре смерти» быстрой эволюцией внутреннего состояния персонажей, нарастанием беспокойства, тревоги и напряжения.
Персонажи «театра смерти» – не характеры, не личности. Это безымянные, безликие статисты в драме, герой которого один – Неизвестное. Персонажи Метерлинка превращены в органы чувств, регистрирующие присутствие Неизвестного одной, неизменной реакцией – страхом. В «Непрошеной» на сцене группа «недействующих лиц», которые чего-то ждут. Дело вовсе не в приходе того или иного из персонажей; дело не в том, о чем ведется на сцене разговор. Что-то происходит вокруг; слышатся шумы, источник которых неясен. То ли входит кто-то куда-то, то ли выходит откуда-то. Дело не в зловещей концовке, знаменующей вторжение смерти, – дело в том ожидании Неизвестного, к которому и сводится пьеса. В «Слепых» самые мирные шорохи леса повергают в ужас людей, которые стали вместилищем страха, которые тем более беспомощны, что они слепы, заблудились, затерялись.
Естественно, что «театр смерти» стал «театром молчания». Неизвестное вынудило умолкнуть «недействующих лиц» драм Метерлинка. Да и что можно сказать о Неизвестном? В символистских пьесах Метерлинка мало говорят, очень часто персонажи погружаются в молчание. Но и слово меняет свою функцию, перестает что-либо значить, что-либо сообщать, перестает связывать людей. Слово здесь – намек, слово – оформление внутреннего состояния человека, чем-то придавленного и исторгающего по этому поводу вопль. «Недействующие лица» из «театра смерти» перестают слушать друг друга – они прислушиваются к Неизвестному и регистрируют свое состояние краткими, предельно эмоциональными репликами. «Театр смерти» соседствует с экспрессионистической «драмой крика». Диалоги «театра смерти» надо слушать, а не вдумываться в их смысл. Они призваны настраивать, вызывать страх перед Неизвестным.
Метерлинк намеревался создать «театр марионеток». Марионетками в изображении бельгийского символиста стали люди. Может быть, именно это качество «театра смерти» особенно наглядно показывает противоположность Метерлинка и Верхарна. Даже тогда, когда пути их пересеклись, даже в годы создания трагической трилогии Верхарн не мог умертвить человека, лишить его души, мысли, лишить его способности к сопротивлению и права на сопротивление. Недаром в поэзии Верхарна появился эпический образ Кузнеца (в сб. «Призрачные деревни») – прямая противоположность марионеткам Метерлинка, образ человека, которого не дергают за ниточки, а который сам, своим трудом создает целый мир, выковывает будущее. Трагическая трилогия воссоздает образ лирического героя, для которого мерой вещей является мужество, стойкость, способность к сопротивлению.
Символист Метерлинк обожествил незнание, неизвестность; Верхарн темой поэзии сделал открытие истины и саму поэзию превратил в способ познания мира. Верхарн пытается вобрать в искусство всю полноту жизни, Метерлинк – свести к воплощению схемы. Все остановилось в «театре смерти», – движение было признаком жизни для Верхарна.
На чьей стороне была победа в этом резком столкновении двух философий, двух эстетик? На стороне Верхарна, конечно. Живому Верхарн ближе, Метерлинк ближе обреченному. За Верхарна правдивость его искусства – Метерлинк ведь выдумал царство Неизвестного, он писал декадентские сказки для взрослых людей.
То, что Верхарн одержал победу, видно из того, что Метерлинк довольно быстро сдал свои позиции и попытался приблизиться к Верхарну.
«Театр смерти» был первой фазой драматургии Метерлинка. Уже в следующих пьесах – «Пеллеас и Мелисанда», «Алладина и Паломид», «Там, внутри», «Смерть Тентажиля» (1894) начинается отход от главных его принципов, а пьесу «Аглавена и Селизетта» (1896) сам Метерлинк считал поворотной, поскольку ему «показалось честным и разумным удалить смерть с трона» и на этот трон водрузить «любовь, мудрость или счастье». К началу XX века Метерлинк превращается в крупную фигуру прогрессивно-романтической драматургии.
Отчего такой быстрый поворот от символизма к романтизму?
Для эволюции Мориса Метерлинка найдено было такое же, как для Верхарна, объяснение: Метерлинк тоже повстречал женщину, его очаровавшую. Французская актриса Жоржетта Леблан, наверное, сыграла в жизни бельгийского драматурга свою роль. Не в ней, однако, дело.
Быстрый поворот Метерлинка – доказательство узости, надуманности идеалистических схем «театра смерти», узости, быстро осознанной драматургом. Метерлинка нередко именуют предтечей современного модернизма, «антитеатра», нашумевшего через шестьдесят лет после появления «театра смерти». Близость «театра смерти» и «антитеатра» очевидна, что доказывает относительность так пропагандируемой новизны модернистских школ. Но есть и различие. Прежде всего, оно состоит в том, что антигуманность «театра смерти» была не столько программой, задачей, сколько следствием избранной Метерлинком философской позиции, последствием мистицизма. Ощутив, поняв это, Метерлинк отшатнулся от придуманного им Неизвестного.
Здесь следует обратить внимание на то, что Метерлинк всегда в той или иной степени тяготел к романтизму. Даже в «театре смерти» ощущается привкус романтизма, то и дело попадается реквизит романтической сказки. Еще будучи студентом, Метерлинк познакомился в Париже с французским романтиком Вилье де Лиль-Аданом. Никто никогда так не потрясал Метерлинка, по его признанию. Метерлинк заявлял, что принцесса Мален, Мелисанда, Астолен, Селизетта и прочие его «призраки» родились в атмосфере, созданной Вилье де Лиль-Аданом, что всем он, Метерлинк, ему обязан.
Так ли это важно, что Метерлинк был потрясен именно автором «Жестоких рассказов», столь близких декадансу конца века, порой от него неотличимых? Очень важно. Конечно, реакционный и консервативный романтизм конца прошлого века – ближайший родственник декаданса. Поэтому Метерлинк и превратился столь стремительно в классика символизма. Но для романтика Метерлинка символизм все же был крайностью, от которой он вскоре отошел.
С каждой из последующих пьес Метерлинк – все меньше символист и все больше романтик, все меньше певец Неизвестного. Наиболее близки «театру смерти» пьесы «Там, внутри» и «Смерть Тентажиля». Но угроза уже здесь перестает быть всесильным Неизвестным, она локализуется за счет отождествления со смертью. Это уже не столько «театр смерти», сколько пьесы, рассказывающие о смерти, о трагизме жизни. И хотя Тентажиль на глазах тает, гибнет от неизвестной причины, персонажи этой пьесы делают попытки во имя любви сразиться с Неизвестным. Пока еще попытки неудачны, но они превращают Неизвестное из метафизической загадки в злую силу, которую желательно одолеть, а героев в «действующих лиц» из «лиц недействующих».
Скорее «театром любви», чем «театром смерти» можно назвать «Пеллеаса и Мелисанду», «Алладину и Паломида», «Аглавену и Селизетту». На передний план выдвигаются лица, действующие во имя любви, носители возвышенных чувств. Их преследуют не загадочные силы, а ревнивцы, нехорошие люди, благодаря чему в пьесах возникают обычные житейские ситуации. Если и чахнут герои, то это кажется уже анахронизмом, данью «театру смерти», лишенной смысла.
Окончательно воцаряется любовь в «Аглавене и Селизетте». Там же главным персонажем становится деятельная и мужественная женщина. Селизетта, правда, гибнет, но ее гибель – дело рук не Неизвестного, а самой героини, берущей свою судьбу в свои руки и жертвующей собой во имя любви. Такая же мужественная женщина изображена в следующей сказке – «Ариана и Синяя Борода, или Бесполезное освобождение» (1899).
И, наконец, она же становится героиней нашумевшей в свое время драмы «Монна Ванна» (1902). Впервые из ситуации сказочной Метерлинк переносит своих героев в ситуацию реально-историческую, в Италию XV века. Нельзя считать, что Метерлинк создал реалистическую драму, «Монна Ванна» – произведение романтическое с исключительными ситуациями и исключительными героями. Но как высоко романтизм поднял героя Метерлинка! Монна Ванна далеко ушла от марионеток первых драм, она вплотную приблизилась к героям Верхарна. Персонажи «Монны Ванны» не ждут от неизвестности решения своей участи, а сами вырабатывают принципы своего поведения.
В «Монне Ванне» изображены «реальные несчастья», при всей романтической условности обстоятельств. Родина в опасности, город Пиза осажден, народ голодает, – вот перед какими фактами ставит теперь Метерлинк своих героев. Он как будто сохраняет любовный «треугольник» – Монна Ванна, ее муж Гвидо и обожающий Ванну Принчивалле. Но «треугольник» этот отнюдь не традиционный. Принчивалле командует осаждающими город Пизу войсками, а к тому же он наемник. Благодаря этому взаимоотношения главных героев сплетаются в сложный клубок; они со страстью обсуждают не только проблемы любви, но проблемы долга, отношения к родине.
В горячих дискуссиях (каким далеким кажется теперь «театр молчания»!) герои вырабатывают высший критерий оценки нравственности – им оказывается общественный долг, долг перед родиной, перед народом. Монна Ванна говорит: «Спасение моих сограждан для меня выше всего». Действуя в соответствии с этим пониманием долга, Монна Ванна и превращается в подлинную героиню, в олицетворение высшего понимания любви.
Объяснить появление такой героини появлением на пути Метерлинка Жоржетты Леблан было бы легкомысленным. Главное тому объяснение можно найти в эссе Метерлинка «Наш общественный долг» (1907). В начале XX века Метерлинк пришел к убеждению, что буржуазное общественное устройство несправедливо и безнравственно. Заложенная с самого начала в фундамент философии Метерлинка жалость к человеку, сострадание (ощутимое даже в «театре смерти») довольно быстро перерастает в жалость к бедным и в возмущение социальной несправедливостью. Само собой разумеется, что это было ускорено теми же причинами, которые Верхарна сделали певцом революционных Зорь. Даже Метерлинк не остался в стороне от процесса переоценки ценностей, который бурно развертывался на рубеже веков вследствие кризиса капитализма, его идеологии. В 90-е годы и Метерлинк приобщается к социалистическому движению, хотя и без того увлечения, которое охватило Верхарна. Он пришел даже к радикальному выводу – им однажды высказанному – о необходимости «упразднения частной собственности».
Ставя под сомнение традиционные понятия и вековые догмы, Метерлинк в начале XX века пробует найти истину в реальных обстоятельствах, в человеческом опыте, в жизни природы. Вновь намечается точка соприкосновения с Верхарном – Метерлинка тоже охватила жажда познания. Одну за другой он выпускает большие книги, посвящая их то «Жизни пчел», то «Разуму цветов», то термитам, то муравьям, то спиритизму, то оккультизму. Метерлинка влечет природа, но он не естествоиспытатель, а моралист, он пытается уточнить «наше положение на земле», решить проблемы нравственные, определить участь человека.
Метерлинк не был сильным и самостоятельным мыслителем. Даже в пору размышлений о «нашем общественном долге» он не освободился от острейших противоречий; вернее, противоречия его крайне обострились к началу нашего века. Метерлинк не смог полностью освободиться от своего мистицизма, стал дуалистом. Смело объявляя, что властвующие над человеком боги – всего лишь неизвестная часть неизвестного, он тут же напоминал о бессилии разума справиться с «загадочными потемками», о всесилии загадочной «бесконечности». Даже на высшей точке своего развития мысль Метерлинка оставалась непоследовательной и неустойчивой.
Не удивительно, что непоследовательным было и искусство Метерлинка. «Монна Ванна» ознаменовала утверждение драматурга на прогрессивно-романтических позициях. Прогрессивный романтизм – как это часто бывает – дал ростки реалистические. Об этом свидетельствует пьеса «Чудо святого Антония» (1903), переносящая зрителя в маленький провинциальный городок, в обычный буржуазный дом. Возможности, предоставленные сказкой, Метерлинк использовал для сатирического изображения буржуазии. Столкнув святого сначала со служанкой («в грубых деревянных башмаках на босу ногу, окруженная ведрами, тряпками, метлами и щетками»), а затем с буржуа («большинство – с полным ртом»), Метерлинк добился двойного эффекта: святой снижен до уровня быта заурядной передней (он сам ей под стать – «на нем грязный, плохо сшитый, заношенный и во многих местах порванный подрясник»), в которую святого (святого!) не допускает служанка, а буржуа превращены в деталь этого неряшливого даже внешне, не говоря уже о существе, фона. Метерлинк обыграл классическую для реализма ситуацию: только что в тот мир отправился богатый человек – и уже его труп, точнее говоря, оставленное им наследство, обступила толпа близких, жаждущих получить кусок пожирнее. Такая ситуация, обостренная внезапным появлением святого, способного возвращать покойников к жизни, позволяет драматургу показать суть отношений и связей, которые устанавливаются в буржуазном обществе с его эгоизмом, с коренящейся в нем несправедливостью.
Таковы буржуа в изображении Метерлинка. А вот и бедные люди – они появились в пьесе «Синяя птица» (1905). Тильтиль и Митиль лишь мечтают о том, чтобы святочный дед хоть что-нибудь им принес. Пока что все попадает в дом напротив – дом богатых.
Все симпатии Метерлинка на стороне бедных. Не из богатого дома, а из хижины дровосека Фея начнет поход за Синей Птицей, – лишь обитателям бедных хижин Метерлинк доверяет поиски истины. Поиски символической Птицы противопоставляют не только бедных богатым. Они противопоставляют романтическую «Синюю Птицу» символистской драматургии Метерлинка. Там был застывший, мертвый мир – здесь все в движении, здесь смысл в поиске, в походе. Там все было заранее задано, все изначально обусловлено, и человек был марионеткой в руках идеалистического детерминизма – здесь все впереди, все зависит от поисков, от инициативы, смелости искателей истины. И сам процесс поисков, само движение возвышает людей, совершенствует их, открывает перед ними новые горизонты.
Конечным пунктом похода Метерлинк сделал ту же хижину. Она, правда, стала «гораздо красивее», потому что его обитатели вернулись иными людьми. Значит, это не простое возвращение на линию старта – в героях пьесы не угаснет страсть поисков, обещанием искать и поймать Птицу завершается пьеса. Но облик сказочной Синей Птицы странно совпал с горлицей, принадлежавшей Тильтилю. Оказывается, нечто похожее на исконный идеал всегда находилось в хижине. Следовательно, ценностью обладают только сами поиски, сам поход за Птицей, само желание идеала.
Возвращение к исходной точке поисков свидетельствует о том, что Метерлинк немногое обещает своим готовым к новым походам героям. Его программа сводится к самоусовершенствованию, к воспитанию морально совершенной личности, противостоящей буржуазному эгоизму, готовой к подвигу так, как была готова к нему Монна Ванна. Прекрасно, но какие практические, жизненные задачи призван решить такой герой? Для чего следует готовить себя? Метерлинк не может дать определенного ответа на такой вопрос. Его программа до крайности абстрактно гуманистическая.
Недаром все так расплывается в пьесах, написанных тогда же, когда создавались «Монна Ванна», «Синяя птица», «Чудо святого Антония». «Жизель» (1903) вновь говорит о высшей, неэгоистической форме любви, о самопожертвовании. Но «Жизель» – бледное напоминание о «Монне Ванне», здесь все гораздо более условно, абстрактно, вновь возникают примелькавшиеся атрибуты романтической сказки, дворец, море, идеальные любовники. Еще одним оттиском с «Монны Ванны», потерявшим многие из ярких красок оригинала, кажется «Мария Магдалина» (1909). Снова идеальная женщина, готовая принести себя в жертву, вновь прославление высшей формы любви. Но все это показано на материале, столь же удаленном, как и «Жизель», от действительности, от современности, на ситуации сказочной, легендарной.
Нет ничего удивительного в том, что, вновь вернув нас, пьесой «Обручение» (1918), в идеализированную им хижину дровосека, Метерлинк пойманную, наконец, птичку видит в соседской девушке. Ее-то Тильтиль избирает – после долгих поисков – в свои невесты, а она и собой хороша, и добродетельна, и богата к тому же.
Таким образом, приблизившись к Верхарну в начале нашего века, воспев познание и поиски, Метерлинк быстро подрезал крылья своему созданию, романтической Синей Птице. Впрочем, ставить их рядом нелегко, ведь Верхарн далеко увел человека за стены идеализированной Метерлинком хижины. Синяя Птица Верхарна вела в суть эпохи, помогала увидеть грядущее, окинуть взором всю землю…
После социальной трилогии один за другим выходят сборники стихов Верхарна – «Лики жизни» (1899), «Буйные силы» (1902), «Многоцветное сияние» (1906), «Державные ритмы» (1910). «Все движется, можно сказать – горизонты в пути», – вот какое настроение доминирует здесь. Постоянно возникающий теперь символический образ – образ моря, символ беспредельности, вечного движения и обновления, символ бурь, навстречу которым шагает лирический герой Верхарна. Он покинул пределы маленькой Бельгии – он идет по всей земле, по всем материкам, пересекает океаны, он оглядывает своим дерзким и проницательным взором вселенную, видит многоцветное сияние планет и звезд.
Верхарн изображает все лики жизни, он улавливает буйные силы бытия, слышит державные ритмы нового времени. В стихах Верхарна возникает необычайная картина; словно бы какой-то исполин гигантской кистью нарисовал панораму человеческого существования, набросал очертания материков, океанов и планет. Набросал, не забыв при этом человека: герой Верхарна под стать такому пейзажу, это бунтарь, вырастающий в титана. Верхарн поет гимн человеку – созидателю, борцу Его герой стряхнул с себя цепи капиталистического рабства, золото для него – символ уже прошедшего времени, буржуазного общества, уходящего в прошлое, анахронического.
Верхарн сумел шагнуть через те неисчислимые препятствия, которые буржуазная система нагромождает на пути к свободному, творческому труду. На самом пороге нового века Верхарн увидел, ощутил ту историческую задачу, которая перед этим веком поставлена, высокое гуманистическое его предназначение – освобождение человека, его поистине безграничных способностей и возможностей. Свободно, без боязни, по-хозяйски идет герой Верхарна по земле, восхищаясь ее красками, ее ритмами.
Стихи Верхарна начала века – философские стихи. Миропонимание поэта в них не только раскрывается, оно воспевается, ибо исходным и главным является убеждение Верхарна в мудрости бытия, в красоте существования и в благости слияния с природой. Верхарн не устает петь гимны жизни.
Бытие – и человек, человек, познающий мир, всесильный («все постижимо»). Таково соотношение сил в философской поэзии Верхарна, соотношение, прямо противоположное тому, что было десять лет назад предложено «театром смерти» Метерлинка. Верхарн не забыл о смерти, он помнит о зле, но считает смерть, страдание, боль – признаком существования потому, что человек подлинный создан для борьбы, он способен смотреть несчастью в лицо и подниматься над ним.
Жизнь – деяние, по Верхарну, жизнь – это море, ветер, это движение, кипение, это мощь и сила. И высшее выражение силы жизни – сам человек. Поэзия Верхарна начала века – это акт возведения на престол человека. Верхарн сбрасывает с этого престола богов, он видит новое божество в самом человеке, ибо только человек всесилен. Творцом вместо бога стал человек. Всесилен труженик, искатель, бунтарь – герой поэзии Верхарна, олицетворение нового века.
И сама поэзия Верхарна предстает актом познания и созидания жизни. Пространство и время, слово и дело, вода и твердь – вот какими понятиями оперирует Верхарн, складывая из них прекрасное здание бытия.
Герой поэзии Верхарна – идеальное существо, выражение идеала поэта, его мечты. Он воссоздавал, правда, и портреты действительно существовавших титанов, людей гениально одаренных (Микеланджело), сыгравших исключительную роль в истории (Мартин Лютер). В стихах Верхарна покоряет «буйная сила» лирического героя. К лучшим стихам из сборников начала века относятся те, что возвращают нас к уже знакомому по предшествовавшим стихам образу человека необыкновенно мужественного, обладающего неисчерпаемой энергией. Исступленно зовет он бури и штормы. Процесс познания – это преодоление разочарований и сомнений, это борьба и с самим собой, это нелегкий труд, в который лирический герой Верхарна вкладывает всю свою душу.
Лиризм философских циклов приблизил мечту, сделал утопию реальностью, реальностью чувств и мыслей лирического героя. Грядущее сосредоточено в энергии, мудрости, бунтарстве этого героя. Воспев душевную красоту, силу и ум человека-преобразователя. Верхарн преобразовал настоящее по облику и подобию своего героя.
Конечно, в таком герое и в так изображенном мире воплотились не только наблюдения Верхарна над его эпохой, но и мечта поэта о совершенстве, об идеале.
Уже и реалистическая социальная трилогия завершалась романтическим финалом. Герой пьесы «Зори» Эреньен тоже был титаном. В его титанизме – правдивое отражение мощи и величия революции. Но Верхарн по-романтически преувеличивает масштабы отдельной личности, конструирует образ героя исключительного, поднимающегося над прочими, противопоставленного прочим людям. «Культ личности» наделяет революционера выдуманными чертами нового божества, мессии, появления которого масса ждет как второго пришествия. Титан Верхарна головой уходит в небо, к звездам – а тем самым возникает опасность отрыва от жизни, от той социальной конкретности, которую так поразительно воссоздал поэт в социальной трилогии. Все крупно, все колоссально под пером Верхарна – но не все крупно в действительности, не все на самом деле лики жизни столь многоцветны и величавы, как в поэзии Верхарна начала века. Отсюда – некоторая риторичность этой поэзии.
Верхарн умел рисовать удивительные пейзажи даже из чистых идей (стихотворение «Мыслители»), быть наглядным даже на уровне крайней абстракции, к которой он пришел в сборнике «Многоцветное сияние»: там остались лишь «звезды и люди». Но все же к финалу серии философских сборников идеи зажили своей жизнью; они так высоко поднялись над конкретной, социальной реальностью, что уже и оторвались от нее. Начали они отрываться и от конкретного образного выражения, что порождает декларативность, крайнюю отвлеченность некоторых стихотворений Верхарна.
Однако, забираясь так высоко, к звездам, Верхарн не покидал родных полей и городов. Потребность в конкретном, в земном была для него слишком сильной. В 1900 году появился сборник «Маленькие легенды», потом в пятитомный цикл «Вся Фландрия» сложились стихи сборников «Первая нежность» (1904), «Гирлянда дюн» (1907), «Герои» (1908), «Островерхие города» (1910), «Равнины» (1911). Затем появились «Волнующиеся нивы» (1912). Таково удивительное многообразие Верхарна – рядом с могучими ритмами романтической поэзии, воспевшей титанов, уживались стихи, фиксировавшие повседневную жизнь рядового труженика, крестьянина, его быт, его радости и горести. Влюбленным взором окидывает поэт родную землю и с большим чувством описывает поля, деревни, улочки уютных городков. Вновь возвращается в поэзию Верхарна картинность, словно возрождаются к жизни оставшиеся далеко позади натюрморты «Фламандок». Верхарн, конечно, не возвращается назад; кроме всего прочего, надо помнить, что стихи о Фландрии представляют собой только одну часть поэтического диптиха. Однако получилось так, что все бури расположились на первой, романтической части, а на другой мало-помалу воцаряется идиллия. Фламандские стихи Верхарна начала века поэтому – шаг назад от социальной трилогии, в которой фламандское и социальное не расщеплялись. Романтизм все же уводил социальные противоречия и трагедии с фламандских полей во все более абстрагировавшийся мир буйных сил и державных ритмов.
Пути Верхарна и Метерлинка еще раз пересеклись – в последний раз. Началась мировая война. Оба писателя оказались во Франции: Метерлинк уже давно обосновался на юге этой страны, а Верхарн лет двадцать как делил свое время между Парижем и Бельгией. Верхарн и Метерлинк объединились в общей для них реакции на мировую бойню, на оккупацию их родины. Оба с болью писали о муках Бельгии, с восторгом – о героизме своих соотечественников: Верхарн – в книге «Окровавленная Бельгия», в стихах сборника «Алые крылья войны», Метерлинк – в пьесах «Бургомистр Стильмонда», «Соль жизни».
Война оборвала жизнь Эмиля Верхарна. Он погиб в 1916 году, в Руане, попав под поезд. Морис Метерлинк прожил еще более трех десятков лет, пережил вторую мировую войну, умер в 1949 году. Писал он много. К этому времени относится почти половина из всех написанных Метерлинком пьес. Но Метерлинка-драматурга знают по «театру смерти», по романтическим пьесам конца прошлого – начала нашего века. К кануну первой мировой войны слава Метерлинка достигла зенита, тогда он был увенчан лаврами Нобелевского лауреата. Потом он был иждивенцем этой славы.
Из полутора десятков поздних драм Метерлинка мало что опубликовано, и не случайно. Они звучат как заигранная пластинка, в которой трудно, а то и невозможно расслышать прелесть некогда созданной мелодии. Без конца варьируется все тот же мотив жертвенности, самоотверженной любви, иллюстрируемой ситуациями псевдоисторическими и псевдосовременными, а то и вовсе искусственными, вымученными. Очень часто жертвенность оказывается признаком святости, и таковая демонстрируется без всякого стеснения. К святым относимы теперь и мужчины, но, как и прежде, Метерлинк предпочтение отдает женщине – от просто некоей Татьяны, жертвующей собой ради любимого в пьесе «Несчастье проходит» (1925), до графини, повторяющей жертвенный акт Татьяны, но уже во времена Директории в пьесе «Мария Виктория» (1927), от австрийской императрицы Елизаветы и фаворитки императора Австрии, в пьесе на современный, так сказать, сюжет «Императрица без короны» (1942), до всех, отошедших в лучший мир, ибо все очищены смертью и оживают для иной, праведной жизни, выходят из могил и начинают общаться меж собой, сбросив одежду земных грехов, в фантастической пьесе «Страшный суд» (1941).








