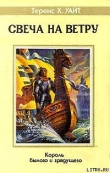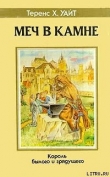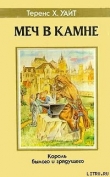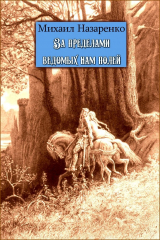
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Он звонит по тебе.
Вот такая рождественская (или пасхальная) история.
Предисловие Гарднера полупародийно, однако именно «полу-». В предисловии к «Полуночным задачам» Кэрролл признавался, что темные, тягостные мысли нередко посещали его в часы бессонницы; мрачных шуток о смерти немало в обеих сказках об Алисе – но «Снарк» мрачнее всего. В его финале нет здравомыслящей викторианской девочки, стряхивающей с себя мутный сон, – только «наступающая тьма».
В «Снарке» Кэрролл еще более явно, чем в «Бармаглоте», следует древней англосаксонской традиции. «Северная теория мужества», описанная Толкиным в лекции «Чудовища и литературоведы»,[40] 40
Дж. Р. Р. Толкин. Профессор и чудовища. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – С. 37-38. Том Шиппи в монографии «Дорога в Средьземелье» (СПб.-М.: Лимбус Пресс, 2003. – С. 277-278) показывает, что эта теория лежит в основе этики «Властелина Колец».
[Закрыть]ставит человека и даже богов перед лицом неизбежного поражения, которое вовсе не означает, что можно опустить руки и не участвовать в борьбе. Беовульф знает, что битвы с драконом ему не пережить, но идет в бой. Булочник, герой явно автобиографический, знает, что среди Снарков бывают Буджумы, но наравне со всеми участвует в охоте. Его исчезновение знаменует не только зыбкость человеческого бытия, но и становление нового жанра. Жанра, в котором детское, сказочное и невозможное становится героическим, эпическим и безусловно достоверным.
PS. Кстати: мы живем в мире, где буджум действительно существует. Это дерево, произрастающее в мексиканской пустыне, отличается столь необычной формой, что открывший его ботаник не мог удержаться от крика: «Это же буджум! Определенно – буджум!..»
_______________________
9. Когда эльфы были маленькими
Никто, кроме англичан, не смог бы создать такой бессмыслицы; однако никто, кроме них, создав такую бессмыслицу, не попытался бы отнестись к ней серьезно.
Г. К. Честертон. «Льюис Кэрролл».
В современном исследовании английской детской литературы приводится такая история: «…На премьере «Питера Пэна» в 1904 г., когда публика овацией встретила слова о том, что дети должны «верить в фей», Энтони Хоуп [известный писатель того времени] прошептал: “О, хоть бы на час сюда царя Ирода!”».[41]41
Л. И. Скуратовская. Детская классика в литературном процессе Англии XIX-XX веков. – Днепропетровск: ДГУ, 1992. – С. 137.
[Закрыть]
Мистер Хоуп был не одинок в своем презрении к царству фей.
«– …Те, кого вы называете феями, – существа выдуманные, о которых Народ Холмов никогда и не слыхивал: крохи в марлевых платьицах, с сияющей звездой в волосах, с крылышками, как у бабочек, и напоминающей трость учителя волшебной палочкой, которой они наказывают плохих и награждают хороших. Знаю я их!
– Мы говорим не о них, – сказал Дан. – Этих мы тоже терпеть не можем.
– То-то же! Так разве удивительно, что Народ Холмов не очень-то любит, когда его путают с этими лживыми самозванцами с раскрашенными крыльями, сладкими речами на устах и размахивающими направо-налево волшебными палочками? Только представьте – крылья бабочек! А я видел, как сэр Гуон со своим народом направлялся, наперекор юго-западному ветру, из замка Тинтагель к Ги-Бразилю. Брызги летели выше Замка, и Кони Холмов обезумели от страха…»
Пак с Волшебных Холмов, герой одноименной книги Редьярда Киплинга (1906), проводит четкую грань между «Народом Холмов» и «феями» – последнее слово ему вообще очень неприятно.
Еще один пример. Фольклорист и писатель Эндрю Лэнг на протяжении двадцати лет издавал «разноцветную» серию сказок народов мира. В предисловии к «Сиреневой книге сказок» (The Lilac Fairy Book, 1910) он писал:
«Как утомительны те триста шестьдесят пять авторов, которые пытаются сочинять волшебные сказки! Они всякий раз начинают с того, как маленький мальчик или девочка идет гулять и встречает фей гардении, нарцисса и яблочного цвета… Эти феи пытаются развеселить ребенка, да не умеют; или читают мораль, и преуспевают в этом. Настоящие феи не проповедуют и не изъясняются на жаргоне. В финале мальчик или девочка просыпается и понимает, что всё это был сон».
На приведенные слова Лэнга сослался Толкин в лекции «О волшебных историях» (1938), но возложил вину за искажение благородного эльфийского облика не на XIX век, а на Уилла Шекспира и его современника Майкла Драйтона, чью поэму «Нимфидия» мы упоминали в пятой статье цикла («РФ», 2004, № 10). А в поздней сказке «Кузнец из Большого Вуттона» (1967) только бездарный повар Нокс может выдать белую куколку, украшающую торт, за Королеву Фей, и только дети, лишенные истинного знания, могут ей радоваться, к огорчению подлинного Короля Волшебной Страны.
Но едва ли не самый острый гвоздь в гробик миленьких крылатых созданий забил прославленный английский юморист П.Г. Вудхауз. В его лучшем романе «Положитесь на Псмита» (1923) поэтесса мисс Пиви («сплошная великосветскость, тончайшая одухотворенность») мучает окружающих вопросами такого типа: «Не думаете ли вы, что роса – это слезинки фей?». Впоследствии мисс Пиви оказывается профессиональной грабительницей, издавшей, впрочем, несколько поэтических сборников: уж она-то знает, что для среднего англичанина претензии на одухотворенность неразлучны с умилениями на тему фей.
Должно было пройти немало времени, чтобы мог появиться серьезный фэнтезийный роман, в котором действуют те самые крохотные феи, столь раздражавшие читателей начала прошлого века, – «Маленький, большой» Джона Краули (1981).
Вот как далеко зашли герои шекспировского «Сна в летнюю ночь». Однако в этой статье речь пойдет о викторианских романистах, которые, заглянув в Волшебную Страну – и даже углубившись в ее дебри, – вынесли оттуда ворох ярких образов, принципиально важных для современной фэнтези, и… не смогли соединить их воедино. Не в последнюю очередь потому, что миленькие детки, с крылышками и без, заполонили их книги. И потому, что романисты эти учили добру и вели читателей к Богу – не путем свободной фантазии, но под конвоем нравоучений и положительных примеров.
А зовут этих моралистов, – Льюис Кэрролл, Чарльз Кингсли и Джордж Макдональд.
Алиса прошла сквозь Зеркало и дошла до восьмой горизонтали, Снарк оказался Буджумом, и Булочник исчез вдалеке. И всё это время Льюис Кэрролл трудился над тем, что считал главной своей книгой, двухтомным романом «Сильвия и Бруно».
В январе 1867 года он начинает работу над «Зазеркальем» – в декабре печатает сказку «Месть Бруно». В 1873 рассказывает о Сильвии и Бруно дочкам лорда Солсбери – в 1874 пишет «Снарка». В декабре 1889 выходит в свет первый том романа – в 1890 печатается «Алиса для малышей», ужасающий пересказ для «Детей от Нуля до Пяти»: «Жила-была девочка, и звали ее Алисой, и приснился ей очень странный сон. Хочешь узнать, что же ей приснилось? Вот с чего всё началось…»
Кэрроллу было уже под шестьдесят, и многолетнее преподавание в Оксфордском университете, соединившись с непоказным благочестием джентльмена и диакона, породило стремление просвещать всех и вся. Но Кэрролл оставался Кэрроллом, и даже в «Алисе для малышей» мы находим следующую инструкцию:
«Ну что, хотелось бы тебе увидеть такой же странный сон?
Сделай-ка так: ложись под деревом и жди, пока мимо не пробежит Белый Кролик с карманными часами в лапке; тогда закрой глаза и притворись, что ты – миленькая Алиса».
«Притворись» – не вполне точный перевод. «Pretend» – «сделай вид, как будто…», «поиграй, как будто…». «Let us pretend», как мы помним из «Зазеркалья», – любимая фраза самой Алисы.
Приведенная инструкция – не такая уж шутка. В предисловии ко второму тому «Сильвии и Бруно» Кэрролл писал:
«Я предположил, что человеческое существо способно находиться в трех состояниях сознания:
а) в обычном состоянии, когда присутствие фей не осознается;
б) в «странном» состоянии («eerie»), когда человек осознает свое окружение и присутствие фей;
в) в состоянии некоего транса, когда человек не осознает свое окружение, как бы спит, но его нематериальная сущность путешествует в другие места – в этом ли мире или в мире фей, – и осознает их присутствие.
Также я предположил, что феи способны приходить из своего мира в наш, принимать по желанию человеческую форму и также находиться в различных состояниях сознания» (пер. А. Флотского, цитирую с изменениями).
После этого странно читать слова Кэтрин М. Бриггс, автора книги «Фейри в традиции и литературе»: «Книги об Алисе Льюиса Кэрролла не имеют ничего общего с Волшебной Страной, а его попытки вывести эльфов в «Сильвии и Бруно» не увенчались успехом».Кэрролл не только имел прямое отношение к Волшебной Стране, но и знал туда дорогу. Ощущение перехода на Ту Сторону – едва ли не самое подлинное, что есть во всех пятистах страницах «Сильвии и Бруно». Но отчего же один из виднейших специалистов по Народу Холмов подвергает сомнению компетентность Кэрролла?
Поскольку роман издан по-русски недавно (в 2003 году), да к тому же малым тиражом, имеет смысл рассказать, что же в нем происходит – тем более, что не все читатели, открывшие книгу, смогли ее закончить.[42]42
Льюис Кэрролл. Сильвия и Бруно.– Томск-Москва: Водолей Publishers, 2003. Перевод Андрея Голова не очень-то удачен. Из немногочисленных рецензий на роман наиболее интересные написаны В. Дегтяревым (Заповедник. – 2004. – № 50; и О. Канунниковой (Новый мир. – 2004. – № 6).
[Закрыть] Для затравки – несколько цитат из первой главы:
«…И тогда все опять зааплодировали, а какой-то незнакомец, взволнованный больше остальных, подбросил свою шляпу в воздух…
Всё это я видел через открытое окно Столового кабинета вице-губернатора, выглядывая из-за плеча Лорда-канцлера…
«Марш» этот выглядел очень забавно: это была странная процессия людей, вышагивавших по двое в ряд; начиналась она где-то за пределами площади и двигалась неровным зигзагом в направлении Дворца, отчаянно шатаясь из стороны в сторону, подобно тому, как парусное судно лавирует против встречного ветра, так что при очередном повороте голова процессии часто оказывалась дальше от нас, чем при предыдущем.
– Урр-ра! Неет! Консти! Ттуцыя! Меньше! Хлеба! Больше! Налогов!.. Речь! Пусть Канцлер произнесет речь!
– Хорошо, друзья мои! – с необычайной быстротой произнес Канцлер. – Будет вам речь… Хм! Хм! Хм! Страждущие братья, или, лучше сказать, собратья по страданиям… («Только не называйте имен!» – прошептал человек, стоящий под окном. – Я же не говорю – братва, – пояснил Канцлер). – Уверяю вас, что я всегда с симпа… («Верно, верно!» – закричала толпа…)».
А потом появляются дети верховного Правителя, Сильвия и Бруно, и Профессор пропускает «юную и прелестную госпожу» «в мою комнату» (что-что? в какую комнату? откуда взялась «его» комната?), и повествователь понимает, что он – «всего лишь один из второстепенных персонажей», и Профессор уже не Профессор, а «подобострастный проводник», и говорит он: «Да, госпожа, пересадка в Фэйфилде», и комната становится вагонным купе, а Сильвия – обычной молодой женщиной.
«– Так значит, либо мне приснилась Сильвия, – сказал я себе, – и я проснулся. Либо я и вправду был рядом с Сильвией, а это – всего лишь сон. А может быть, и вся жизнь – не более, чем сон?»
Подобные переходы Туда и Обратно будут сопровождать читателя на протяжении всей книги, но нигде больше Кэрроллу не удастся создать такое же головокружительное ощущение. «Чей же это был сон?» – спрашивала Алиса, вернувшись из Зазеркалья, – ее или Черного Короля? Тут не обязательно вспоминать притчу о бабочке, которой снится, что она Чжуан-цзы: достаточно сказать, что от Платона до романтиков проблема соотношения сна и яви не исчезала из европейской культуры.
Поразительно, что в первых главах романа Кэрроллу удается создать две равно достоверные – или равно сновидческие реальности. Реальность первая: Чужестрания (Outland), рядом с которой лежит Эльфландия (Elfland), одна из провинций Волшебной страны (Fairyland; вообще-то, до Эльфландии путь неблизкий, но только если ты идешь не по Королевской Дороге). Реальность вторая: современная Англия и городок с говорящим названием Эльфстон. Переход может произойти в любой миг, посреди разговора, посреди абзаца, и даже песня безумного Садовника («Ему казалось – на трубе увидел он Слона. Он посмотрел – то был Чепец, что вышила жена») не всегда служит знаком того, что мы вместе с рассказчиком пересекли границу. Но, несмотря на кажущуюся хаотичность, «Сильвия и Бруно» в начале своем – текст весьма связный и последовательный.
Правитель Чужестрании оставил страну на своего брата, Вице-губернатора, и покинул дворец, чтобы стать королем Эльфландии. Брат под шумок провозгласил себя Императором, «полным повелителем с правом карать и миловать», а законным наследником вместо принца Бруно объявил своего отвратительного сынка Уггуга. Сильвия и Бруно ушли из дворца вслед за Нищим (нужно ли говорить, что это переодетый Правитель?) и попали в Эльфландию, где, само собой, стали эльфами.
Первые главы романа, возможно, и не принадлежат к числу вершинных созданий Кэрролла, но, тем не менее, хороши – и сами по себе, и на фоне викторианской детской литературы. Ближайший аналог – ироническая сказка Теккерея «Роза и кольцо», упомянутая в прошлой статье. Но Кэрролл куда живее, серьезнее и лучше умеет передавать «странное» состояние.
И всё же в главном Кэрролл ошибся.
Он привел своих героев – а следом за ними и читателей – не в подлинную Волшебную Страну, а в некий очищенный и облагороженный садик, так не похожий на безумный сад Червонной Королевы в Стране Чудес. Не случайно в предисловии к роману он рассказал о своем намерении подготовить к печати том сочинений Шекспира, сокращенных таким образом, чтобы их могла без стеснения читать юная леди. С Эльфландией Кэрролл проделал схожую процедуру.
Уже после смерти писателя вышел в свет его сборник «Три заката и другие стихи», иллюстрированный давним другом Кэрролла Гертрудой Томсон. История их знакомства поможет объяснить причину неудачи «Сильвии и Бруно». Кэрролл и Томсон договорились встретиться на вокзале, но забыли условиться об опознавательных знаках. Часы пробили двенадцать, и…
«В зал вошел высокий джентльмен, который вел за руки двух девочек. Увидев его стройную фигуру и чисто выбритое, тонкое и выразительное лицо, я про себя сказала: «Вот Льюис Кэрролл». С минуту он стоял с высоко поднятой головой, обводя быстрым взглядом зал, а затем нагнулся и что-то шепнул одной из девочек. Та на минуту задумалась и указала прямо на меня. Он отпустил их руки, подошел ко мне и со своей чудесной улыбкой… просто сказал:
– Я мистер Доджсон. Я должен был встретиться с вами, не так ли?
На что я улыбнулась так же открыто и ответила:
– Как вы догадались, что это я?
– Моя маленькая приятельница нашла вас. Я сказал ей, что должен встретиться с юной леди, которая знает фей, и она тут же указала на вас. Но я вас узнал еще раньше».
Гертруда Томсон «знала фей», поскольку изобразила их в цикле рисунков. А теперь посмотрите на ее иллюстрацию к последней книге Кэрролла: жеманный викторианский эротизм – и неизбежные крылышки за спиной эльфа-купидона.
И Льюис Кэрролл полагал, что она знакома с обитателями Волшебной Страны! Сам писатель видел своих героев не вполне такими (опять-таки см. его рисунок), но, во всяком случае, его эльфы крайне далеки и от шекспировских, и от толкиновских, хотя и несколько ближе к первым (в немыслимой классификации фейри, которая никогда не будет составлена).
Сказки об Алисе были совершенно убедительны, потому что даже среди самых странных и нелепых существ героиня оставалась собой: благовоспитанной английской девочкой, чуждой царящему вокруг хаосу. На этом контрасте и строилось повествование. В «Сильвии и Бруно» Кэрролл сначала противопоставляет «хороших» и «плохих» – что, нельзя не признать, получается довольно забавно, – а потом о «плохих» попросту забывает. Остаются образцовая Сильвия и ее добросердечный, хотя и безалаберный брат Бруно, которые существуют только ради того, чтобы вести поучительные разговоры и петь песенки. Бруно к тому же призван развлекать читателей милой неправильностью детской речи, которая передается с ужасающей фонетической точностью – чем английская литература XIX века, увы, страдала: «Фланцузы никогда не можут говолить так чем нас!»[44]44
Цитирую строку так, как она приведена в русском переводе книги Дж. Падни «Льюис Кэрролл и его мир» (М.: Радуга, 1982. – С. 129). В оригинале: «Flenchmen never can speak English so goodly as us!». В единственном полном переводе романа: «Фланцузам ни за что не научиться болтать по-английски так же легко, как мы!» – лишнее доказательство невысокого уровня русского издания «Сильвии и Бруно».
[Закрыть]
Алиса пыталась сохранить свое «я» (ни в коем случае не спутать себя с Мэри-Энн!) – и постоянно меняясь в росте, и заблудившись в лесу, где нет имен и названий. Булочник, страшась Буджума, всё же плыл на охоту за Снарком. Какие экзистенциальные проблемы мучают детей-эльфов?
Бруно хочет отомстить Сильвии за то, что она не давала ему играть и заставляла учиться, – и принимается разорять ее садик; но рассказчик советует сделать то, что наверняка поразит девочку до глубины души, – например, выдернуть сорняки и полить клумбы. Бруно так и делает, а потом рыдает на груди сестры: «Я хххоттел… повыдергать… все твои цветы… но я бббольше… никогда не бббуду… Мне… ужасно… понравилось… сажать цветы для тебя, Сильвия; никогда я еще не чувствовал себя таким счастливым». – Вот зерно романа, сказка «Месть Бруно». Словно не Кэрролл, а Мальвина сочиняет прописи для Буратино (эта параллель невольно возникает у многих читателей). Удивительно ли, что такое зерно дало такие всходы?
Цель путешествий Алисы – найти чудесный сад и восьмую горизонталь шахматной доски. Целью команды Благозвона был Снарк. И каждый зигзаг хоть немного, но приближал к финалу. Но роман «Сильвия и Бруно», как признается сам Кэрролл в предисловии, составлен из множества фрагментов, написанных в разное время и по разным поводам. Движения в «эльфийской» части книги нет вовсе; зато оно есть в «английских» главах.
Простая история любви доктора Артура Форестера, друга рассказчика, к леди Мюриэль. Ревность (потому что рядом с Мюриэль постоянно находится ее кузен Эрик – аналог Бруно в нашем мире), взаимность, разговоры о религии и политике. Поспешная свадьба, потому что Артур отправляется на эпидемию, зная, что не вернется живым. Совсем короткая глава – газетная заметка о его героической смерти. И самое настоящее чудо на последних страницах: Эрик нашел умирающего Артура и выходил его. В какой-то момент ловишь себя на том, что эти люди и их беседы куда интереснее эльфов и волшебных лугов, по которым время от времени бродит рассказчик. Но связь между двумя планами романа отнюдь не произвольна. Сильви поет песенку об утке – одновременно и на том же месте Мюриэль поет «Жаворонка» Шелли. Правитель возвращается домой – к любимой возвращается Артур.
Авторы позднейших времен наверняка сделали бы спасение Артура делом рук эльфов – достаточно вспомнить недавний фильм «Волшебная история» (о девочках, фотографировавших фей), финал которого кажется прямой цитатой из «Сильвии и Бруно». Но у Кэрролла всё иначе. Он не описывал мир, в котором эльфы оказывают людям благодеяния или строят козни. Его мир – прежде всего христианский. Мир, в котором «Бог слышит всякую молитву». Толкин как-то сказал: «Господь – отец людей, ангелов и эльфов»; Кэрролл бы с ним согласился. Любовь здесь воистину движет светила, и следом за ложным известием о смерти Артура идет глава, в которой Кэрролл попытался (безуспешно) передать почти религиозный трепет перед детской красотой и невинностью. Песня, которую поет «волшебный дуэт», так проста и наивна, что ее мог бы написать Джон Леннон периода «All You Need is Love»:
And the name of the secret is Love!
For I think it is Love,
For I feel it is Love,
For I’m sure it is nothing but Love!
«Сильвия и Бруно» – величественное и ужасное поражение. Оглядываясь на пройденный путь – шестьсот страниц малого формата, – понимаешь, что именно хотел сказать Кэрролл, какая грандиозная картина открывалась перед ним: мир, единый во всех своих проявлениях, где зло – смешно и убого (так что о нем даже и говорить не стоит), а добро прекрасно и очаровательно; мир, где возможны чудеса – от созерцания эльфов до обычного восхода.
Но при этом роман не перестает быть записной книжкой, коллекцией скучных стихов и неоконченных сказок («Однажды Совпадение гуляло вместе со Случаем, и им повстречалось Объяснение… – Тут Профессор умолк на полуслове»). В лучшем случае – собрание новых на то время научных идей. Идеи и в самом деле блестящие: поезд, движимый силой гравитации (постоянно под уклон); антигравитационная вата; поведение людей и предметов в свободно падающем доме; односторонний кошелек Фортуната (проективная плоскость), который вмещает в себя весь мир; планета столь маленькая, что отступающая армия оказывается в тылу врага; часы, движение стрелок которых запускает время назад или вперед. Тут Кэрролл был первым или одним из первых, но для нас-то всё это не ново. Писатель перенес акценты с логики и лингвистики на физику и метафизику – и его мир лишился фундамента. Сами по себе рассуждения о свободе воли или о смысле существования человечества через миллион лет – не то чтобы оригинальны, но интересны; беда в том. что они существуют сами по себе, равно как и все прочие рассуждения: никуда не ведут, ничего не характеризуют.
Прежние книги Кэрролла были яркими видениями, каждая деталь которых была подчинена единому Целому, возникавшему вопреки хаосу. «Сильвия и Бруно» – попытка целостного описания мира (вполне фэнтезийная задача, кстати), но в результате целостность текста исчезает.
Важно понять, что неудача Кэрролла – результат закономерного развития целого направления детской литературы, а именно – литературы дидактической. Сказочники уже научились не только поучать, но и развлекать. Эдвард Лир и Льюис Кэрролл доказали, что без поучений можно вообще обойтись; но инерция была слишком сильна.
И, тем не менее, этот опыт оказался очень важен. «Сильвия и Бруно» даже в большей мере, чем «Алиса» и «Снарк», доказали, что в «волшебной повести» возможно чисто интеллектуальное содержание, что история об эльфах не сводится к «очарованию» героев и читателя.
Но в этом Кэрролл первопроходцем не был.
Через год после памятной лодочной прогулки, когда мистер Доджсон импровизировал сказку о приключениях Алисы под землей; за два года до выхода «Страны Чудес» – другими словами, в 1863 году, – был опубликован роман Чарльза Кингсли «Водяные дети (Волшебная сказка для земных детей)». На русский язык он был переведен еще в XIX веке и переиздан в конце ХХ-го – но известен у нас еще хуже, чем «Сильвия и Бруно».[46]46
См.: Н.М. Демурова. О литературной сказке викторианской Англии: Из истории детской английской литературы (Рёскин, Кингсли, МакДональд) // Вопросы литературы и стилистики германских языков. – М.: МГПИ, 1975. Л.И. Скуратовская. Проблематика и жанрово-стилистические особенности сказки Чарльза Кингсли «Водяные малыши» // Проблемы метода, жанра и стиля зарубежной литературы. – Вып. 2. – Днепропетровск: ДГУ, 1975.
[Закрыть] А между тем, именно книга Кингсли послужила в то время таким же «тараном» для детской литературы, как сто лет спустя «Властелин Колец» – для литературы фэнтези. Только на волне успеха «Водяных детей» (и под давлением Джорджа Макдональда) издательство «Макмиллан» решилось напечатать «Алису». И, что не менее важно, современные исследователи называют именно роман Кингсли первой английской «волшебной повестью», в которой мораль подчинена развлечению.
Чарльз Кингсли был чрезвычайно интересной фигурой в английской жизни позапрошлого века. Священник и проповедник (капеллан королевы Виктории!), историк и писатель, чартист (борец за права рабочих) и дарвинист. Непоколебимый христианский моралист, убежденный в том, что африканские и австралийские туземцы находятся на более низкой эволюционной ступени, чем белые люди, а значит, физически неспособны понять Евангелие…
«Отыщи всему начало, и ты многое поймешь», – говорил Козьма Прутков. Книга Кингсли – это если и не самое начало национальной сказочной традиции, то, во всяком случае, один из основополагающих текстов. В ней еще нет той уютной атмосферы, которая кажется неотъемлемой частью «английскости» (и которую в сказки привнесет Диккенс). Но даже поучения и лекции пронизывает игровой дух, без которого нет правильной английской сказки. А вот когда разберешься, что именно проповедует Кингсли… Но по порядку.
Главный герой, мальчик-трубочист Том, – типичный «маленький оборвыш», страдающий под игом злого хозяина (только не сохранивший невинность Оливера Твиста). «Он не умел ни читать, ни писать и нисколько об этом не тужил. Он никогда не умывался, потому что у них в квартире не было воды. Никто не учил его молиться. Никогда не слыхал он ничего ни о Боге, ни о Христе…» – так что, увидев в комнате доброй девочки Элли картину, изображающую распятие Христа, Том подумал: «Бедолага. А такой на вид добрый и мирный. Наверное, это какой-нибудь ее родич. Дикари убили его где-нибудь в заграницах, а она картинку повесила на память».
После ряда злоключений, осознав, какой он грязный – в физическом и моральном смысле («грязь», «dirt» – одно из ключевых понятий книги), – Том исчезает. Тонет, как думают все. Он и впрямь чуть было не утопился, пытаясь очиститься; но на самом деле – он превращен феями в трехдюймовое «водяное дитя». Аллюзия на обряд крещения очевидна.
Под водой Том обретает всё, чего был лишен в прежней жизни, – заботу, учение и чистоту. Окончательную «отделку» он получает – где же еще! – на сказочном западном острове, острове святого Брендана, «старый Платон называл его Атлантидой». Но никогда кельтские сказания не знали таких фей (каких именно, скажу чуть ниже). В Атлантиде Том встречает девочку Элли (утонувшую по небрежности учителя) и проходит последнее испытание – разыскивает своего бывшего хозяина «на том краю Нигде» и обращает его к добродетели.
Всё это было бы довольно скучно, если бы не замечательный повествовательный талант Кингсли и, как я уже говорил, ирония. «Что ж, мой маленький друг, чему нас учит эта притча? Примерно тридцати семи – тридцати девяти вещам, точно не скажу…» – так начинается послесловие к сказке.
То, что в «Сильвии и Бруно» выглядело несочетаемым, в «Водяных детях» совершенно естественно дополняет друг друга: волшебство и научное знание. Кингсли был заядлым натуралистом и изобразил подводных обитателей не условными «зверюшками», а самыми настоящими представителями своего вида.
«…И старый кит зевнул так широко (а был он очень велик), что в его пасть заплыли 943 морские моли, 13846 медуз размером не больше булавочной головки, сальпа длиной в девять ярдов и сорок три маленьких краба, которые ущипнули друг друга на прощание, поджали ножки и приготовились умереть достойно, как Юлий Цезарь».
Похоже на Киплинга, не так ли? А сходство глубже, чем может показаться: Кингсли жонглирует словами, вставляет латинские фразы, звучные имена, ничего не говорящие детям («Профессор Гексли… Профессор Фарадей»), и рассуждения, которые не могут и не должны быть понятны маленьким читателям. Это книга «на вырост» – не «для всех возрастов», как «Алиса», но именно «на вырост». Звучание и ритм иногда важнее смысла – а там и смысл понемногу станет яснее.
Не моргнув глазом, Кингсли доказывает возможность существования фей: разве не говорили ученые, что драконов не бывает? а недавно сами их открыли, только со стыда называют Птеродактилями… (Читатель заодно узнаёт слово «окаменелости».) А ведь можно «доказать» и то, что слоны – совершенно невозможные животные (доказательство прилагается)!
Нет, Кингсли не верит в фей, но свято исповедует веру в неисчерпаемость природы. Для читателя наука оказывается другой стороной волшебства, для автора волшебство – оборотная сторона науки.
На фоне этого интеллектуального и словесного фейерверка анахронизмом кажутся две феи, надзирающие за Томом. А зовут их – Дапоступятстобойкактысдругими и Поступайтаккактыхочешьчтобыстобойпоступали (в оригинале, конечно, не столь тяжеловесно: Bedonebyasyoudid & Doasyouwouldbedoneby). Вторая – добра и ласкова, первая – строга и ходит с розгой под мышкой, а в финале обе, конечно же, оказываются ипостасями Матушки Заботы. Любопытно, что Матушка, помимо прочего, еще и воплощение Эволюции, которая «круглый год превращает одних живых тварей в другие», и люди тут не исключение.
Нравоучительные феи – даже для тех времен не новый образ, а нынешнего читателя и раздражающий. Но дело в том, что за буйной игрой в «водяных детей» стоит продуманная и сложная система, которая должна быть внушена читателю – и более того: которая должна изменить читателя, сделать из него, как из Тома, «нового человека». Вот почему нужна мисс Дапоступят […], которая раз в неделю наказывает нехороших детей (нестрого) и очень дурных взрослых (куда как строже). А в числе наказуемых взрослых неожиданно оказываются… врачи! К чему пичкать детей лекарствами? И так выздоровеют!
Так и обнаруживается, что прогрессивный человек Чарльз Кингсли испытывал к науке как таковой не меньшее недоверие, чем тургеневский Базаров. Идеи «мускулистого христианства» (добро должно быть с кулаками?) предполагали, что человек должен полагаться на собственные силы и не верить абстракциям. Остров, на котором поклоняются идолу Экзамену и вечно повторяют: «Уже идет экзаменатор, а я не готов!»; где целыми днями заучивают ответы на вопросы «Каково расстояние между альфой Лиры и бетой Жирафа?» и «Каковы точные координаты города Обьегорьевска, округ Ничейноу, штат Орегон, США?», – такой остров, несомненно, является карикатурой на формальную систему обучения. (По университетским нравам не преминул пройтись и Кэрролл в «Сильвии и Бруно».) Но Кингсли этим не ограничивается: ему враждебно любое абстрактное знание, не имеющее практического применения. Недаром учитель Элли стал причиной ее гибели и отказался признавать реальность водяных детей, даже поймав Тома. Недаром, пересказывая миф о двух братьях, стороннике прогресса Прометее и осмотрительном Эпиметее, – автор решительно отдает предпочтение второму. Но еще хуже ученых проклятые паписты: Кингсли, разумеется, презирал католиков. Монахи и папы римские включены в перечень напастей, вылетевших из ящика Пандоры, в одном ряду с войнами и пораженцами, идолами и корью, демагогами и шарлатанами, «и хуже всего – Плохими Мальчиками и Девочками».
Л. Скуратовская, на чьи работы по истории детской литературы я не раз ссылался, реконструировала образ идеального читателя «водяных детей». Это настоящий англичанин, будущий строитель империи, «бульдог, который никогда не признает своего поражения», «храбрый малый, чье дело – покинуть дом и увидеть мир». Я добавлю: неудивительно, что, превратившись в человека, Том становится «очень ученым» – но в каких областях! Он умеет создавать «железные дороги, и паровозы, и электрический телеграф, и винтовки, и всё такое прочее». Воспитание завершилось.
Боюсь, что плохо пришлось бы Сильвии и Бруно в руках подводных фей.
Но, тем не менее, повторюсь, роман Кингсли и сейчас не кажется написанным только нравоучения ради, а в XIX веке – тем более. Сказочная утопия дала свои плоды: для детей поколения Киплинга она была настольным чтением.
«Водяные дети» – причудливая смесь христианской проповеди с воинствующим прагматизмом и новомодным дарвинизмом. Но одновременно с Кингсли жил писатель, чей мистицизм был не менее глубок, однако воплощался совсем в иных формах. Писатель, оказавший прямое или косвенное влияние на полтора века истории фэнтези. Почему же до сих пор одни читатели его боготворят, а другие терпеть не могут – вне зависимости от религиозных убеждений?..
Джордж Макдональд – герой следующей статьи цикла.
_____________________