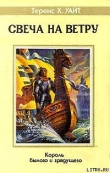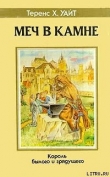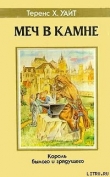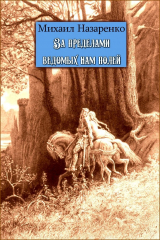
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Капитан Джеймс Крюк (кстати, тезка Барри) – вообще фигура прелюбопытная. Он негодующе зовет Питера «мальчишкой» – тот отвечает ему: «Мужчина!» На деле же оба отражают друг друга. Простейший пример – оба претендуют на звание убийцы Джона Сильвера. Крюк – такой же мальчишка, как и Питер Пэн (недаром пираты хотят похитить Венди и сделать ее своей «мамой»)… такой же, да не такой. Питер сбежал в первый день своей жизни; Крюк закончил одну из лучших школ Англии – Итон, как мы узнаем из пьесы. Питер может играть в любые игры, во время кровавого боя с индейцами он переходит на их сторону, а захватив корабль – естественно, сам становится Крюком и велит дать плетей одному из мальчишек за промедление. Крюк знает только одну игру – в пиратов, и его тяготит то, что она противоречит кодексу старой школы, учеником которой он до сих пор является. Отсюда – и его забота о поддержании «хорошей формы», и ненависть к Питеру, который, как и подобает джентльмену, об этом вообще не задумывается. Не случайно в пьесе Крюк бросается в пасть крокодилу, бормоча «Floreat Etona» («Да процветает Итон»), а в повести перед смертью окончательно возвращается в детство. «Мальчики летали вокруг, глумясь и издеваясь над ним… но мыслями он был далеко; он шел, сутулясь, по спортивному полю давних времен, его вызывали к директору, он болел за футбольную команду своей славной школы. И ботинки у него были как надо, и жилет как надо, и галстук как надо, и носки как надо!»
Вот в чем дело: Питер – дитя, Крюк – подросток, одержимый комплексами своего возраста и окружения. Понятно, почему Питер не хочет идти в школу, когда миссис Дарлинг ему это предлагает. Единственная травма Питера – память об окне в детской, которое закрыла его мама, когда отчаялась вернуть сына; и память о том, что его место занял другой ребенок. Поэтому он плачет во сне – и как бы порадовался этой сказке Фрейд: смерть великого пирата – явное символическое отцеубийство, ведь по традиции мистера Дарлинга и Джеймса Крюка играет один и тот же актер.
Такова неожиданная – но насколько показательная! – трактовка традиционного для британской литературы рубежа веков сюжета: встреча культурного, образованного англичанина с Паном, эльфом, ребенком… да не все ли равно!
Совсем с другой стороны (и тут мы возвращаемся к началу) к той же или почти той же теме подошел Кеннет Грэхем, автор «Ветра в ивах» (1908); а первая его книга характерно называлась «Языческие записки» (1893). Конечно, не Грэхем первым в английской литературе написал о зверях, которые одеты, как люди, и ведут себя соответственно – достаточно вспомнить, что одновременно создавала свои книжки с картинками Беатрикс Поттер («Сказка о кролике Питере», 1901, – и многие другие). Но Поттер – часть истории детской литературы, а Грэхем – важная фигура и в истории фэнтези. Ибо ему удалось создать ни много ни мало – мир. Не вполне представимый (господин Жаба переодевается прачкой, и никто не сомневается, что он человек; Барсук предлагает гостям пирог со свининой) – но зато мир этот ощутим до последней мелочи. Недаром в книге так много описаний – как для сказки, так даже слишком много: еще одна «детская книга», которую взрослый создал для себя.
Это рассказ о том, как господин Жаба, вопреки запрету друзей, поехал кататься на машине, попал в тюрьму, бежал из нее, а потом вынужден был освобождать родовое поместье от захватчиков – куниц и хорьков. Но история похождений глупенького и хвастливого Жабы не столь уж важна сравнительно с изображением прекрасной – то есть в меру опасной, в меру романтичной – английской провинции. Дикий Лес рыцарских романов стал обиталищем куниц, но и добродушно-ворчливого Барсука; далекие страны колониальной прозы остались в рассказе Корабельного Крыса, который чуть не сманил своего речного собрата в путешествие. Попытки что Крысы, что Жабы покинуть родные края всем кажутся сущим безумием – даже самим героям, когда они опомнятся. Крот ненадолго оставляет свою нору – но со слезами радости в нее возвращается, чтобы отпраздновать Рождество (!). И Пан, которого звери встречают на острове, – бог добрый и заботливый.
Отсюда произойдет Хоббитания: норы полуросликов явно расположены неподалеку от обиталищ кролика Питера и Крота. Соединением традиций Грэхема и Толкина станут «Обитатели Холмов» («Уотершипский холм», 1972) Ричарда Адамса, пионерский текст «анималистической фэнтези» и едва ли не лучший фэнтезийный эпос со времен «Властелина Колец», даром что герои его – английские кролики.
На каждого Бэггинса и Тука, в котором проснется тяга к странствиям, смотрят как на сумасшедшего, – и хоббитов не так-то просто поднять даже на защиту страны от вторжения; но когда уж они поднимутся… Сарумановы полуорки не знали, с какой яростью господин Жаба гнал оккупантов[106]106
А еще, кажется, именно Грэхем изобрел столь популярный в современной фантастике сюжет: «рыцарь вступает в сговор с драконом» (очаровательная сказка «Дракон-лежебока», 1898).
[Закрыть].
Венди, стоя у мачты пиратского корабля, обратилась к пропащим мальчикам с прочувствованными словами – от имени их настоящих мам: «Если вы должны умереть, то мы надеемся, что вы умрете, как истинные англичане!»
И они умирали – некоторые даже в бою. Джон Киплинг – в восемнадцать лет погиб на фронте Первой мировой. Джордж Льюэлин-Дэвис – погиб на фронте в двадцать два года. Майкл Льюэлин-Дэвис, главный прототип Питера Пэна, каков он в повести, – утонул в двадцать один год, подозревали самоубийство. Питер Льюэлин-Дэвис – покончил с собой в шестьдесят три года; как и Кристофер Милн, он не любил вспоминать о «том ужасном шедевре». Алистер Грэхем, чья неуравновешенная натура воплотилась в образе господина Жабы, – за два дня до двадцатилетия бросился под поезд.
«Необычайно долгими и жаркими выдались летние месяцы в Англии последних лет правления королевы Виктории и в годы короля Эдуарда [т.е. до 1910 г.], – так начинается эссе Антонии Байетт о Питере Пэне. – Семьи были велики, и от детей больше не требовали, чтобы они оставались на виду, но не издавали ни звука. Дети болтали, и взрослые болтали с ними; они сломя голову бегали по лесам и полям; они вели совершенно независимую и безмятежную жизнь, которой их степенные родители несколько завидовали. Во всяком случае, так кажется, когда читаешь замечательные детские книги того времени, изобразившие эпоху в фантастическом свете».
Пан вечен и смертен; не потому ли его флейта казалась викторианцам самым подходящим символом бренной эпохи.
Ветер в ивах, голос в тростнике. Солнце заходит, кончается лето.
_________________________
16. Ирландские сновидцы
(В соавторстве с Ефремом Лихтенштейном)
Легко ступай: ведь под ногами – грезы.
У. Б. Йейтс.
«Он мечтает о плаще небес»
(пер. А. Блейз).
Страны, которым не повезло с политической историей, находят утешение в мифах.
Чарльз Стюарт Парнелл, крупнейший политический деятель Ирландии конца XIX века, умер в 1891 году, – но для героев Джойса, живущих на рубеже веков, он уже фигура легендарная и романтическая. Мифологизация заразительна: в 1920-е годы честертоновский отец Браун, отнюдь не ирландец, а стопроцентный англичанин, будет полушутя-полусерьезно рассматривать вопрос, являлся ли призрак Парнелла премьер-министру Уильяму Гладстону («Проклятие золотого креста»).
Размывание границ между современностью и историей, реальностью и мифом: достаточно вспомнить, что борцы за независимость Ирландии в XIX веке приняли имя фениев – дружины легендарного вождя Финна Мак-Кумхайла. Для культуры такое смешение времен и миров зачастую благотворно, для страны – скорее опасно.
Еще одно необычное соединение: Ирландия – страна, в которой национальное возрождение состоялось, но на языке колонизаторов. На английском писали Йейтс и Шоу, и Беккет (он еще и на французском), и Шеймус Хини – все лауреаты Нобелевской премии. И Джойс, разумеется: Джойс, описавший в «Улиссе» довольно-таки зловещую сцену. Англичанин, собиратель ирландского фольклора, благодарит старушку молочницу, воплощение матери-родины, обращаясь к ней на гэльском языке. В ответ же слышит: «Это вы по-французски, сэр?» И, когда ей снисходительно объяснили, прибавляет: «Мне и самой стыд, что не умею на нашем языке. А люди умные говорят, язык-то великий»[107]107
Пер. С. Хоружего.
[Закрыть].
Можно сказать, что главными проблемами ирландского возрождения (помимо собственно политических) были языковая и читательская: каким должен быть язык новой литературы и для кого она должна создаваться. Каждый решал их по-своему. Позиция Уильяма Батлера Йейтса была недвусмысленной и обдуманной. «Гэльский язык – язык моей нации, но не мой родной язык»; «искренняя попытка создать аристократическую, эзотерическую ирландскую литературу была моей главной амбицией. У нас есть литература для народа. но для избранных – ничего». Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансени (ударение на второй слог) не выбирал: для него было совершенно естественным писать по-английски, для своего удовольствия и без оглядки на читателя. Йейтс – лауреат Нобелевской премии, одна из крупнейших фигур литературы рубежа веков. Дансени – типичный «малый классик», или «малый маг», как называлась недавняя статья, ему посвященная[108]108
Laura Miller. Minor magus: The fantastical writings of Lord Dunsany // New Yorker. – 6.12.2004.
[Закрыть]: тот, о ком надо напоминать. А между тем, сто лет назад для читающей публики эти имена были сопоставимы. Кем же они были, почему важны в истории фэнтези, чем они обязаны Ирландии – и чем Ирландия обязана им?
«Одна из главных проблем жизни состоит, в том, что мы не способны испытывать несмешанные эмоции. Нам всегда что-нибудь нравится во враге и не нравится в друге. Из-за этой неопределенности мы раньше времени стареем, а на лбу и вокруг глаз у нас появляются морщины. Если бы мы могли любить и ненавидеть так же искренне, как ши, то, возможно, стали бы долгожителями. Но пока этого не произошло, их неустанные радости и горести будут составлять для нас львиную долю их привлекательности». Так писал в эссе «Неутомимые» Уильям Батлер Йейтс (1865-1939).
Он сформировался как поэт и эссеист еще в 1880-е годы и стал одной из заметных фигур на викторианском литературном небосклоне, принял активное участие в английском движении символистов, заинтересовался декадентами, поднял на щит «Ирландское литературное возрождение», вступил в несколько эзотерических орденов и даже был из одного исключен. В начале ХХ века он оказывается уже среди самых ярких деятелей английского модерна (секретарем у него служит Эзра Паунд, вместе с которым Йейтс принимает участие в судьбе Т. С. Элиота), переживает его расцвет и, в конце жизни, пишет самые сильные поэтические произведения.
Отец Йейтса был англичанином, художником-прерафаэлистом, предки матери были ирландскими торговцами, и происхождение писателя во многом определило круг тем и проблем его творчества. С одной стороны, Йейтс всю жизнь оставался пламенным патриотом Ирландии (он даже стал сенатором Свободного государства), с другой стороны – оставался плотью от плоти английской культуры и весьма отрицательно относился к гэльскому ура-патриотизму. «Личная религия и мифология» Йейтса уходила корнями в ирландские мифы и легенды, но его творчество, особенно в поздний период, было обращено к космополитичным интеллектуалам Европы. Йейтса восхищал и привлекал ирландский гэлик, но он так и не выучил его: «Моя душа воспитана Шекспиром, Спенсером и Блейком, возможно, Уильямом Моррисом и английским языком, на котором я думаю, разговариваю и пишу». Так Йейтс стал своего рода мостом, который вывел ирландскую культуру из «кельтских сумерек» и включил её в общеевропейский контекст.
Из детских впечатлений и услышанных от крестьян фольклорных рассказов и берет начало страстная любовь Йейтса к ирландским мифам, легендам и волшебным сказкам. Именно там он впервые встретился с народом холмов, который для местных жителей обладал куда большей реальностью, чем ангелы или черти. («Каким бы скептиком человек ни был, он все равно верит в фейри, потому что… “это само собой разумеется”») Ши и «дикие духи» Древней Ирландии не теряли для писателя привлекательности – и реальности! – на протяжении всей его жизни. В конце концов он даже поселился в доме, построенном на месте древних развалин Тор Баллили, с которыми связаны предания о народе холмов. Не случайно первым опубликованным стихотворением Йейтса стала «Песнь фейри» (1885), и не случайно три года спустя он говорил, что его поэзия «почти без исключения является бегством от реальности в волшебную страну и призывом к такому побегу» (как не вспомнить толкинское «бегство от действительности» – одну из главных функций любой «волшебной истории!»)
Увлечению «древнейшим наследием ирландского народа» немало способствовала мечтательная натура визионера. Под впечатлением от увиденного или услышанного Йейтс мог видеть чрезвычайно яркие картины, так что герои древних песен и в самом деле зримо проходили перед ним. «Порой, ограждая себя от низменных влечений и на время забывая о беспокойстве, я вижу сны наяву – то блеклые и призрачные, то такие же яркие и осязаемые, как окружающий нас материальный мир. Но, блеклые они или яркие, я все равно не в силах хоть в чем-то их изменить. Они своевольно носятся взад и вперед и подчиняются лишь собственным законам».
Вместе с мистиком и поэтом Джорджем Расселлом Йейтс в том же 1885 году основал в Дублине ложу «Герметического общества». Он читал труды Сведенборга, Якоба Бёме и других мистиков и духовидцев. Более всего его привлекла теософская доктрина, гласящая, что в основе каждого мифа, религии или верования лежит полузабытая и искаженная истинная мистическая религия, которая описывает недоступные для науки того времени стороны реальности. Таким образом, любая религия или образ мысли принимались и изучались с тем, чтобы через них выйти к праистоку, первомифу. Йейтс не мог пройти мимо такой великолепной возможности увязать свою любовь к «провинциальному» ирландскому фольклору со страстным увлечением европейскими мистиками, особенно поэтом Уильямом Блейком.
Правда, отношения с теософами у него сразу не заладились. Он не мог поверить в существование «Тайных Учителей из Шамбалы», которые ведут активную переписку с мадам Блаватской. К тому же интересы Йейтса привели его к увлечению практической магией, и в конце концов руководство Эзотерической секции общества потребовало от него прекратить эксперименты по воскрешению сожженного цветка (такой опыт приписывался Парацельсу). Йейтс отказался подчиниться, и был исключен.
Вскоре (1890) он вступил в другую оккультную организацию – орден Золотой Зари; быстро поднялся во внутренней иерархии ордена и, достигнув степени Меньшего Адепта, принял магическое имя «Daemon est Deus inversus» («Демон есть перевернутый Бог»): в тот период Йейтса сильно привлекал «диаволизм» и вообще высвобождение скрытых психических потенций. В начале века высшие адепты «Золотой Зари» картинно перессорились, и в результате возникло полдюжины независимых орденов. Йейтс некоторое время возглавлял один из них – «Stella Matutina» («Утренняя Звезда»), который вернулся к христианской мистике и визионерству. До конца жизни поэт очень серьезно относился к своим мистическим изысканиям и считал их неразрывно связанными со своим литературным творчеством. В 1925 году он опубликовал мистико-философский трактат «Видение», в котором попытался подвести итоги полувеку эзотерических изысканий.
Романтическая разорванность между ирландской «седой стариной» и новейшими «древними тайнами эзотерического оккультизма» никогда не оставляла поэта, и оба направления причудливо переплетались, соперничали и взаимно дополняли друг друга в художественном мироздании.
Вот два примера того, как Йейтс-поэт преображал чужую мифологию (впрочем, общеизвестную) – и создавал собственную.
Леда и лебедь
Удар с небес! Ещё биенье крыл
Не смолкло – а от ласки тёмных лап
Слабеют бёдра, шею клюв сдавил,
Под мощной грудью грудь изнемогла.
Как пальцам оробелым отогнать
От бёдер оперённое стремленье?
Как в белом вихре плоти не внимать
Иного сердца властному биенью?
И в содроганье чресел – гул сраженья,
Крушенье стен и башен, крики боли,
Смерть Агамемнона… Сквозь забытьё
Вкусила ли она за вожделеньем
И знанье небожителя, доколе,
Пресытясь, клюв не выронил её?
(Пер. А. Блейз)
Любому, кто знаком с античной мифологией, ясно, что речь идет о зачатии Елены Прекрасной. Миг схождения божества оказывается вписан в историческую последовательность: рождение Елены повлечет за собой гибель Трои и многих ахейских мужей, – но в то же время вся многолетняя история сжимается в один миг, когда смертная женщина соприкасается с божественным всезнанием. Метафора поэзии, если угодно.
И собственную мифологию Йейтс выстраивал на основе исторической. Его стихотворная дилогия «Плавание в Византий» и «Византий» (1928-1932) создает вторичную (поэтическую) реальность, но формально описывает то время, о котором Йейтс сказал:
«Думаю, если бы мне предложили провести месяц в древности, отдав на выбор время и место, я бы избрал Византию незадолго до того, как Юстиниан открыл собор Святой Софии и закрыл Академию Платона. Думаю, я бы сумел отыскать в каком-нибудь кабачке мастера-мозаичника с философским складом ума, который ответил бы на все мои вопросы, ибо сверхъестественное нисходило к нему ближе, чем к самому Плотину…» («Видение»)[113]113
Пер. Г. Кружкова, с изменениями. Плотин – греческий философ-неоплатоник III в. н. э.
[Закрыть].
«Описать Византий таким, каким он… становится к концу первого тысячелетия христианской эры. Ходячая мумия. На перекрестках языки огня, в которых очищается душа; птицы из чеканного золота поют на золотых деревьях; в гавани [дельфины] подставляют спины стенающим мертвецам, чтобы нести их в Рай» . – Такую задачу поставил перед собой поэт, и вот результат (цитирую первую, третью и пятую строфы):
Отступают неочищенные образы дня; пьяная солдатня императора спит; стихает ночной шум, песня ночных гуляк после удара большого кафедрального гонга; освещенный звездами или луной купол презирает все человеческое, весь этот хаос, ярость и грязь человеческих вен.
Чудо, птица, или золотое изделие, скорее чудо, чем птица или изделие рук, усевшись на золотой ветке, может прокукарекать, как петухи Аида, или, раздраженное луной, громко насмехаться, в славе своего нетленного металла, над обычными птицами, обычными цветами и всем хаосом грязи и крови.
Верхом на дельфинах из грязи и крови, призрак за призраком! Кузнецы смиряют потоп, златокузнецы императора! Мраморные плиты на отшлифованном танцем полу отбивают ярых фурий хаоса, – эти образы, порождающие новые образы, это распоротое дельфинами, терзаемое гонгом море[115]115
Прозаический пер. Г. Кружкова, с изменениями по А. Блейз.
[Закрыть].
Каждая строка требует комментария (и любой перевод заведомо неадекватен, поскольку изменяет предельно концентрированный текст), но целое создает картину, невероятно убедительную в своей сложности; основа же всего – мелодика стиха и языка. Неудивительно, что отдельные образы Йейтса могут быть развернуты в повествовательный текст любой длины – да так и произошло. Дилогия Гая Гэвриела Кея «Сарантийская мозаика» (1998-2000) пронизана эпиграфами из «Византия», а заканчивается приведенной выше цитатой из «Видения»; говорящие золотые птицы и дельфины, несущие души мертвецов, также играют важную роль в сюжете.
Йейтс, таким образом, выстраивает собственный культурологический миф, который, в свою очередь, перетолковывается позднейшими авторами. Это типично для эпохи модернизма, но немного найдется поэтов, кто бы столь глубоко и всеобъемлюще проник в стихию мифа – иную систему координат, в том числе этических.
«В Ирландии редко можно услышать о “темных силах” и еще реже встречаются люди, которые с ними сталкивались, – заметил Йейтс. – Дело в том, что наш народ скорее тяготеет ко всему фантастическому и причудливому, а фантастика и причудливость утратили бы свою свободу, которая им необходима как воздух, если бы их стали ассоциировать со злом или даже добром».
Политические и даже культурные ориентиры Йейтса многократно менялись на протяжении его долгой и активной жизни, но нежная привязанность к преданиям и верованиям старой Ирландии всегда оставалась с ним.
В 1888 году Йейтс публикует «Волшебные сказки ирландских крестьян», в предисловии к которым утверждается абсолютная реальность «народа холмов»: составитель с гордостью замечает, что ни в одном из примечаний «не дал рационального объяснения ни единому гоблину»[117]117
Пер. Н. Бавиной.
[Закрыть]. Год спустя – в подражание и в противовес макферсоновскому «Оссиану» – Йейтс издал драматическую поэму «Странствия Ойсина», в которой сталкиваются представители двух миров, языческого и христианского, Ойсин и святой Патрик. По сути, это – пронизанный типично йейтсовскими лейтмотивами монолог первого из них: образное, наглядное, реальное воспроизведение неумирающего кельтского мира.
Драматургии Йейтс оставался верен до конца своих дней, создав, в частности, цикл о Кухулине (последняя пьеса, «Смерть Кухулина», была написана за месяц до смерти самого поэта). И, поскольку театр для Йейтса был прежде всего средством воплощения сверхличностных эмоций и страстей, – обращение к вечным мифологическим сюжетам оказывалось неизбежностью.
Настоящим прорывом – и не только для Йейтса – стало появление в свет в 1893 году сборника «Кельтские сумерки», повлиявшего практически на все последующие тексты об ирландских фейри.
В небольшой по объему сборник входят сорок коротких новелл и зарисовок, объединенных общей темой: перед читателем возникает панорама угасающей гэльской культуры, которая создала свои шедевры и возвеличила своих героев, но теперь безвозвратно уходит в прошлое, оставляя по себе только нестойкую память потомков. Тоска по уходящему прошлому здесь вполне реальна – это еще не томление эльфов по Заокраинному Западу, кельтскому Хай-Брейзилу; тем не менее, у Йейтса, как впоследствии у Толкина, главной движущей силой, понуждающей «старую мудрость» уходить, становится Судьба, а главным драматическим конфликтом – смена эпох.
Особенно интересно наблюдать за тем, как меняется тон повествования. В самой первой зарисовке «Рассказчик» автор представляет читателю сказителя, который якобы и поведал ему те предания и легенды, которые потом будут использованы в сборнике. Это Падди Флинн (на него Йейтс ссылался уже в «Волшебных сказках…») – «маленький ясноглазый старичок, ютившийся в крохотной, в одну комнату, и с прохудившейся крышей хижине в деревне Баллисдейр, в самом, с его точки зрения, “знатном” – то есть волшебном – месте во всем графстве Слайго»[118]118
Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, пер. В. Михайлина, с изменениями.
[Закрыть]. Для Падди Флинна характерно очень бытовое отношение ко всему, что он рассказывает: для него одинаково реальны фейри и соседи, холмы и деревни. На вопрос, видел ли он когда-нибудь фейри, Флинн отвечает: «Ну не докука ли мне от них?»[119]119
Пер. Н. Бавиной.
[Закрыть]. Такой корректный и простой тон рассказчика Толкин, говоря о «Ветре в ивах» Грэхема, назовет одним из лучших средств создания «вторичной веры» («О волшебных историях»).
Впоследствии Падди Флинн уйдет на задний план, чтобы только один раз мелькнуть в «Ловцах человеков», его заменят старушка из Майо и другие безымянные свидетели необычайного, а точнее – сам автор, который только поначалу остается сторонним наблюдателем, подчас сомневающимся в правдивости рассказанных историй. Его, как и предполагаемого читателя, очаровывает здравое, даже приземленное отношение повествователей к народу холмов.
Рассказчик-крестьянин в молодости вышел на работу в поле вместе с еще тридцатью женщинами и парнями, и вдруг все они увидели на расстоянии полумили добрых полторы сотни эльфов. Двое из них были в темной современной одежде, а другие – облачены в пестрые клетчатые платья и даже в красные камзолы. Эльфы, кажется, играли в травяной хоккей, «“ибо вид у них был точь-в-точь такой”… А потом старик, на которого и он, и все прочие работали, поднял кнут и закричал: “А ну, за работу, хватит дурака валять!” Я спросил его: “А тот старик, он тоже видел фейри?” – “А как же, конечно, видел, но он же платил нам за работу деньги и не хотел, чтобы те пропали даром”».
Чем дальше, тем ближе автор оказывается к происшествиям, и вот речь идет уже не о воспоминаниях стариков, но о событиях, в которых автор участвовал лично. Его собственное свидетельство подтверждает и события других рассказов, так что уже невозможно сомневаться в одном, не ставя под сомнение и все остальные.
Реальность йейтсовского мифа коренится в опыте автора, который, в свою очередь, сообщается читателю. Таким образом Йейтс делает заметный шаг к стилистике будущей фэнтези, сочиняя как бы «несказочную сказку», которая, сохраняя все характерные особенности фольклорного источника, подается как действительные события со всеми признаками реальности. В отличие от авторов романтических сказок, Йейтс не столько «фантазирует», сколько шлифует то, что уже пришло к нему, а затем любуется созданным.
Тема ухода эпохи, прощания, вообще тема всего «последнего» значительно ярче и отчетливее раскрывается в прозаическом сборнике «Сокровенная роза» (1897). Это удивительный пример специфической йейтсовской стилистики: розенкрейцерская мистерия, разыгранная на материале гэльских преданий, где каждая новелла – лепесток, что формирует бутон, скрывая, что у него внутри; но внутри пустота, ибо «где ничего нет – там Бог». Лейтмотив же сборника – последнее, часто самое чистое проявление чего-либо перед окончательным уходом.
Кумал Мак-Кормак, последний ирландский языческий бард, который еще говорит с живой природой на одном языке – и это язык его поэзии, а значит язык действенной магии. Барда распинают монахи, а их жестоко уничтожают новые завоеватели – пуритане сэра Фредерика Гамильтона; духи помогают последнему аббату отомстить мучителям так, чтобы его предсмертное проклятие сбылось. Последний король Ирландии, наполовину человек, наполовину ши с соколиными перьями вместо волос, всё повергает к ногам земной женщины, которую полюбил, но она только раскрывает королю глаза на то, что он нечеловек. Мудрость же короля заключается в том, чтобы приказать законникам-филидам и бардам: «Живите в согласии со своей природой и призовите Эохайда Сметливого править вами, а я отправляюсь на поиски своих единокровных».
Но все последние прощания и новые эпохи сочетаются для Йейтса в образе поэта – Рыжего Ханрахана, чей образ собран частично из легенд о Томасе Рифмаче, частично из преданий о последнем великом барде и скрипаче Ирландии Рафтери, а во многом является alter ego самого Йейтса.
«Рассказы о Рыжем Ханрахане», опубликованные в 1905 году (первый вариант вошел в «Сокровенную розу»), завершили первый кельтский цикл Йейтса. Все темы прежних сборников вошли в него как составные части. Однако «Рассказы» обладают сквозным сюжетом – историей жизни бродяги-поэта. В отличие от многих романтиков и модернистов, Йейтс не строит свой миф на паутине двусмысленностей и сомнений – а видел ли Ханрахан фейри или ему только почудилось. Все впечатления Ханрахана реальны настолько же, насколько и все прочие события текста, который, маскируясь под легенду, на самом деле ею не является.
В бурную ночь бард попадает внутрь волшебного холма, где ему являются магический котел, круглый камень, копье из жерди и обнаженный меч, которые символизируют одновременно четыре масти младших арканов Таро и четыре древних сокровища Ирландии – котел Дагда, камень Фаль, копье Луга и меч Нуаду. Растерявшийся Ханрахан, подобно рыцарю Персивалю, не смог задать правильный вопрос – и утратил радость, силу, храбрость и знание. Час, проведенный в холме, обернулся годом обычной жизни: возлюбленная вышла замуж за другого, и дома у него не осталось. Так начинается полная приключений и постоянных странствий жизнь волшебного поэта Рыжего Ханрахана, который нигде не может остановиться надолго.
Самое торжественное соединение оккультного и мифического происходит в момент смерти Рыжего Ханрахана. Смерть, последняя инициация, замыкает и отражает инициацию рождения: вновь появляются старухи из холма с картами Таро – символами сокровищ Ирландии, а умирающий все четче видит скрытые до этого знаки и признаки духов. На этот раз Ханрахану достает сил громко задать роковые вопросы (также заимствованные у Персиваля): «Котел, камень, меч и копье. Что они означают? И кому принадлежат?». В момент смерти Ханрахан сочетается духовным браком с таинственной женщиной: поэт венчается с Иным и Нездешним, круг замыкается, змей кусает себя за хвост и судьба Рыжего Ханрахана, в которой Уильям Батлер Йейтс видел и собственную судьбу, становится таким же преданием, как и другие, и оставляет читателя перед выбором – верить всему или ничему из того, что о ней сказано.
Честертон, не раз встречавший «Уилли Йейтса» в Лондоне, более всего ценил его «боевитость», в том числе и в вопросах мифических. «Как истинный рационалист, он говорил, что фейри ничуть не противоречат разуму. Материалистов он сражал вчистую, кроя их отвлеченные теории очень конкретной мистикой. “Выдумки! – презрительно восклицал он. – Какие уж выдумки, когда фермера Хогана вытащили из постели, как мешок с картошкой, – да, да, так и стащили! (Ирландский акцент наливался издевкой.) Стащили и отдубасили. Такого не придумаешь!” Он не только балаганил, он использовал здравый довод, который я запомнил навсегда: тысячи раз о таких случаях свидетельствовали не богемные, ненормальные люди, а нормальные, вроде крестьян. Фейри видят фермеры. Тот, кто зовет лопату лопатой, зовет духа духом»[121]121
Г. К. Честертон. Человек с Золотым Ключом. – М.: Вагриус, 2003. – С. 103-104 (пер. Н. Трауберг, с изменениями).
[Закрыть].
А в «Ортодоксии» (1908) Честертон даже вступил в полемику с Йейтсом, который осмелился назвать эльфов «беззаконными». Честертон справедливо усмотрел в этом проявление ирландского бунтарского духа и модернистского своеволия, – а нет ничего более далекого от «этики страны эльфов», которая подчинена сложной системе запретов (не открывай запретную дверь! покинь королевский дворец до полуночи!)[122]122
Г. К. Честертон. Вечный Человек. – М.: Политиздат, 1991. – С. 395-396.
[Закрыть].
Спор двух этик неразрешим, – но то, что англичанин и ирландец всерьез спорили именно о фейри, было большой победой Йейтса. Народ холмов в культуре начала века обрел плоть и кровь.
«Есть два вида чистой поэзии, – писал Дансени. – Та, что отражает красоту мира, в коем пребывают наши тела, – и та, что создает загадочные царства, где обрывается география и начинаются волшебные земли, где сражаются боги и герои, и все еще поют сирены, и река Альф спускается во тьму из Ксанаду».
Если творчество Йейтса можно, с известными оговорками, отнести к первому виду поэзии, то лучшие рассказы, пьесы и романы лорда Дансени (1878-1957), несомненно, принадлежат ко второму. И лучше всего различие между ними покажет одна история, которую Дансени поведал в книге «Моя Ирландия» (1937). Однажды он разговорился с крестьянином и спросил, не заметил ли тот вереницу болотных огоньков. Крестьянин, вместо того, чтобы, как подобает носителю патриархальной духовности, рассказать о личных встречах со «смертными свечами», отделался кратким: «Не верю я в этих Джеков-с-фонарями…» И только после расспросов Дансени признался: «Весной их по всему болоту – ужас сколько!»