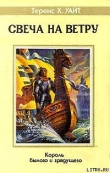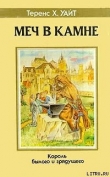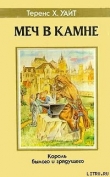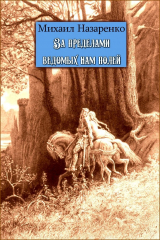
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Поэтому пересказать эти романы практически невозможно: главные сюжетные линии или чрезвычайно просты, или усложнены до чрезвычайности. В центре каждой из книг – «квест», странствие по вымышленному миру, добровольное или вынужденное (как бегство юной Заряночки от лесной ведьмы в «Дивных островах»). Моррис тщательно выстраивает симметрию в отношениях героев, чтобы тут же ее разрушить (три рыцаря и три дамы, но последний из рыцарей влюбляется не в третью, а в четвертую…). Моррис насыщает книги красотой столь изысканной, эротичностью столь явной, извращениями столь неприкрытыми, что переход к Бердслею и прочим декадентам, кажется, уже совершен. Это – фэнтези не двадцатого века, проза сугубо описательная, любое действие и диалог обрамляются пышными картинами. Но чувство глубины – несомненное. (Чувство невыносимой скуки, которое охватывает современного читателя, увы, столь же несомненно. Изменение вкусов сказалось на книгах Морриса губительно.)
Любая деталь и любой случайный персонаж могут возникнуть через многие десятки страниц – и сыграть важную роль в развязке событий. А многое так и останется случайным и непонятным: Дивные Острова на озере превращаются в обычные земли, лишенные волшебства, но почему? и откуда берется их население, если по озеру плавает лишь одна волшебная ладья? Существа «не из рода Адамова» сопровождают героев как помощники и противники; поступки их иногда могут быть объяснены через обращение к древнейшим обычаям, которые в те годы как раз начали изучать культурологи (первое издание «Золотой ветви» Фрэзера вышло в 1890 году). А как еще понять «Лес-за-Миром», в котором обитают ведьма-Госпожа, ее рабыня-Дева и любовник Госпожи, карлик, которого, по замыслу колдуньи, должен заменить молодой герой? Когда в финале молодой Уолтер бежит с Девой и становится королем, мифологичность и архетипичность событий становятся совсем очевидными.
Поиск; страдания; счастливый конец и долгое возвращение; леса, столь же реальные, сколь символичные. Отсюда – прямой путь в Нарнию (восточные архипелаги Льюиса – несомненно, те же Дивные Острова Морриса, только адаптированные для детей), отсюда – дорога в Средиземье. Реальность, созданная прерафаэлитами, определила видение целых поколений; ее отражение в прозе Морриса породило новый жанр. Фэнтези покидает ведомые поля; новые моря зовут первооткрывателей. Но только через двадцать лет после смерти Морриса на Одинокий остров у эльфийских берегов ступит нога человека.
_________________________
13. Рождение фэнтези из духа музыки
Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
Осип Мандельштам.
«Может быть, «Нибелунги» очень великое произведение, но уж наверное скучнее и растянутее этой канители еще никогда ничего не было… Все эти Вотаны, Брунгильды, Фрики и т.д. так невозможны, так нечеловечны, так трудно принимать в них живое участие. Да и как мало жизни!»
А ведь говорил – вернее, писал в личной корреспонденции – не дилетант, и не упрямый консерватор, и не враг фантастики: Петр Ильич Чайковский. Неужели принц Зигфрид из «Лебединого озера» ближе к жизни, чем Зигфрид Вельзунг из «Кольца Нибелунга»?
Если уж Чайковский не принял Вагнера (только последняя опера немецкого композитора, «Парцифаль», заставила его русского коллегу пересмотреть взгляды), то что говорить о Льве Толстом, который склонен был отрицать не только «неестественные» оперы, но и (современное) искусство вообще! В трактате «Что такое искусство?» Толстой дал замечательно смешной пересказ третьей оперы «Кольца» – для того лишь, чтобы доказать: «…Не говоря о взрослом рабочем человеке, трудно себе представить даже и ребенка старше семи лет, который мог бы заняться этой глупой, нескладной сказкой». В самом деле: «Загадки [Миме и Вотана] не имеют никакого другого смысла, как тот, чтобы рассказать зрителям, кто такие Нибелунги, кто великаны, кто боги и что было прежде. Разговор этот также со странно разинутыми ртами происходит нараспев и продолжается по либретто на восьми страницах и соответственно долго на сцене. После этого странник уходит, приходит опять Зигфрид и разговаривает с Миме еще на тринадцати страницах. Мелодии ни одной, а все время только переплетение лейтмотивов лиц и предметов разговора. Разговор идет о том, что Миме хочет научить Зигфрида страху, а Зигфрид не знает, что такое страх. Окончив этот разговор, Зигфрид схватывает кусок того, что должно представлять куски меча, распиливает его, кладет на то, что должно представлять горн, и сваривает и потом кует и поет: Heaho, heaho, hoho! Hoho, hoho, hoho, hoho; hoheo, haho, haheo, hoho, и конец 1-го акта».
Да и устно Толстой не уставал «нападать на вагнеровские сюжеты, говоря, что ему, человеку XIX века и христианину, нет надобности знать, что делали скандинавские боги, что он удивлялся Н. Н. [Страхову, известному критику], когда тот ему рассказывал сюжет «Нибелунгов» и восхищался этими детскими сказками. Н. Н., стоявший против него, медленно и с усилием произнес: “Сюжет удивительный”».[69]69
Там же. – С. 180 (из дневника Сергея Танеева).
[Закрыть]
В наши дни скорее придется доказывать не достоинства сюжета, не правомерность введения языческих богов в современные произведения искусства, но – гениальность музыки Вагнера.
«– Три дня ругани между богами и двадцать минут запоминаемых мелодий? Нет уж, благодарю покорно».
Так обсуждают репертуар оперного театра герои Пратчетта («Маскарад», пер. С. Увбарх); боюсь, что эту точку зрения разделяют многие из моих читателей. Я сведу вопрос о причинах колоссального (в том числе и коммерческого) успеха Вагнера к проблеме более узкой: какое влияние Вагнер оказал на фэнтези и почему оно так велико?
Здесь самое время вспомнить о времени. Времени и месте.
Германия не только породила романтизм, она его еще и экспортировала. Как в XV веке Мэлори вынужденно опирался на французские источники, создавая свой opusmagnum, так и в XIX веке англичане получили артуриану, возвращенную в современный контекст, от немцев.
Август Шлегель обратился к сюжету о Тристане и Изольде в 1800 году, за четыре года до того, как Вальтер Скотт издал старинную английскую поэму «Сэр Тристрем» и более чем за полвека до поэмы Мэтью Арнольда (правда, Шлегель свою обработку так и не закончил).
Что еще важнее, на рубеже XVIII-XIX веков Фридрих Шлегель и Фридрих Шеллинг посвятили философские труды понятию мифа. Одной из задач, поставленных ими перед культурой, было создание современной мифологии, которая стала бы синтезом мифа языческого и христианского, природы и истории.[70] 70
О связи опер Вагнера с мифотворчеством немецких романтиков см., напр.: Е. Рощенко (Аверьянова). Новая мифология романтизма и музыка (проблема энциклопедического анализа музыки). – Х.: ХНУРЕ, 2004.
[Закрыть]
Вагнер пришел к схожему решению, следуя музыке, а не философии. (С трактатом Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» он познакомился, когда первый план «Кольца» был уже набросан.) Если коротко суммировать взгляды Вагнера на оперу («Искусство будущего», 1849; «Опера и драма», 1851), то перед нами предстанет грандиозная и захватывающая картина… постепенного упадка театра и музыки. Изначальное единство слова, мелодии, движения в греческой драме сменяется веками их разделения. Шекспир и Бетховен довели свое искусство до совершенства – и показали, что дальше пути нет. Вернее, поэтой дороге пути нет; а Шекспир к тому же был ограничен театральной техникой своего времени. Литература последних веков (в противоположность драме) обратилась к внешнему, социальному миру, забыв о мире внутреннем; следовательно, роман – не выход из культурного тупика. Не стала выходом и опера: единства она достичь так и не смогла, поскольку либреттист, композитор и прочие участники спектакля действуют вразнобой, будучи к тому же скованы условностями – даже не сцены, а традиции. Вагнер пришел в ярость, когда от него потребовали, чтобы в одну из опер он добавил балетную сцену – как же без нее!
Поэт может проанализировать то, что чувствует интуитивно (этим он и отличается от простых смертных), – и создать новую картину, которая будет властно влиять на чувства зрителей. Потому и необходим синтез поэзии и музыки, что последняя развернуто выражает то, что сконцентрировано и скрыто содержится в первой. И, конечно же, музыка главным образом обращена к эмоциям, тогда как поэзия – к интеллекту. Из чего следует, что и творцом их должен быть один человек: на новом уровне происходит возврат к древнейшей стадии развития человечества, когда слово и мелодия были неразделимы в речи.
И вот тут-то мы подходим к самому главному для нас. Что должно стать предметом музыкальной драмы? Не суетная современность, но и не история, которую невозможно ощутить, а лишь понять при помощи рациональных построений ученых, заведомо убивающих непосредственность восприятия. Остается единственная форма, в которую Человек (Народ) облекает свои впечатления: миф.
«Если мы теперь захотим определить произведение поэта в его высшей возможной силе, то должны назвать его оправданным чистейшим человеческим сознанием, отвечающим воззрению современной ему жизни, вновь созданным и понятно представленным в драме мифом!»
Противоречия тут нет: поэт потому и «отвечает воззрению современной ему жизни», что «миф – начало и конец истории».[72]72
Р. Вагнер. Указ. соч. – С. 416.
[Закрыть] Напомню, это пишет человек, уже создавший «Летучего голландца» (1843), «Тангейзера» (1845) и «Лоэнгрина» (1850), в которых претворены три знаменитых сюжета, причем уже «Лоэнгрин» создавался как реконструкция некоего пра-сюжета, общего для германской и греческой мифологий. И в эти же годы у Вагнера сложился замысел, узнав о котором, Ференц Лист восторженно откликнулся:
«Итак, за труд! Смело работай над своим великим созданием, для которого пусть не будет начертано у тебя другой программы, кроме программы, данной капитулом Севильи архитектору, строившему кафедральный собор: “Построй нам такой храм, при виде которого последующие поколения сказали бы: капитул был сумасшедший, если он решился на такое необычайное предприятие!” И вот все же кафедральный собор Севильи и поныне устремляет к небесам свои башни».
От сравнений Вагнера и Толкина никуда не уйти, так вот первое: оба творца могли не то что годами – десятилетиями обдумывать широкие планы, которые подчас преображались до неузнаваемости. В 1845 году Вагнер с восторгом прочитал роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» – тридцать семь лет спустя состоялась премьера одноименной оперы. В 1848 году, за двадцать восемь лет до первой постановки тетралогии «Кольцо Нибелунга», Вагнер опубликовал брошюру «Вибелунги. Всемирная история согласно саге» – и как же она далека от либретто, не говоря о самих операх!
К этому времени Вагнер был хорошо знаком не только с комплексом древних текстов, посвященных Нибелунгам (скандинавским Нифлунгам), но и с трудами историков и фольклористов. К.Лахман и Я.Гримм, по собственному признанию композитора, помогли ему проникнуть в мир эпоса гораздо глубже, нежели это позволила бы «Песнь о Нибелунгах», созданная на рубеже XII-XIII веков. Чрезвычайно характерно, что и до, и после Вагнера деятели германской культуры обращались именно к этому – очень позднему, зато несомненно немецкому тексту (драматическая трилогия Кристиана Фридриха Геббеля «Нибелунги», 1862; поставленный по ее мотивам – а не по тетралогии Вагнера! – знаменитый фильм Фрица Ланга «Нибелунги», 1924).
При том, что Вагнер жестко противопоставлял историческую реконструкцию и музыкальную драму, он, тем не менее, прежде чем приступить к работе над оперой, счел нужным опубликовать нечто, напоминающее труд по истории. Но какая история и какой труд!
«В эпоху, которую большинство саг именует Великим Потопом, когда северное полушарие нашей Земли было столь же покрыто водой, как ныне южное, самым большим островом в этом море северного мира являлась высочайшая горная гряда Азии, так называемый Индийский Кавказ: на этом острове, т.е. в этих горах, и надлежит искать колыбель нынешних азиатских народов, а равно и тех, кто ушел оттуда в Европу. Здесь – наследный престол всех религий, всех языков, рыцарства всех наций».
Так начинает Вагнер свое повествование о Вибелунгах и далее на каких-то сорока страницах очерчивает ход событий, в которых миф и действительность абсолютно неразделимы – ведь миф и есть абсолютная действительность!
В начале всего – вечная борьба света и тьмы, победа Зигфрида, солнечного бога, над драконом-Нибелунгом из племени «темных альвов». Завладев сокровищем, Зигфрид сам становится Нибелунгом. Такова судьба этого древнего клада: владеть им может или Нибелунг, или тот, кто в Нибелунга превратится. «Ибо Клад содержит в себе средства достижения и удержания власти, как единый Талисман Владычества»; это сама Природа, само Мироздание.
Но Зигфрид пал, сраженный, и «прадавняя битва продолжается нами, изменчивость ее хода есть не что иное, как вечная смена дня и ночи, лета и зимы – судьба самого рода человеческого, вечно колеблющегося между жизнью и смертью, триумфом и поражением, радостью и скорбью».
Здесь мы наконец вступаем в пределы Истории, поскольку«германский народ – наследник древнейшего королевского рода: он происходит от Сына Божьего, коего соплеменники называли Зигфридом, а прочие народы земли – Христом». Так, по мысли Вагнера, должен был рассуждать Фридрих Барбаросса, глядя на долгую борьбу двух племен, Вибелунгов (Нибелунгов) и Вельфов – гибеллинов и гвельфов, короля и жреца, Императора и Папы Римского. Власть над Европой, над Священной Римской Империей – это и есть обладание древним Кладом.
Именно Барбароссе суждено было завершить борьбу: он примирился с Папой, дал свободу ломбардским городам – и устремил взор на Восток. Нет, не к Гробу Господню, но дальше, дальше, к прародине человечества, индийским горам, где правит король-жрец, Пресвитер Иоанн, хранитель чаши Святого Грааля.
«…Непокой гнал его в дальние пределы Азии. Там, на буревом поле, он разбил силы Сарацинов; перед ним открыто лежала земля обетованная; он не мог ждать, пока возведут перекидной мост, и нетерпеливо ринулся на Восток, – на лошади он устремился в бурный поток: и в этой жизни никто более не видел его».
Но Барбаросса не погиб: в горе Кифгейзер спит он, в той самой горе, где некогда Зигфрид сразил дракона, и охраняет Клад, сгинувший с поверхности земли; меч драконоборца лежит подле него.
Брошюра эта интересна не только вдохновенным безумием автора; и не только потому, что без влияния вагнеровских идей явно не обошлись позднейшие искатели Шамбалы (да и Умберто Эко в романе «Баудолино»). Вагнер попытался нащупать возможности соединения Мифа, т. е. безусловной истины, с Историей, живым процессом. Более того – перед нами опыт пересоздания Мифа: отдельные элементы, каждый из которых хорошо известен, складываются в новую, небывалую картину, обладающую, по замыслу автора, чрезвычайной убедительностью.
Нет, не обладающую. Вагнер, несомненно, и сам это понял, почему и отказался от замысла оперы о Фридрихе Барбароссе. Миф может стать объяснением истории (все происходит так-то и так-то потому-то и потому-то). История может быть превращена в миф (что, собственно, и произошло с Барбароссой в фольклоре). Но соединить историю и миф напрямую невозможно.
Сразу же после «Вибелунгов» – год в год – Вагнер пишет «Миф о Нибелунгах. Набросок драмы», и в этом десятистраничном эскизе уже содержится законченный сюжет будущего «Кольца». Миф явился на свет. Авторский миф.
Вагнер в такой мере определил само восприятие мифа в культуре, что многие его находки и открытия – литературные, не музыкальные! – кажутся сейчас очевидными. А ведь предельно серьезный подход к мифологии, к «невозможным и нечеловечным» скандинавским богам и героям – заслуга Вагнера. Если бы он только содействовал возрождению интереса писателей к древним сюжетам, то и тогда влияние Вагнера на фэнтези было бы чрезвычайно велико. Но композитор также сумел внушить современникам и потомкам новый взгляд на Миф.
Вот что писал Фридрих Ницше – верный последователь Вагнера (которому посвящена первая книга философа, «Рождение трагедии из духа музыки), «реальный» прототип Зигфрида, непримиримый противник Вагнера в последующие годы:
«Миф глубоко пал и исказился, – превратившись в «сказку», занимательную игру, радость детей и женщин выродившегося народа […]
В основе мифа лежит не мысль, как это полагают сыны искусственной культуры, но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире, в смене событий, действий и страданий. «Кольцо Нибелунга» есть огромная система мыслей, но не облеченная в форму мысли, как понятия»(«Несвоевременные размышления. Рихард Вагнер в Байрейте»).
Поясню – точнее, перефразирую, – последние слова. Смысл мифа не может быть выражен в какой-то одной фразе, в каком-то итоговом выводе. Его смысл – это его сюжет, его структура. Следовательно, понять миф невозможно, а вот прочувствовать – вполне. Но ведь такую задачу и ставил Вагнер перед зрителем музыкальной драмы!
Миф у Вагнера перестал быть «сказкой», перестал быть итолько выражением народного духа. Стал тем, чем и был когда-то, – истиной. «Это язык “минувшего” в его двузначности, заключающей в себе “то, что было”, и “то, что будет”», – скажет о зрелой вагнеровской мифологии Томас Манн.[75] 75
Т. Манн. Страдания и величие Рихарда Вагнера // Собр. соч. – Т. 10. – М.: ГИХЛ, 1961. – С. 112.
[Закрыть]Иначе говоря – то, чего никогда не было и что пребывает вечно. «Кольцо Нибелунга» заканчивается концом света – древнего света мифов или того, в котором живут зрители?
Оказалось, что нет никакой необходимости сплетать древние сказания с реальностью исторической жизни Европы. Миф в музыкальной драме не может не быть современным – уже потому, что создает его человек XIX века (тот самый, которому, по словам Толстого, якобы не интересна северная мифология). И новая опера, с одной стороны, изображает «интимную судьбу европейского индивидуума»[76]76
А. Лосев. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Р. Вагнер. Указ. соч. – С. 21.
[Закрыть] (что стало возможным только благодаря эпохе романтизма), а с другой – оказывается сильнейшим инструментом анализа мифа архаического.
В ХХ веке культурологи с некоторым изумлением увидели, что по-настоящему понять «Кольцо Нибелунга» можно, только если обратиться к древнейшим пластам мифологии. Сергей Эйзенштейн, поставивший «Валькирию» в Большом театре (1940 г.), написал глубокую статью, где доказал, что режиссер, художник и певцы должны воспроизвести на сцене реальность мифа во всех ее проявлениях, включая и мифологическое сознание. Иная психология, иные время и пространство.[77]77
С. Эйзенштейн. Воплощение мифа // Собр. соч. – Т. 5. – М.: Искусство, 1968.
[Закрыть]
Выше было сказано, что оперы Вагнера – инструментанализа мифов. Это именно так: «Вагнер бесспорно является отцом структурного анализа мифов… – говорит крупнейший культуролог Клод Леви-Стросс. – Весьма показательно, что этот анализ сначала был осуществлен в музыке! Поэтому, показывая, что анализ мифов подобен большой партитуре, мы просто извлекаем логическое следствие из вагнеровского открытия: структура мифов раскрывается с помощью музыкальной партитуры».
Как такое возможно? Как музыка может воспроизводить миф, то есть повествование? Как партитура становится «акустической мыслью»[79]79
Т. Манн. Указ. соч. – С. 123.
[Закрыть]?
Для того, чтобы ответить на эти непростые вопросы, нужно для начала вспомнить фабулу «Кольца». Нет, я, конечно же, не буду пересказывать события всех четырех опер («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Сумерки богов»): найти краткие изложения либретто вам труда не составит, было бы желание. Но главные вехи напомнит нужно.
Нибелунг, темный карлик Альберих, прокляв любовь, добывает золото из вод Рейна (ибо только так и можно им овладеть) и кует из него Кольцо, дающее власть над миром и всеми его богатствами. Но вскоре в его подземные чертоги являются боги Вотан и Логе (Один и Локи). Они хитростью захватывают Альбериха в плен: ведь им необходимо его золото, чтобы заплатить великанам за строительство Вальгаллы, чертога богов. Частью выкупа становится и Кольцо; создатель проклинает его: отныне все будут стремиться им завладеть, всем оно будет приносить гибель, и «Властелин Кольца станет рабом Кольца». Как ни хотелось Вотану оставить сокровище себе, он вынужден, осознав опасность, отдать его великанам – и тут же проклятие Кольца свершается, великан Фафнир убивает своего собрата Фазольта.
Затем действие переносится в героический век, когда на земле жили Вельзунги, потомки Вотана, ходившего по земле под именем Вельзе (Волк). Зигфрид, дитя запретной любви Зигмунда и Зиглинды (брата и сестры Вельзунгов), убивает Фафнира, который в облике дракона возлежит на золоте, забирает Кольцо и пробуждает валькирию Брунгильду. Она спала на скале, окруженной огнем, ибо вопреки приказу своего отца Вотана пыталась помочь Зигмунду в бою. Из-за людского коварства Зигфрид забывает Брунгильду (виной тому волшебный напиток) и погибает; его убийца – Хаген, сын Альбериха, также вожделеющий Кольцо. Брунгильда, ставшая виновницей гибели любимого, сгорает вместе с ним на погребальном костре, рушится Вальгалла (чья судьба неразрывно связана с судьбой Кольца), гибнут боги, а рейнские русалки возвращают в свои владения древнее золото.
Пересказ нарочито примитивный; Льву Толстому для изложения событий «Кольца» понадобилось четыре страницы, а завершил он приложение к трактату «Что такое искусство?» следующими словами: «Впечатление при моем пересказе, конечно, не полное. Но как ни неполно оно, оно, наверно, несравненно выгоднее, чем то, которое получается при чтении тех четырех книжек, в которых это напечатано».
В том-то и беда, что «Кольцо Нибелунга» в таком варианте действительно становится детской – или не очень детской, но сказочкой. (Любопытно, что «Сагу о Вельсунгах» действительно превратил в сказку известный фольклорист Эндрю Лэнг, неоднократно упомянутый в других статьях этого цикла.)
А теперь я попытаюсь показать – по необходимости столь же кратко – как работает вагнеровский миф.
В пересказе исчезают не только нюансы (здесь – даже ключевые персонажи, как Миме или Гутруна), но и психология героев, изображенная Вагнером чрезвычайно тонко. Но психология эта – не современная или, во всяком случае, не вполне современная.
Следы XIX века найти, конечно же, несложно. Мысли Вотана перекликаются с идеями Шопенгауэра; старый бог, по признанию Вагнера, – образ современного европейского интеллигента (равно как Альберих – символ международного еврейского капитала… никуда не денешься от факта: Вагнер был лютым антисемитом, хотя и, как полагают, наполовину евреем).
Но насколько размыто в тетралогии понятие человеческого «я»! Оно еще не вполне отделено от коллектива и даже от природы. Вотан стал отцом Зигмунда, чтобы тот, не скованный клятвой, которую бог дал великанам, мог добыть Кольцо. Но, как точно замечает жена Вотана Фрика, Зигмунд – не самостоятельная личность. Он, как и валькирии, – порождение Вотана и, следовательно, остается его частью, так же не свободен, как и отец. (Судьба Брунгильды, снова и снова идущей против желаний Вотана, – это представленная в рамках мифа история рождения личности.)
Возмутивший Льва Толстого разврат («Зигмунд узнает, что Зиглинда его сестра и что его отец вбил меч в дерево, так что никто не может вынуть его. Зигмунд выхватывает этот меч и совершает блуд с сестрой») действительно необъясним для «человека XIX века и христианина», однако совершенно логичен и в рамках мифа, и в сюжете оперы. Зигмунд и Зиглинда – первопредки, положившие начало роду («Ты сестра мне, ты и жена мне – / Цвети же, Вельзунгов род!»; пер. В.Коломийцова), над которыми не властно табу на инцест. По логике же событий – Вотану нужно, чтобы его сын стал вне закона, вне всякого закона, ибо только тогда он сможет обойти клятву, данную богами великанам.
Подобно тому, как человек еще не вышел из родового «мы», также и внешняя речь еще не отделена от внутренней (поскольку не разделены внешний и внутренний миры). Классический театральный прием – речи «в сторону» – Вагнер поставил на службу своим целям. Самые тайные замыслы героев воплощаются в музыке. Лейтмотив меча звучит в финале «Золота Рейна», что означает: Вотан задумал добыть Кольцо с помощью героя-человека. Зигфрид, слизнув с руки драконову кровь, начинает слышать коварные мысли Миме, которые кроются за сладкими словами: совершенно шизофренический результат заставляет вспомнить о Голлуме.
Двоякую функцию выполняют и бесконечные повторы, пересказы того, что зрителю уже известно. С одной стороны – это еще одна отсылка к мифу. Вотан и Миме обмениваются загадками потому, что в «исходном» мифе герои обмениваются загадками. Вещунья раскрывает Вотану тайны прошлого и будущего, потому что так происходит в мифе. Потому что миф разворачивается перед нами. Но, с другой стороны, каждый такой повтор драматургически мотивирован. Зигфрид беспечно рассказывает о своих подвигах, а зритель понимает, что вот сейчас он вспомнит Брунгильду. Наконец, при каждом повторе нам сообщается что-то новое: Вагнер любит объяснять причины событий после того, как показал следствия.
С первого появления Вотан расхаживает по сцене с повязкой на глазу; в руке у бога – ясеневое Копье Закона. Каждый, кто знаком со скандинавской мифологией, скажет, как Вотан потерял глаз и что это за ясень такой. Но только в прологе к четвертой части мы узнаем, что Мировое Древо высохло, когда Вотан отрубил его ветвь, и что теперь Ясень стал дровами для погребального костра в Вальгалле. Мы знаем, что валькирии – дочери Вотана, но только из монолога, обращенного к Брунгильде, становится известно, что девы-воительницы собирают героев в Вальгаллу на случай, если Альберих овладеет кольцом и придется защищать цитадель от Нибелунговых орд. И – одна из самых ярких и страшных сцен тетралогии: Вотан обрекает Зигмунда на смерть, вспоминает о сыне Альбериха и в отчаянии благословляет потомство своего врага.
Сломись, разбейся, дело мое!
Я с ним расстаюсь; одного лишь я хочу:
конца…
конца!..
Прежде о Хагене мы ничего не слышали: Вагнер приберег сведения до того момента, когда они произведут наибольший эффект.
Я вскользь упомянул «лейтмотив» – как известно, именно на системе лейтмотивов строится музыка Вагнера;[80] 80
Благодарю за музыковедческие консультации и предоставленные материалы Данила Перцова. Если я допустил ошибки, они всецело на моей совести.
[Закрыть]всего их в тетралогии около девяноста. Роль их не сводится к вульгарной иллюстративности, над которой издевался Толстой («Есть мотив кольца, мотив шлема, мотив яблока, огня, копья, меча, воды и др., и как только упоминается кольцо, шлем, яблоко, – так и мотив или аккорд шлема, яблока») и которая так процветает в современных саундтреках. Нет, лейтмотивы непосредственно связаны с мифом.
Какова же параллель между мифом и музыкой? Леви-Стросс заметил, что если бы инопланетяне попытались читать наши оркестровые партитуры, у них бы ничего не вышло до тех пор, пока они не поняли, что рассматривать эти странные тексты нужно одновременно по горизонтали (течение музыки) и по вертикали (отдельные инструменты). Так же и миф: его «горизонтальное прочтение» – изложение сюжета, прочтение же «вертикальное» – по тематическим группам, связи в которых могут быть далеко не очевидны. Что же объединяет оперные элементы в такие группы? Именно лейтмотивы.
Музыкальные темы не только раскрывают тайные помыслы героев, но и позволяют увидеть связи, которые совершенно не очевидны при чтении либретто. Так, в первой же сцене «Золота Рейна» в связи с Альберихом возникает героическая тема: ибо Нибелунг действительно герой – первый, кто противопоставил себя природному единству (как позднее Зигмунд бросит вызов законам общественным). Когда Миме пытается объяснить Зигфриду, что такое страх, в оркестре возникает искаженная тема Брунгильды (пробудить которую может только тот, кто не знает страха; кроме того, как заметил Томас Манн, Вагнер неоднократно предвосхищает Фрейда). Из величественной темы Рейна возникают основные лейтмотивы, подобно тому, как и сам Рейн, мировая река, порождает (а в финале – поглощает) все сущее. В начале темы Кольца и Вальгаллы тесно связаны, поскольку создаются эти объекты одновременно и судьбы их нераздельны.
Такова структура оперы – такова структура мифа. Любые сущности могут отождествиться, между любыми понятиями возможен переход («медиация», говоря языком мифологов).[81]81
Поэтому и отождествление героев «Кольца» с персонажами иных мифологий происходит куда более естественно, чем в «Вибелунгах». Как показал Томас Манн (указ. соч. – С. 112-113), Зигфрид – это одновременно Таммуз, Адонис, Осирис, Дионис и Христос.
[Закрыть] Этому способствует и вагнеровская «бесконечная мелодия» – непрерывное развитие, из которого крайне редко выделяются отдельные «номера» (наподобие «Полета Валькирий»).
Вагнеровская реформа имела огромное значение и для музыкальной культуры, и для культурологии ХХ века, но если бы композитор-либреттист ограничился играми с древними мифологическими мотивами, упреки Чайковского и Толстого в том, что мира «Кольца» чужд современности, были бы обоснованы. Однако стоит присмотреться к событиям тетралогии (как это сделал Анри Лиштанберже, глубоко проникший в философию Вагнера), – и мы увидим, с какой точностью и последовательностью автор рассматривает вневременные, а значит, и современные проблемы.
Вотан приобретает знание, платой за которое становится увечье, потеря глаза; создает Копье Закона, само по себе дающее власть (и подчиняющее своей власти) – ценой гибели Великого Древа, основы мироздания; наконец, бог хочет утвердить свою власть навечно, однако именно с постройки нерушимой Вальгаллы начинается его путь к гибели. Стремление овладеть кольцом – последний и роковой шаг.
Показательно, что Вагнер приступил к сочинению «Кольца» с последней из опер – «Сумерки богов»; три предыдущие части писались как «приквелы» и объяснения событий. И столь же показательно, что финал финалов Вагнер переписывал несколько раз. Первоначально Зигфрид хотя и погибал, но Брунгильда, отдав Кольцо русалкам, относила мужа в Вальгаллу: рана в мироздании исцелена, Вальгалла спасена, Зигфрид становится родоначальником нового, свободного и счастливого человечества. Но остановился Вагнер на ином варианте: окончательная катастрофа уничтожает всех и вся, кроме рейнских русалок и, возможно, Альбериха; «из развалин обрушившегося дворца мужчины и женщины, глубоко потрясенные, смотрят на разгорающийся небесный пожар». Исчез старый закон, исчезла власть золота, и людям теперь нужно искать новые, неведомые ранее принципы существования. Те же, кто принадлежал прежней эпохе, гибнут – в ярости, как Хаген, в смирении, как Вотан, с осознанием необходимости искупления мира, как Брунгильда. Кто таков истинно свободный человек, если все в мире связаны жаждой власти и золота, силой закона и тщетным стремлением управлять своей судьбой? Вот главный вопрос, на который лишь частичным ответом стал образ Зигфрида.
О том, как Вагнер обращался с сюжетами «Старшей Эдды», написано много. Композитор считал себя вправе, выстраивая единственный на все века пра-миф, изменять подробности и мотивировки. Так, чудесным золотом нужно было забросать с ног до головы не богиню молодости Фрейю, а убитую выдру-оборотня; проклятое золото, возможно, и было некогда центром мифологического сюжета (как полагали ученые, чьи труды читал композитор), но в дошедших до нас памятниках это не так. Синтез исследовательского интеллекта и художественной интуиции – метод Вагнера.