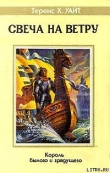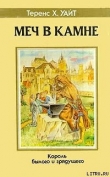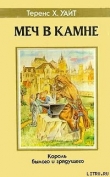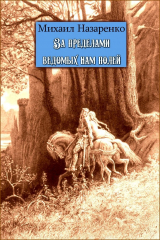
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
И Боги Азбучных Истин, – как предупреждал Киплинг, – нагрянули, подъявши меч.
_________________________
15. Дудочник у врат зари
…І пан над панами!
Тарас Шевченко
Меломаны, прочитав название статьи, сразу вспомнят первый альбом «Пинк Флойд» – «The Piper at the Gates of Dawn». А поклонники группы добавят, что Сид Барретт окрестил диск в честь одноименной главы из книги Кеннета Грэхема «Ветер в ивах». Водяная Крыса и Крот привлечены дивной музыкой к полянке посреди островка. «Вот где обитают мои певчие сны, вот где играла для меня та музыка. В этом святом месте и нигде более мы встретим Его!» И Он является – великий бог Пан, Друг и Помощник, душа самой Природы.
Не столь известно, что Барретт утверждал, будто и сам встречал Пана – причем неоднократно – и дух леса входил в него, даруя прозрение тех путей, которыми следует природа.
Конечно, под влиянием галлюциногенов и не такое увидишь, – однако же примечательно, что именно Пан был одним из немногих богов, являвшихся людям уже в исторические времена. Не он ли, как сообщает Геродот (VI, 105), встретил скорохода Фидиппида за несколько дней до битвы при Марафоне и укорил афинян за то, что они им пренебрегают, хотя Пан афинянам неизменно благоволит? Разве не козлоногий бог, согласно Павсанию (X, XXIII, 5), наслал панический ужас на варваров-галатов, которые в III веке до Р.Х. вторглись в Дельфы? И, наконец, уже в правление Тиберия, разве не услышал корабельщик Тамус, проплывая мимо острова Пакса, некий голос, объявивший, что великий бог Пан умер, и великий плач последовал за тем? Об этом сообщает Плутарх в диалоге «Об упадке оракулов» (XVII, 419a-e), и нет оснований ему не доверять. Тиберий велел провести расследование, но удалось установить лишь то, что Пан был сыном Гермеса и Пенелопы – той самой; или другой. Однако и век спустя, во времена Павсания, святилища Пана были еще живы в Греции.
Как случилось, что именно Пан стал символом античного язычества, нетрудно сказать. Каким бы ни было происхождение его имени («плодоносный» или «пастух»), слово πãν по-гречески означает «всё», и с течением времени младший из богов стал старейшим из них, богом всего. Снова и снова, особенно в эпоху эллинизма, мудрецы пытались соединить всех богов в одного, величайшего и единственного, – Пан пришелся ко двору: несомненное воплощение Природы, а значит и мира вообще.
Но была и еще одна причина, мистического толка.
Евсевий Кесарийский – «отец церковной истории», живший на рубеже III-IV веков – собрал в пятой книге «Евангельских приуготовлений» настоящее досье на Пана, и в семнадцатой главе, процитировав Плутарха, не преминул указать: «Важно отметить, когда именно, по его рассказу, умер сей демон. Ибо это было время Тиберия, когда наш Спаситель, пребывая среди людей, избавлял род человеческий от демонов всех родов, как о том повествуется». Так Пан становится «бесом полуденным», а там и самим дьяволом.
Смерть Пана неизбежно должна была совпасть с неким великим событием, знаменующим конец языческого мира, – и толкователи спорили, что именно происходило в Палестине, когда Тамус услышал бесплотный голос. Вышел ли Христос на проповедь? был распят? воскрес? Победило, утвердилось и стало общеизвестным мнение, прямо противоречащее Плутарху: Пан умер в день и час Рождества Христова. Спаситель пришел в мир во время правления кесаря Августа (Лук. 2:1), а не Тиберия, – но это не помешало возникнуть новому мифу, на пересечении двух прежних. Исследователи сходятся на том, что на острове Пакса оплакивали не Пана, а иного бога, Таммуза, умирающего и воскресающего каждую весну, – и это к нему, а не к безвестному кормчему взывали мистагоги. Но не важно и это.
Со– и противопоставление Пана и Христа укоренилось в европейской культуре. Рабле, опасно шутя – или не вполне шутя, – в четвертой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» даже назвал Христа Паном, «ибо он – наше Всё: всё, что мы собой представляем, чем мы живем, все, что имеем, все, на что надеемся, – это он… Это добрый Пан, великий пастырь… и в час его смерти вздохи и пени, вопли ужаса и стенания огласили всю неизмеримость вселенной: небо, землю, море, преисподнюю. И по времени мое толкование подходит…» (пер. Н. Любимова).
А три века спустя в романе Дмитрия Мережковского «Смерть богов» (1895) герои, осознавшие, что «вся мудрость Эллады только путь к учению Христа», услышали «медленные звуки церковного пения: это старцы-отшельники, на передней части корабля, пели хором вечернюю молитву» – и, одновременно, совсем иную музыку: «мальчик-пастух играл на флейте вечерний гимн богу Пану». Люди уходящей эпохи плыли в неизвестное будущее, а в их сердцах «уже было великое веселие Возрождения».
В предисловии же к переводу классической пасторали второго века, Мережковский прямо говорил о том, что «люди девятнадцатого века, ожидающие в сумерках нового, еще неведомого солнца», предчувствуют: Великий Пан «скоро должен воскреснуть» («О символизме “Дафниса и Хлои”», 1904). Интересно, что в том же году по крайней мере четверо английских писателей и впрямь возродили Пана. Э. Ф. Бенсон, Эдгар Джепсон и Э. М. Форстер опубликовали посвященные ему рассказы, а в лондонском театре герцога Йоркского состоялась премьера пьесы Дж. М. Барри «Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел вырастать».
Почему же в сумерках «прекрасной эпохи», рубежа XIX-XX веков вновь зазвучала свирель Пана, то неслышно, как ветер в ивах, а то и зловеще?
В поисках ответа нам придется вернуться на сто лет назад, в эпоху романтизма. Прежде сельские божества являлись в пасторалях – или даже в «пасторальных трагикомедиях», таких, как «Верная пастушка» Джона Флетчера (1608), в которой мирные обитатели полей поют, помимо прочего, и «Гимн Пану». Также и в живописи Пан и сатиры веками остаются обитателями пасторально-эротических полотен.
Теперь же то, что было лишь антуражем, становится самой сутью, – и вот, в «Богах Греции» Фридриха Шиллера (1788) возникает «обезбоженная земля» современности, которой правит не сродство всего сущего, а грубый закон всемирного тяготения. (В первой редакции стихотворения были более откровенные выпады против «варвара на кресте» – основателя новой религии, убившей прежнюю гармонию.) Пана Шиллер не упоминает, хотя в ряду «богов Греции» названы и (римский) Фавн, и Сиринга.
Из Германии внимание к одушевленной природе (которая, как правило, вызывает в памяти поэтов одушевленную же античность) переходит в Англию к поэтам «озерной школы», Сэмюэлю Кольриджу и Вильяму Вордсворту. Первый из них, кстати, переводил Шиллера, второй же…
Ничем нас не пронять. О Боже, мне –
Языческой религии забытой
С младенчества служить бы! По весне
Простор зеленый был бы мне защитой;
Мне б чудился Протей в морской волне –
И дул при мне Тритон в свой рог извитый.
(Пер. С. Сухарева)
В другом стихотворении Вордсворт рассуждает о том, что Божественное обитает в природе и в человеческой душе, подобно «вселенскому Пану», – и этот эпитет он заимствует из «Потерянного Рая» Джона Мильтона (1667). Мильтон, будучи правоверным христианином, в языческих богов не верил, но как изобразить райскую пастораль, не прибегнув к образам греческой мифологии? – вот в поэме и упомянуты Сильван и Пан, «измышленные божества»…
Пан не раз появляется в сонетах и поэмах Вордсворта, хотя, безусловно, не занимает центрального положения в поэтической мифологии. А там и Китс включает «Гимн Пану» в поэму «Эндимион», и Шелли вкладывает «Гимн Пана» (1820) в уста самому великому богу, и Байрон начинает незаконченного «Аристомена» (1823) с плача по умолкнувшим богам, которые сгинули в тот день, когда неведомый голос раздался близ острова Пакса. «Прекрасен был тот мир, неповторим…» (пер. М. Донского).
Кажется, не было одного, ключевого текста, после которого Пан сызнова вошел в моду, – скорее уж таким текстом можно счесть поэзию Вордсворта в целом. Две главные темы – конец старой эпохи и связь музыки/поэзии с природой – стали чрезвычайно популярны уже в первой трети XIX века. Пример первой мы находим у Байрона, вторую же с легкостью обнаруживаем в далекой России, у некоего молодого графомана, который обожал общие места и затертые сюжеты:
Но чаще бог овец ко мне в уединенье
Является, ведя святое вдохновенье: –
Главу рогатую ласкает легкий хмель,
В одной руке его стакан, в другой свирель! –
Он учит петь меня; и я в тиши дубравы
Играю и пою, не зная жажды славы.
Это пятнадцатилетний Лермонтов, отличный показатель литературных мод.
В Англии же образцовые стихотворения о великом боге создала Элизабет Баррет, в замужестве Браунинг. «Мертвый Пан» (1844) завораживает звуковой инструментовкой, а «Свирель» (1860) раскрывает тему по-новому: пробуждается нечто древнее и мифически-безжалостное.
Сладостно, сладостно, сладостно, Пан!
Стелется трель у реки!
Сладостно млеть нам, великий Пан!
И солнца лучи погаснуть забыли,
Лилии ожили, стрекозьи крылья
Снова трепещут у самой реки.
Но зверь по природе великий Пан,
Хохочущий у реки,
Хоть людям дар песен от Пана дан:
Истинный бог, он тем и велик,
Что жалеет сорванный этот тростник,
Которому век не шуршать у реки.
(Пер. А. Парина)
Для умирающей Элизабет Браунинг это стихотворение было – о цене, которую приходится платить поэту, «мыслящему тростнику»; отсюда и элегическая интонация. Много позже Роберт Браунинг пройдет по следу своей жены и напишет чрезвычайно жесткое стихотворение «Пан и Луна» (1880), в котором перескажет миф о соблазнении лунной девы козлоногим богом, – но отбросит всяческую романтику: не соблазнение – изнасилование. «Но зверь по природе великий Пан…»
В 1855 году выходит в свет «Эпоха Легенд, или Повести о богах и героях» Томаса Булфинча – книга, которая для английского читателя значит примерно то же, что «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна – для читателя советского. В главе «Сельские божества» Булфинч не только пересказал древние мифы, но и собрал самые заметные поэтические сочинения, посвященные Пану: промежуточные итоги были подведены.
Тем временем европейская культура открывает для себя подлинную Грецию (1871 – Генрих Шлиман раскапывает Трою) и темную сторону античной культуры, о которой Шиллер и знать не хотел (1872 – «Рождение трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше). И пока Оскар Уайльд в стихотворении «Пан» (1881, пер. В. Широкова) сокрушался о том, как «сер и стар наш новый мир», – свирель бога зазвучала совсем иначе.
«Слишком пристально рассматривать опасности, слишком внимательно прислушиваться к угрозам, неумолчным в победной музыке мира, отдергивать руку от розы из-за шипов, от жизни – из-за смерти: вот что значит страшиться Пана» (Р. Л. Стивенсон. «Флейта Пана», 1878).
На континенте к этому еще не пришли. Бодлер в «Цветах зла» (1857) заклинал «больную музу»,
Чтоб ритмы, где звучат стихийные начала,
В кровь христианскую Античность источала,
Чтобы в веках царил создатель песни Феб
И с ним великий Пан, дарующий нам хлеб.
(Пер. В. Левика)
Манерное тургеневское «стихотворении в прозе» «Нимфы» (1878, опубл. 1882) провозгласило воскресение Пана – однако один вид золотого креста на церкви прогнал явившихся духов. «Но как мне было жаль исчезнувших богинь!» В рассказе Анатоля Франса «Святой Сатир» (1895) старый бог становится свидетелем смены мировых эпох – Сатурна сменяет Юпитер, Юпитера Христос; сатир принимает крещение и умирает – чтобы остаться бессмертным и вечно пребывать в сердце неизменной природы. (Через двадцать лет, в «Восстании ангелов», Франс создаст новый вариант мифа о Пане, уже откровенно антихристианский.) Не так интересен рассказ Франса сам по себе – еще одна попытка примирения язычества и христианства (одновременно с Мережковским!), – сколь важно его влияние на живопись. Ведь прочитав «Святого Сатира», Михаил Врубель написал своего знаменитого «Пана» (1899); однако рассказ Франса стал лишь поводом, а происхождение врубелевского Пана (или «Сатира», как сам художник называл картину) – поэтическое, благо стихотворений о древнем боге в русской литературе было немало.
И всю природу, как туман,
Дремота сладкая объемлет;
И сам тогда великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.
Ф. Тютчев. Полдень
(1829 – одновременно с Лермонтовым)
За год до Франса и Мережковского некий малоизвестный (в то время) английский писатель выпустил в свет книгу, которая многих читателей попросту возмутила – а заодно и ознаменовала начало нового этапа «паномании», продлившегося добрых тридцать лет. Книга эта – повесть Артура Мейчена «Великий бог Пан», и даже «декадентская» обложка Обри Бердслея не могла подготовить читателей к ее мрачному содержанию.
В прошлой статье цикла говорилось о том, как страшило британских авторов вторжение чужого в обыденную жизнь. Мейчен под явным влиянием Стивенсона (прежде всего – «Джекила и Хайда») создал чрезвычайно запутанное повествование – переплетение нескольких историй, смысл и связь которых становятся очевидны лишь в финале. И главная тема повести… да, снова вторжение. – но такое, какого добрая старая Англия еще, кажется, не знала. «Кажется» – потому что на последних страницах чудовищное и отвратительное оказывается частью ритуала, который исполняется в Британии с незапамятных времен.
Начинается все почти как «научная фантастика»: доктор Раймонд, классический «злодей-ученый», делает своей воспитаннице Мэри операцию на мозге, вот только цель его научной не назовешь. Наш мир – как учат философы и мистики – иллюзорен и скрывает подлинную реальность, но«древние знали, что значит убрать покров. Они называли это созерцанием бога Пана». Девушка после операции впадает в состояние безнадежного идиотизма, но это, по мнению Раймонда, и не важно: в конце концов, она увидела Пана.
Перед нами – вполне законченная история (опубликованная в 1890 году как отдельный рассказ), но это – лишь пролог к главному повествованию. Как мы узнаем – конечно же, в финале, – Мэри не только видела Пана, она зачала от него ребенка, и ее дочь-полукровка ныне стала причиной загадочных смертей в Лондоне.
В определенном смысле Мейчен пошел дальше Стивенсона; и не только потому, что крайне усложнил структуру повествования. Доктор Джекил, поведав свою странную историю, подтвердил то, что человеку XIX века было хорошо известно: человеческая натура двоична и отягощена злом. Мейчен нашел новую метафору – метафору декадентскую: предельное, невыносимое зло растворено в мире и в любой момент может настигнуть каждого, кто заглянет поглубже в суть вещей. Одному из героев повести является Пан – не наяву, но в полусне, потому человек и уцелел: «На мгновение он оказался лицом к лицу с сущностью, которая не была ни человеком, ни зверем, ни живым, ни мертвым, но соединением всех вещей, формой всего, но лишенной всякой формы». Такой же сущностью, но во плоти, оказывается дочь Пана, в момент смерти обретающая все мыслимые воплощения (в том числе мужское и женское); и если она ушла из мира, то рано или поздно вернется.
«Очарование этого повествования трудно передать, – не без злорадства писал Лавкрафт. – Никто еще не описывал беспредельный ужас, которым пронизаны все абзацы, от первого до последнего, как мистер Мейчен, постепенно раскрывающий смысл своих намеков.. Чуткий читатель подойдет к последним фразам с понятным страхом и желанием повторить слова одного из персонажей: «Это слишком неправдоподобно, слишком чудовищно; ничего такого не должно быть в нашем спокойном мире… Нет, друг мой, если это возможно, жизнь на земле станет кошмаром» («Сверхъестественный ужас в литературе», пер. Л. Володарской, с изм.).
Успех, пусть и скандальный, повести Мейчена лишний раз подтвердил, что людей привлекают страшные, а нередко и отвратительные истории. Манящая двусмысленность Пана, этой бесформенной формы, позволяла наполнить образ любым смыслом. Чем и занялись с энтузиазмом писатели рубежа веков[96]96
Мода привела к тому, что образ древнего бога оказался «привязан» даже к тексту, даже когда никакой необходимости – ни сюжетной, ни символической – в этом нет. Самый знаменитый пример – роман Кнута Гамсуна «Пан», опубликованный в том же году, что и повесть Мейчена (1894).
[Закрыть].
На самом же деле им лишь казалось, что образ неисчерпаем. Чем больше современный исследователь знакомится с рассказами и повестями на заданную тему, тем однообразнее они кажутся: радость для литературоведа и, скажем откровенно, скука для читателя. Вернее, даже не скука, но совершенная предсказуемость сюжетов. Герой / героиня встречается с Паном / ощущает его присутствие, проникается / не проникается его музыкой, сходит / не сходит с ума и умирает / не умирает[97]97
Написав эти слова, я понял, что почти процитировал С. Бережного, который так же описал известный толкинистский апокриф Н. Васильевой и Н. Некрасовой «Черная Книга Арды». Повторяемость сюжетных структур – узнаваемая черта мифа (в обоих случаях – перекликающегося с сатанизмом).
[Закрыть]. При этом итог, в отличие от повести Мейчена, как правило, очевиден с самого начала.
Сравнительно небольшую группу составляют рассказы и повести, в которых Пан показан, так сказать, в естественной среде обитания – античности («Жезл Пана» Ричарда Гарнетта, 1903), на заре христианства («Рогатый пастух» Эдгара Джепсона, 1904) – или в абстрактном фэнтезийном антураже («Юрген» Дж. Б. Кэбелла, 1919)[98]98
Русские аналоги – стихотворение Валерия Брюсова «Она в густой траве…» с эпиграфом «Умер великий Пан» (1894) и проза Александра Кондратьева: его «мифологический роман» «Сатиресса» (1907) и сборник рассказов «Белый козел» (1908).
[Закрыть].
Чаще время и место действия – современная Англия. Молодая женщина отказывается поклоняться Пану и покарана смертью под звук «юношеского смеха, двусмысленного и золотистого» («Музыка на холмах» Саки, 1911; пер. Н. Демуровой). Незримый бог насылает панику на участников вульгарного пикника, и только четырнадцатилетний мальчик следует неслышному зову («В паническом ужасе» Э. М. Форстера, 1904). Человек, решивший стать одним целым с природой, увидеть самого Пана, слишком поздно понимает, что жизнь природы – это непрерывное уничтожение хищниками своих жертв, и когда с криком «Боже, Боже, Господи Иисусе» он умирает, на груди его находят вмятину, «словно отпечаток копыт чудовищного козла» («Человек, который зашел слишком далеко» Э. Ф. Бенсона, 1904). Только что упомянутый Эдгар Джепсон в романе «№ 19» (1910) живописал общество неоязычников[99]99
Читай: герметический орден «Золотая Заря». Прототипом одного из героев стал Мейчен.
[Закрыть], которым удается оживить статую Пана и вызвать созданий Бездны – с прискорбными последствиями. Впрочем, книга эта не вполне оригинальна: она написана под явным влиянием У. Сомерсета Моэма и воспроизводит фабулу его романа «Маг» (1908). Прототип главного героя книги Моэма – сатанист Алистер Кроули, воспевший бога в «Гимне Пану» (1913, опубл. 1919); интересно, что «Маг» его возмутил, а «№ 19», напротив, привел в восторг – настолько различны подходы писателей к одной теме и даже одному сюжету.
Особняком стоит Джеймс Стивенс, который в романе «Горшок золота» (1912) весьма причудливо совместил две мифологических системы – мир ирландских фейри и античность Пана: «как бы ни урезали его империю, он никогда не останется без царства» (пер. С. Печкина).
Искуснее прочих, как обычно, оказался Г.К.Честертон. В великом романе «Человек, который был Четвергом» (1908) он создал многослойную структуру, и когда под читателем в очередной раз проваливается пол, обнаруживая новый уровень смысла, – головокружение неизбежно; многие сердятся. Когда выясняется, что Центральный Совет Анархистов целиком состоит из секретных агентов полиции, готовых ценою жизни защитить добрый порядок от тех, кто хочет его уничтожить… когда оказывается, что Воскресенье, зловещий Председатель Совета, – тот самый полицейский, который принял этих агентов на службу… вот тут-то и является Пан.
Председатель, который кажется то злодеем, то сверхъестественным созданием, – это и есть «все на свете», сама природа, сам мир, – словом, бог Пан («– Пан был и богом, и зверем, – сказал профессор»; пер. Н. Трауберг). Честертон, как всегда, спорит с декадентами. Для Мейчена «подлинная реальность» ужасна и невыносима; герои Честертона убеждены в ином.
«– Послушайте меня! – с необычайным пылом сказал Сайм. – Открыть вам тайну мира? Тайна эта в том, что мы видим [мир] только сзади, с оборотной стороны. Мы видим все сзади, и все нам кажется страшным. Вот это дерево, например – только изнанка дерева, облако – лишь изнанка облака. Как вы не понимаете, что все на свете прячет от нас лицо? Если бы мы смогли зайти спереди…»
…то мы бы увидели мир прекрасным: каков он на самом деле. Есть от чего впасть в панику.
Понятно, что «на самом деле» у Мейчена и Честертона принципиально различно: перед нами – две равноправные метафоры, а какую из них выбрать – дело вкуса. Другое дело, что Мейчен подводит героев (а с ними и впечатлительного читателя) к отчаянию – и бросает там; Честертон доходит до той же грани – и преодолевает ее.
Потому что Воскресенье – не только творение, но и Творец; «всё» – не только природа, но и ее Создатель.
В русской литературе такого сильного ответа «паническому» пессимизму не дал никто – и Владислав Ходасевич в 1924 году завершил тему вполне мейченовским по духу стихотворением:
Смотря на эти скалы, гроты,
Вскипанье волн, созвездий бег,
Забыть убогие заботы
Извечно жаждет человек.
Но диким ужасом вселенной
Хохочет козлоногий бог,
И, потрясенная, мгновенно
Душа замрет. Не будь же строг
Когда под кровлю ресторана,
Подавлена, угнетена,
От ею вызванного Пана
Бегом спасается она.
(«Соррентинские заметки. 2. Пан»)
В Англии же завершителем стал лорд Дансени, один из влиятельнейших авторов фэнтези XX века. О главных его книгах разговор впереди, в следующей статье, – а здесь скажу, что в сборнике «Пятьдесят один рассказ» (1915) три миниатюры посвящены Пану. Они довольно традиционны: две повествуют о смерти Пана – и его воскресении, как только все решили, что мертвый бог выглядит очень глупо, а гробница укрыла его навсегда; третья – о жалобе цветов, теснимых большим городом. «И затем я услышал несущийся в музыке ветра голос Пана, укоряющего их из Аркадии: «Будьте немного терпеливее, все это ненадолго» (пер. А. Сорочана).
Но двенадцать лет спустя, в иную эпоху, когда предвоенные сумерки остались далеко в прошлом, Дансени вернулся к теме, которая была не то что забыта – просто неважна. Его роман «Благословение Пана» (1927) стал последней попыткой создания – или воссоздания – мира, в котором Пан мог победить и победил.
Дансени поставил чистый эксперимент – с заранее известными результатами, как оно обычно и бывает в литературе. В маленьком церковном приходе где-то в английской глуши распространяется нечто вроде эпидемии, центром которой стал юный Томми Даффин, играющий по ночам на тростниковой флейте. Он словно одержим – или и вправду одержим, а виной тому – козлоногий викарий, венчавший его родителей и уехавший много лет назад неведомо куда. Один за другим жители Волдинга уходят под звуки музыки к старым камням – языческому алтарю, – но пока они еще не принесли древним богам в жертву быка, у нового викария (первым заметившего что-то неладное) есть некий мизерный шанс в борьбе за их души.
Дансени весьма саркастически изображает церковников, не готовых поверить в чудо: вернее, они потому и не верят, что страшатся его… и лучшим средством завоевания душ полагают крокет. Викарий проигрывает битву и становится жрецом Пана – не все ли равно, какой иллюзии служить, объясняет ему сумасшедший, видевший иных богов; «теперь на земле появились иллюзии получше, чем были до сих пор. И прекрасно» (пер. Л.Володарской). Волдинг выпадает из истории, становится островком мифа, который – естественно! – утратил все связи с внешним миром. Язычество и христианство не столько противопоставлены, сколько отождествлены: всему свое время, и волнообразная смена естественна и желанна. Кроме того, «благословение Пана» означает возврат в глубочайшую древность, по сравнению с которой вся человеческая культура последних девятнадцати веков – не более чем временное отклонение.
Интересно вот что: за год до «Благословения Пана» в Англии увидел свет другой роман другого автора, на который поразительно походит роман Дансени. Это «Луд-Туманный» Хоуп Миррлиз, чрезвычайно важный текст в истории фэнтези, который, увы, остается за рамками сего труда (Дансени начал свой путь еще до Первой мировой, а наш рассказ прервется на 1914 годе)[100]100
Кроме того, в один год с «Лудом-Туманным» на экраны вышел фильм «Маг» – экранизация упомянутого ранее романа Моэма.
[Закрыть]. Миррлиз повествует о Натаниэле Шантиклере, мэре города, который стоит на границе с Волшебной Страной. Шантиклер – один из немногих, кто слышал таинственный Звук, кто испытывает тоску по иному миру – и при этом изо всех сил борется за сохранение мира прежнего, потому что в Луде само упоминание эльфов неприлично и противозаконно. Конечно, в финале все усилия мэра приводят к тому, что Волшебная Страна приходит в его родной город.
Великий Бог Пан явился в литературу рубежа XIX-XX веков по многим дорогам сразу: романтизм и декаданс, неоязычество и новая культурология, поэзия и эротика – все так или иначе обратились к нему, внесли свою лепту в возрождение образа. Но вот что чрезвычайно важно для нас: Пан оказался одним из первых – если не первым – мифологическим существом, которое пришло в Англию, а не бежало из нее. Викторианские эльфы – это или малютки (которых даже талант таких художников, как Артур Рэкем и Ричард Дойл, не сделал подлинными), или эмигранты. Эльфы покидают страну в романе «Всё это Мэб» Мэри Кэнделл и Эндрю Лэнга (1885), «Анналах Оберонова двора» Джона Хантера Дювара (1895), «Паке с Волшебных Холмов» Киплинга (1906): их время прошло.
Но Пан – является.
И его-то возрождение, вместе с трудами фольклористов – таких, как «Волшебные и народные истории ирландских крестьян» У. Б. Йейтса (1888), – помогло эльфам найти путь назад[101]101
В «Кельтских сумерках» (1893) Йейтс назвал фейри «детьми Пана» за «козлоногость, действительно среди них распространенную», и «детьми Лилит» (пер. В. Михайлина).
[Закрыть]. И оказалось, что образы кельтской мифологии куда более естественно смотрятся на фоне зеленых холмов Англии и Ирландии, нежели образы античной Эллады. Поэтому (в частности) роман Миррлиз сильнее и оригинальнее романа Дансени.
Были и промежуточные звенья: «Горшок золота» Джеймса Стивенса и, конечно же, киплинговский «Пак» – но прежде того прославилась история, герой которой совмещает черты Пана и фейри. Имя старого бога стало фамилией и в русском переводе сменило звучание: Пэн, Питер Пэн[102]102
Рекомендую читателю блестящие эссе, ему посвященные: «Ребенок во времени» А.С. Байетт и «Дж. М. Барри и Питер Пэн» Терри Виндлинг.
[Закрыть].
Несколько дат. Примерно в 1898 году известный писатель Джеймс Метью Барри повстречал в Кенсингтонском саду трех братьев Льюэлин-Дэвисов, старшему из которых было пять, а младшему – год; довольно быстро он стал другом семьи – такое с ним нередко бывало, как и с Льюисом Кэрроллом. В 1902 году Барри публикует роман «Белая птичка, или Приключения в Кенсингтонском саду» – об отставном капитане, который знакомится с мальчиком Дэвидом и рассказывает ему сказки о феях, обитающих в парке, только увидеть их можно лишь между Закрытием и Открытием. Но книгу эту мало кто помнил бы, не появись в ней – в нескольких вставных историях – Питер Пэн, сбежавший из дому во младенчестве и воспитанный птицами и феями.
Декабрь 1904 – премьера пьесы «Питер Пэн». Феноменальный успех, не ожидавшийся даже автором: он рассадил клакеров, которые должны были захлопать, когда Питер спросит «Верите ли вы в фей?» Не понадобилось: зал вскочил как один человек и оглушительно зааплодировал[103]103
И только писатель Энтони Хоуп пробормотал: «О, хоть бы на час сюда царя Ирода!» (эти слова я приводил в девятой статье цикла).
[Закрыть]. Некоторые дети забились в истерике, когда увидели капитана Крюка, и их пришлось вывести. («Никого так не ненавидели, как моего отца», – с гордостью говорила дочь актера, писательница Дафна Дюморье.) Даже Толкин, который в последующие годы так ненавидел маленьких крылатых фей, был под таким впечатлением от спектакля (виденного в 1910 году), что написал свое первое стихотворение об эльфах:
Придите ко мне, легкокрылые эльфы,
Виденьям подобны и отблескам ясным,
Из света сотканные, чуждые горю,
Порхайте над буро-зеленым покровом.
Придите! Танцуйте, о духи лесные!
Придите! И спойте, пока не исчезли!
(Пер. С. Лихачевой)
И когда в 1916 году Толкин начнет создавать «Книгу Утраченных Сказаний», не случайно на ее страницах возникнет эльфийский Домик Игры Сна, куда приходят человеческие дети, ладят луки и карабкаются на крышу. Нигдешний остров (Neverland) принимает разные обличья.
А в 1911 году Барри публикует повесть «Питер и Венди», в которой, по сравнению с пьесой, добавился эпилог «Когда Венди выросла».
С тех пор – спектакли, фильмы и мультфильмы, переводы и экранизации. И попытки понимания.
Прежде всего – почему Пан? Потому что играет на «бессердечной свирели» (из «Белой птички» знаем, что она тростниковая, классическая сиринга, или «флейта Пана»). Потому что, хотя и не козлоног, но ездит верхом на козле (та же «Птичка»). Потому что насылает на врагов панику. Потому что находится в ближайшем родстве с природой – он, как и все дети, некогда был крылат и считал себя птицей; оттого до сих пор и умеет летать (ну, и волшебный порошок тоже помогает). Барри по-своему подошел к одной из главных тем, связанных с Паном в литературе того времени: теме равнодушия природы к человеку. Только он нашел для этого равнодушия другое название: детство. Оно, как и природа, находится вне морали, по ту сторону добра и зла. Недаром последние слова повести: «…и так оно будет продолжаться, пока дети веселы, невинны и бессердечны».[104]104
Здесь и далее цитирую (с изменениями) перевод Н. Демуровой. Более распространенный пересказ И. Токмаковой сокращает и упрощает книгу Барри.
[Закрыть] Эпитеты, постоянно сопровождающие Пана – и Пэна.
И в то же время Питер, несомненно, эльф, фейри, существо с той стороны. Он не только воспитан феями и водится с ними – он еще и психопомп, проводник душ. «Когда дети умирали, он летел с ними часть пути, чтобы им не было страшно». А в Кенсингтонском саду он хоронил детей, которые потерялись или были сбиты с дороги феями, да так и не нашлись; и автор сухо выражает надежду на то, что Питер не слишком торопился работать лопатой – иными словами, что дети к тому времени действительно умерли. Сам Питер, безусловно жив: смерть для его – «настоящее приключение», захватывающая возможность. Но он жив иначе, не так, как все, что подчеркнуто в пьесе: Питер запрещает Венди к нему прикасаться, и тут же авторская ремарка добавляет, что за всю пьесу никто ни разу не касается Питера – даже Крюк его не ранит.
А в повести Питер – единственный, кто выходит из-под власти времени (поэтому он так легко забывает, что с ним происходило час или день назад). Конечно, Нигдешний остров существует в ином времени, чем Англия, – но во времени, пускай и сказочном. Краткоживущие феи умирают, и год спустя Питер уже не может вспомнить, кто такая Динь-динь; но так же и «миссис Дарлинг умерла и была позабыта». Питер отказался взрослеть, но к другим пропащим мальчикам это не относится. Вот почему«мальчиков на острове бывает то больше, то меньше, смотря по тому, сколько их убивают и всякое такое; когда они подрастают, что противоречит правилам, Питер их немного прореживает (thins them out)».
Страх взросления – лейтмотив повести (в целом более мрачной и жестокой, чем пьеса). Питеру не понятны и страшны попытки Динь, Венди, Тигровой Лилии сделать его кем-то, кроме мальчишки, – например, «отцом» (в игре с Венди-«мамой» и мальчишками-«детьми»). В этом и не только в этом отношении Питер Пэн – автопортрет Барри, человека инфантильного («Книги писать – это ничего, а вот ушами шевелить вы умеете?» – спросил он Уэллса) и совершенно асексуального. Барри ворвался в семью Льюэлин-Дэвисов, как Питер – в семью Дарлингов (к неудовольствию отца семейства[105]105
Не случайно мистер Льюэлин-Дэвис отсутствует в недавнем фильме «Волшебная страна», где роль Барри блестяще (и совершенно непохоже) исполнил Джонни Депп: кино воплотило миф о Питере и его создателе, а не довольно мрачную реальность. Так, Барри, судя по всему, подделал завещание Сильвии Льюэлин-Дэвис, чтобы получить опекунство над детьми.
[Закрыть]). Но кроме того, «Венди» – это не имя (такого в Англии вообще не было), а искаженное «frendy», как называла писателя дочь его друга. Наконец – после перенесенной в детстве болезни у Барри плохо работала правая рука… будто не кисть, а крюк. Словом, автор полностью вложил душу в героев пьесы.