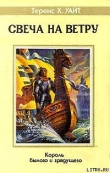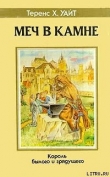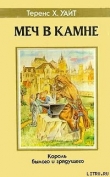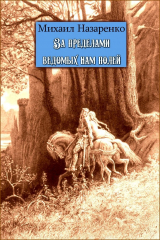
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Конечно, крестьянин боялся, что его высмеют. Конечно, за сорок лет после выхода «Кельтских сумерек» ирландское простонародье прониклось духом рационализма. Но еще важнее позиция самого Дансени: он не ищет присутствия мистики, болотным огням дает вполне научное обоснование и не печалится об исчезновении фейри. В отличие от Йейтса, он полагает, что фантастическое принадлежит только сфере вольного воображения. Вместо того, чтобы проникать в закрома национального фольклора и, оживляя полузабытые образы, делать их реальнее реального, – Дансени создает новые миры, которые должны стать тем зримее, чем более они необычайны. Миры, суть которых – фантазия и авторский стиль.
Можно сказать, что Йейтс и Дансени воплощают два полюса, между которыми пребывает вся современная фэнтези, – но это было бы чрезмерным упрощением. Толкин – «реконструктор» в еще большей степени, чем Йейтс, однако и Дансени на него повлиял чрезвычайно. Да и сам Дансени описывал не только зыбкое бытие Эльфландии, но и ведомые нам поля.
«Моя Ирландия» – говорил писатель, но мог бы с не меньшим правом сказать и «моя Англия». Происхождение у восемнадцатого барона Дансени – датское (потому ли боги в его рассказах не кельтские? – рассуждают критики). В одиннадцать лет он унаследовал титул и стал обладателем немалого состояния, которое значительно уменьшилось во время первой мировой войны: тогда он стал, по словам биографа, «чрезвычайно богат, как для поэта, и довольно беден, как для пэра».
В детстве и молодости Дансени был изолирован от современной политической и артистической жизни. Ему даже не давали газет, чтобы невинность не пострадала от чтения бракоразводной хроники. Сказки братьев Гримм и Андерсена волновали воображение подростка, а с ирландскими сказаниями он познакомился гораздо позже, и они, кажется, не произвели на него впечатления. В школе заставляли читать Библию, «и мысли мои обернулись к востоку,– вспоминал Дансени. – Годами ни один стиль, кроме библейского, не казался мне натуральным, и я боялся, что никогда не стану писателем, потому что никто другой этим стилем не пользовался.
А когда в Чим-скул я выучился греческому и услышал об иных богах, то ощутил неимоверную жалость к прекрасному мраморному народу, что был забыт, и чувство это никогда не оставляло меня».
Дансени был настоящим аристократом, а в искусстве – дилетантом: тем, для кого сочинительство остается не более чем увлечением, пусть даже и любимым. Он был лучшим стрелком Ирландии, прекрасным шахматистом (как-то сыграл вничью с Касабланкой), хорошим игроком в крикет, отважным солдатом (участвовал в бурской войне, где чудом остался жив, и в Первой мировой). Был Дансени, между прочим, и писателем.
Он финансово поддерживал начинания «ирландского возрождения» – так и познакомился с Йейтсом, который сразу признал гений Дансени. Именно гений: это его слово. Правда, и сердился Йейтс на него нередко: Дансени так затянул написание своей первой пьесы «Сияющие Врата» (1909), что Йейтс пригрозил отдать сюжет кому-нибудь другому. «Как жаль, что он родился пэром – жизнь его слишком приятна. Пятьдесят фунтов в год и любовница-алкоголичка сделали бы из него человека».
Личные расхождения между писателями заключались в вопросах политических и культурных. Дансени был категорически против независимости Ирландии (его даже ранили во время Пасхального восстания сепаратистов в 1916 году) и отказывался подчинять свое творчество национальным вопросам. Йейтс вздыхал об этом в предисловии к «Избранным сочинениям» Дансени, которые сам и составил (1912), но все-таки отводил ему важную роль в культурном преобразовании Ирландии рубежа веков.
Через двадцать лет изменится многое – и Йейтс предложит Дансени, чуждавшемуся ирландской тематики, лишь статус кандидата в члены национальной Академии Искусств. («Она для того и была основана, чтобы не пустить в нее Дансени», – скажет острослов.) Дансени, конечно, откажется, но все-таки будет принят несколько лет спустя, когда напишет «правильную» книгу.
Все же не будем забывать, что благодаря Йейтсу началась блестящая карьера Дансени-драматурга, а его пьесы, пользовавшиеся огромным успехом в Англии и Америке (на Бродвее одновременно шло сразу пять!), привлекли внимание и к рассказам, которые ранее выходили мизерными тиражами в пару сот экземпляров.
В предыдущих статьях цикла говорилось о том, что на рубеже веков чудесное зачастую понималось как чужое, открытое в дальних странах или пришедшее издалека. Неудивительно, что и Дансени вдохновлялся восточной экзотикой: на него произвела сильное впечатление мелодрама «Любимица богов» (1902) Д. Беласко и Дж. Л. Лонга. Действие пьесы происходило в Японии, но настолько условной и сказочной, что естественным следующим шагом – которого никто, кроме Дансени не сделал, – было создание фантастического мира, уже никак не связанного с нашим.
Дансени повезло: он сразу нашел единомышленника. Им стал известный художник того времени Сидней Сайм, который на протяжении почти двадцати лет иллюстрировал книги Дансени. Более того: многие рассказы и создавались как «подписи» или «расшифровки» рисунков Сайма. Черно-белые изображения придавали богам, пророкам, твердыням и морям Дансени дополнительную реальность – но лишь «дополнительную». Основу новой реальности, как уже было сказано, создал новый язык литературы.
Автор прижизненной книги о Дансени пытался определить принципиальную новизну его книг. Литература, созданная на основе фольклора и мифологии, – не редкость. «Фольклор развивался тысячелетиями, прежде чем оказался запечатлен на книжной странице. Но Дансени создал собственный фольклор, или, лучше сказать, мифологию, при этом насытив ее атмосферой подлинной древности. Сама эта концепция – необычайный tour de force(проявление мастерства, сложная задача)»[124]124
Edward Hale Bierstadt. Dunsany the Dramatist. – Boston, 1917. – P. 123.
[Закрыть].
Критик ищет и не может найти слово, которое в те времена еще не имело терминологического значения. А слово это – «фантазия», фэнтези. Ничто иное.
Здесь приведем довольно обширную цитату из письма, в котором Дансени объясняет свои главные принципы – принципы, как мы увидим, зарождающегося жанра.
«…И однажды воображение пришло на выручку, и я создал богов; а затем пришлось сотворить и людей, чтобы те поклонялись богам; а также и города, где они будут жить, и королей, которые будут ими править; но королям и городам потребны имена, и великие, веские имена нужны широким рекам, которые – я видел это – ночами текут по королевствам.
Вероятно, моя голова содержит больше греческих слов, чем я смог бы перевести, а также – множество имен ветхозаветных царей. Немало горацианских од я выучил прежде, чем узнал смысл хоть одной их строки. Полагаю, когда нам приходится изобретать новое имя, Память, «Матерь муз», что обитает в кладовых сознания, на которые мы ошибочно вешаем табличку «позабытое», сплетает непривычные древние слоги и создает столько имен, сколько понадобится. По крайней мере, я не раз обнаруживал подобие слова, казавшегося порождением чистого вдохновения, и некогда знакомого имени.
Изобретать имена мне легче всего – за вычетом, пожалуй, создания мифов. Вот некоторые из моих любимцев: Сардалтион, Тадденбларна, цитадель богов, и Пердондарис, прославленный город.
Вот какое впечатление на меня производят классики. Кто-нибудь скажет или я где-нибудь прочитаю: «как молвил такой-то пред стенами такими-то», – и, поскольку мое знакомство с классиками весьма поверхностно, слова эти вызовут одно лишь изумление, частицу которого я и пытаюсь передать читателям, когда словно бы неумышленно, вскользь упоминаю некую битву или повесть, ведомую всем в королевствах по ту сторону заката и в городах, что построены из сумерек, где доводилось бывать мне одному…» .
Толкин мог бы подписаться едва ли не под каждым словом. Во «Властелине Колец», да и во всем «Легендариуме Средиземья» немалая часть удовольствия – авторского и читательского – заключается в узнавании, не в последнюю очередь – языковом. Только специалист может полностью оценить языковую вязь «Властелина», переплетение и перекличку языков, – но мир создан так, что интуитивно его лингвистическую красоту ощущает каждый. А «неумышленные» упоминания имен и реалий семитысячелетнего прошлого Средиземья окажутся одним из организующих принципов эпопеи. При этом Толкин упорно противопоставлял системность своего подхода полной произвольности Дансени: а значит, и эффект реальности у оксфордского лингвиста куда сильнее[126]126
См.: Дж. Р. Р. Толкин. Письма. – М.: Эксмо, 2004. – С. 32 (№ 19).
[Закрыть].
Конечно, Дансени не ставил перед собой настолько сложных целей (еще одно побочное следствие его «дилетантизма»). Недоброжелательные современники называли его рассказы «красивыми, но бессмысленными»; доброжелатели сравнивали Дансени с «радостным ребенком, который забавляется блестящими игрушками». «Чистый, чудесный и редкий, как единорог…»
Когда в 1905 году первая книга Дансени, «Боги Пеганы», увидела свет, она была совершенно ни на что не похожа. В наше время, напротив, на нее похоже слишком многое, однако за столетие сновидческая прелесть этих рассказов отнюдь не потускнела.
«Есть острова в Срединном море, воды которого не стеснены никакими берегами, куда не доплывает ни один корабль.
Вот вера людей, живущих на этих островах» .
Судьба и Случай бросали жребий «в туманной мгле, предшествовавшей Началу», тот же, кто выиграл (а кто – узнать невозможно), поспешил к МАНА-ЙУД-СУШАИ, чтобы предвечный создал для него богов.
«Раньше, чем воцарились боги на Олимпе, и даже раньше, чем Аллах стал Аллахом, МАНА-ЙУД-СУШАИ уже окончил свои труды и предался отдыху.
И были в Пегане – Мунг, и Сиш, и Киб, и создатель всех малых богов, МАНА-ЙУД-СУШАИ. Кроме того, мы верили в Руна и Слида.
Старики говорили, что все кругом сделано малыми богами, кроме только самого МАНА-ЙУД-СУШАИ, который создал богов и поэтому отдыхал.
И никто не смел молиться МАНА-ЙУД-СУШАИ, а лишь богам, которых он создал.
Но в Конце МАНА-ЙУД-СУШАИ забудет про отдых и захочет создать новых богов и новые миры и уничтожит богов, созданных раньше.
И боги и миры исчезнут, останется лишь МАНА-ЙУД-СУШАИ».
Более всего «Боги Пеганы» схожи с первыми главами «Сильмариллиона», и даже не с окончательным компендиумом преданий Первой Эпохи, а самой ранней его редакцией, созданной всего через десятилетие после Дансени, – «Книгой Утраченных Сказаний» (1916-20).
Различия также очевидны: мир Толкина, хоть и «вторичный» (то есть плод воображения), неразрывно связан с нашим, будучи его неизмеримо глубоким прошлым. Мир Дансени совершенно автономен: на острова Срединного моря (не «Средиземного», как в русском переводе!) наши корабли не прибудут; и пустынная страна «Afrik», где на черных скалах сидит вечно мучимый жаждой бог Амбул, – не наша Африка.
Дансени создал мифологию в полном значении этого слова: не просто набор текстов о богах, людях и мирах, но систему, которая подчиняется определенным законам и остается внутренне целостной, несмотря на противоречия. Рассказы «Пеганы» могут расходиться друг с другом – особенно когда речь идет о грядущем конце миров. Это создает замечательный эффект достоверности: «Пегана» становится не авторским текстом, а собранием разнородных (то есть объективно существующих!) преданий.
Вскоре Дансени доведет этот подход до предела в повести «Путешествие Короля» из сборника «Время и боги» (1906): каждый из пророков неведомых земель излагает свою версию космогонии и свои предначертания будущего, – но единственно верным предсказанием оказывается изреченное Смертью; ибо КОНЕЦ ожидает всех. (Ближайший аналог этой повести в фантастике ХХ века – многосложные беседы королей, мудрецов и конструкторов в лемовской «Кибериаде»; интересно, читал ли поляк ирландца?)
Неопределенность заложена в мир Пеганы изначально: Судьба или Случай побеждает в игре? Среди богов Пеганы есть Дорозанд, бог неизъяснимой участи, который видит дальше прочих божеств: «…Миры движутся, и реки текут в море, и Жизнь возникла и распространилась по всем Мирам, и боги Пеганы совершают свои труды – и все ради Дорозанда. Но когда Дорозанд достигнет цели, Жизнь в Мирах станет ненужной, и не будет больше игры для малых богов». Однако Участь – не Судьба, и даже Дорозанд остается одним из малых демиургов. Боги обречены, они уже не гуляют по райской стране Уорнат-Мейвея, и пес-Время рычит на них.
Как с удивлением отмечали критики, в мире Дансени нет богов урожая, войны и любви, обязательных для любого пантеона, зато имеется (как у педантичных римлян) множество мелких божеств. «Вот боги домашнего очага: Питсу, что гладит кошку; Хобиф, что успокаивает пса; Хабания, повелитель рдеющих углей; маленький Сумбибу, властелин пыли; и старик Грибаун, который сидит в самом огне и превращает древесину в золу, – все это домашние боги, они живут не в Пегане…»
Творец, который спит и не вмешивается в жизнь созданной им вселенной; боги, чьими трудами явились на свет земля и люди, – боги, чье бытие продлится лишь до тех пор, пока не пробудится МАНА-ЙУД-СУШАИ; люди, подражающие богам и способные даже занять их место, пока те, в свою очередь, не проснутся… Модель, на которую опирался Дансени, очевидна: это гностические учения, которые уже почти две тысячи лет пронизывают культуру.
Интерес к язычеству, столь свойственный культуре рубежа XIX-XX веков, не минул и Дансени. Но писатель не приводит древних богов в наш мир – в отличие от многих коллег, зачарованных образом великого Пана, и в отличие от Лавкрафта, начинавшего с прямых подражаний Дансени. Не привносит он и «нашу» (европейскую, христианскую) этику в мир вымышленный – в отличие от Джорджа Макдональда и, в меньшей степени, Уильяма Морриса. Дансени выстраивает собственный мир на основаниях, не вполне привычных для читателей того времени: каждый элемент хорошо знаком, но целое – удивляет. Мир – откровенно не-христианский, но при этом описанный языком «библии короля Иакова» – классического перевода, вошедшего в плоть и кровь английского языка.
Вероятно, здесь сказалось влияние колониальной прозы, не в последнюю очередь Киплинга, также широко пользовавшегося «библейским английским». «Колонизаторы» открыл чудесные страны, живущие по своим законам и во власти своих богов, – Дансени убрал точку отсчета (наш мир, Европу); так возник самодостаточный и странный мир. Мир, управляемый не этикой, а эстетикой: у Дансени совершенно отсутствует моральная оценка событий, они важны лишь как «прекрасные» или «ужасные», – а красота может быть и в ужасе.
Борхес писал о Дансени: «Его рассказы о сверхъестественном отвергают как аллегорические толкования, так и научные объяснения. Их нельзя свести ни к Эзопу, ни к Г.Дж. Уэллсу. Еще меньше они нуждаются в многозначительных толкованиях болтунов-психоаналитиков. Они просто волшебны»[128]128
Пер. В. Кулагиной-Ярцевой. Цит. по: Э. Дансейни. Рассказы сновидца. – СПб.: Амфора, 2000. – С. 6.
[Закрыть]. Аргентинец, по сути, говорит о фэнтези, которая отлична и от басен, и от научной фантастики. То, что рассказы Дансени не имеют отношения к НФ, очевидно; автор «Пеганы» (как и автор «Властелина Колец») подчеркивал, что не пишет и аллегории. Но все же Дансени пришлось подчиниться законам сотворенного им мира: законам, от которых он бежал в страну неуемной фантазии.
Если «Боги Пеганы» представляли собой набор бессюжетных зарисовок, моментальных снимков, то вторая книга, «Боги и люди», развивала космогонию «Пеганы» и вводила в мир новые сюжетные элементы. Именно Дансени привнес в фэнтези – смотрите, как жанр создается на наших глазах! – ныне популярную, даже затертую тему: внутреннее превосходство человека над богами. Конечно, можно вспомнить целый ряд текстов-предшественников – прежде всего созданных в эпоху романтизма; однако холодно-аристократическая ирония Дансени, как обычно, двусмысленна.
Человек, узнавший тайну богов, умирает от укуса змеи, успев только сказать: «Она (тайна) в том…» А жители Йарнита говорят: «Если Йарни Зей никакой не бог, значит, нет в Йарните никого могущественнее людей»[129]129
Пер. Е. Комаровой.
[Закрыть]– и прогоняют лютый Голод из своей земли; но потом возвращаются к старой вере – на всякий случай. Душа царя ради забавы богов помещена в тело раба, но после смерти повелевает самими богами.
То, что у многих авторов фэнтези стало бы догмой, у Дансени пребывает в тумане неопределенности. Автор не возвеличивает человека, но расшатывает устои мироздания: ведь в итоге победа остается не за людьми и не за богами, но за Временем.
Дальше – больше: в сборнике «“Меч Веллерана” и другие рассказы» (1910) Дансени, по словам Джона Клюта, «чуть ли не единолично создал жанр “меча и магии”, причем без сюжетных излишеств»[130]130
The Encyclopedia of Fantasy / Ed. by John Clute and John Grant. – N.Y.: St. Martin’s Griffin, 1999. – P. 303.
[Закрыть]. Вот рассказ «Крепость Несокрушимая Иначе Как Для Сакнота»: молодой герой Леотрик, чудесный меч, победа над драконом Тарагавверугом, вторжение в зловещий замок и свержение темного властелина – всё на месте. Но на месте и авторская ирония. Одни говорят, что Леотрик победил врагов, другие полагают, что кошмары, насылаемые злым чародеем, были простой лихорадкой, «и, одержим недугом, Леотрик отправился ночью в болота и видел кошмары, и в бреду неистовствовал, размахивая мечом.
А третьи уверяют, что не было на свете селения под названием Аллатурион, и Леотрика тоже не было.
Мир да пребудет с ними. Садовник собрал осенние листья. Кто увидит их снова, кто о них вспомнит? И кто может сказать, что бывало в давно минувшие дни?» .
Канон возникает одновременно с его опровержением: но все-таки возникает. Иллюзия подлинности исчезает, как палая листва: но сперва создается.
А затем Дансени взялся за то, что чрезвычайно раздражало Толкина: он соединил Волшебную Страну и современную Англию напрямую. Чуть раньше этот прием применил Уэллс: классические рассказы «Волшебная лавка» (1903) и «Дверь в стене» (1906) наверняка были памятны Дансени. Но в сборниках «Рассказы сновидца» (1910), «Книга чудес» (1912) и «Последняя книга чудес» (1916) иной мир не столько вторгается в английскую жизнь, сколько дополняет и отражает ее. Для обитателей сказочного Багдада в «Повести о Лондоне» волшебной страной оказывается именно Англия («Есть у них река именем Темза, и вверх по ней идут корабли под фиолетовыми парусами, что везут фимиам для жаровен, окуривающих улицы…»). «Пегана» говорила о мире, который существует; сновидческие и чудесные рассказы воплощают томление по недостижимому, а может, и сгинувшему навеки, как далекий град Бетмура.
Ярче всего тоска эта проявилась в двух классических рассказах 1910-х годов.
«Каркассон» повествует о походе к городу, добраться до которого невозможно (ибо грань миров перейти нельзя). Родился этот рассказ из строки, которую писатель то ли прочитал, то ли выдумал: «Но он – он так никогда и не добрался до Каркассона»[132]132
Пер. И. Стам.
[Закрыть]. Борхес, прочитав новеллу, причислил Дансени к предшественникам Кафки, герои которого тоже не могут войти во Врата Закона или в Замок. Но если герои Кафки стремятся постичь некую высшую инстанцию – достучаться до небес, в конечном счете, – то герои Дансени одержимы стремлением победить время и увидеть небывалое: вертикальный путь, дорога к трансцендентному для них не важны, да, пожалуй, и не существуют. Дансени – эстет, а не моралист.
А второй рассказ – это «Чудесное окно», едва ли не единственная из историй «Книги чудес», которая насыщена эмоциями. У лондонского бродяги можно купить окно в сказочную страну; сквозь стекло виден Голод Золотых Драконов, названный так в честь его флага. Открыть окно невозможно – однако можно разбить его, и одной этой жертвой спасти город от захватчиков. Золотые Драконы снова трепещут на ветру, но ты их более никогда не увидишь: по ту сторону рамы – только голая стена. Впервые герою Дансени даровано счастье прикоснуться к волшебству, более того – изменить ход событий в волшебной стране.
В «Книге чудес» Дансени следует почтенной английской традиции, которой многие следуют по сей день, а многие (как Толкин) отвергают категорически, считая разрушительной. Это традиция рефлексирующей сказки – назовем ее так. Сказки, которая знает, что она сказка, и постоянно напоминает об этом читателю: излюбленный постмодернистский прием (вспомним «Плоский мир» и «Шрека»), но возникший куда как давно.
В 1785 году Гораций Уолпол (тот самый основоположник готического романа) выпустил тиражом в шесть экземпляров невероятные «Иероглифические сказки». «Жил некогда король, и были у него три дочери – то есть их было бы три, но как-то так получилось, что старшая не родилась. Она была необычайно красива, весьма умна и в совершенстве говорила по-французски, как признавали все авторы той эпохи, хотя ни один из них не утверждал, что она и вправду существовала. Можно с уверенностью сказать, что две оставшиеся были далеко не красавицы: средняя принцесса говорила с сильным йоркширским акцентом, а у младшей были плохие зубы и всего одна нога, вследствие чего танцевала она прескверно».
Эстафету принял Эндрю Лэнг со своим «Принцем Зазнайо» (1889), о котором уже шла речь в одной из статей цикла, – а затем явился Дансени, циник с неуемной фантазией. Едва ли не все рассказы из «Книги чудес» (имеющей подзаголовок «Летопись приключеньиц на Краю Мира») строятся на одном, чрезвычайно действенном приеме. Читатель не знает, будет ли работать в каждом случае логика сказки или мрачная логика «подлинного» мира мрачного волшебства.
«– А Нута они поймали? – спросишь ты меня, о милый читатель.
– Нет, что ты, дитя мое (ибо подобный вопрос любому покажется детским). Нута не поймать никому и никогда» («О том, как Нут задумал испытать свою ловкость на гнолах»).
«При слабом отблеске луны он заметил, что вода зелена от драгоценных камней, и, с легкостью наполнив сумку, Алдерик вновь поднялся на поверхность – там-то и стояли Гиббелины по пояс в воде и с факелами в руках! И не промолвив ни слова, даже не улыбнувшись, они ловко вздернули его на крепостной стене – как видите, история эта не из тех, что имеют счастливый конец» («Сокровища Гиббеллинов»)[133]133
Пер. С. Лихачевой.
[Закрыть].
В обоих случаях читателя настигает эмоциональная разрядка – то ли смех, то ли содрогание, то ли (намерение Дансени) чувство глубокого удовлетворения от созерцания безукоризненно выполненной новеллы.
Англия и сказочные земли в этих рассказах взаимно пересекаются. Чудесно спасенная дочь Принца Торговцев «обратилась к воинствующей респектабельности, и стала агрессивно унылой, и назвала своим домом Английскую Ривьеру, и там банально вышивала чехольчики для чайников, и в конце концов не умерла, а скончалась в своей резиденции».[134]134
Пер. А. Сорочана, с изменениями.
[Закрыть] Мисс Каббидж, похищенная драконом, много лет спустя получает записку от школьной подруги: «Как это вам не подобает – жить там в одиночестве».
Через границу переходят пошлость, мещанство… и хитроумные воры, которым далеко не всегда удается вернуться с добычей – а то и вообще вернуться. Читателю, как и герою «Чудесного окна», остается только восхищенное наблюдение. Таким благодарным наблюдателем оказался Лавкрафт, сочинивший стихотворение «На чтение “Книги чудес” лорда Дансени»:
Часы в ночи летят, как птицы,
В камине угольки горят;
Проходят тени вереницей –
Молчащих демонов парад.
Я уношусь в иные сферы,
Читая книгу в тишине,
Когда волшебные химеры
Чаруют ум и сердце мне.
И я уже не в этом мире –
Я вижу, вижу наконец
Дворцы и города в эфире
И цепь пылающих колец.
(Пер. Н. Шошунова)
Влияние Дансени на современников и потомков было, без преувеличения, подавляющим. Ранний Толкин не только воспроизвел манеру Дансени, но и перенес одного из богов Пеганы на Заокраинный Запад, чуть изменив его имя (Лимпанг-Тинг в «Пегане», Тинфанг в «Книге Утраченных Сказаний»). Флетчер Прэтт создал вариацию на тему пьесы Дансени «Король Аргименес и Неведомый Воин» (1911) в романе «Колодец Единорога» (1948), где с легкой иронией упомянул «ирландского летописца». «Он не позволял воображению уходить слишком далеко, пока оно совершенно не привыкало к первоначальному окружению. Особенно он избегал джунглей: он не боялся встретить тигра (в конце концов, тигр не был реален), но там вполне могли таиться и более странные твари»: эти строки из «Книги чудес» органично смотрелись бы на страницах Борхеса; а постмодернист Итало Кальвино по-своему продолжил «Богов Пеганы» и «Рассказы сновидца» в «Незримых городах» (1972) – без каких-либо отсылок к пантеону Дансени.
«Никому не удастся подражать лорду Дансени, но, верно, все, кто его читал, пытались это сделать», – говорила Кэтрин Мур.
Примеры легко умножить, но важны не прямые заимствования, а свободное использование всего инструментария, который был создан или видоизменен лордом Дансени. Миры и боги, богоборчество и стремление в зловеще-романтичные страны, ирония и рефлексия – это все он, гордый ирландец, и не думавший о мирской славе. Судьба оказалась достойна его: чем далее распространялись по воде круги от камня, который бросил Дансени, тем менее о нем помнили. Писатель был порождением сумерек предвоенной Европы; в них он и остался. Роман «Благословение Пана» (1927), о котором было рассказано в предыдущей статье, уже кажется несколько эпигонским. В 1930-50-е годы Дансени пребывает на периферии литературной жизни; сборники фантастических рассказов он не печатает более тридцати лет, хотя почти во всех его романах содержатся мистические элементы.
Но едва ли не последняя вспышка гения оказалась одной из самых ярких: роман «Дочь короля Эльфландии» (1924) стал канонической книгой о землях, что пребывают на границе ведомых нам полей (сам этот оборот впервые появился в сборнике 1919 года «Сказания трех полушарий»). История полукровки, сына эльфийской девы и английского лорда, примечательна не сюжетом своим, но атмосферой. Дансени изобразил Волшебную страну не географией, но состоянием, вневременным покоем, морем, которое приливами и отливами колеблет границу ведомых полей, – то уходит, оставляя за собой пустоши, то приближается вновь. Стремление смертных людей достичь ее – и страх, когда они обнаруживают, что эльфийская страна вовсе не похожа на представления о ней; далекий призыв рогов Эльфландии (образ, заимствованный из «Принцессы» Альфреда Теннисона и перешедший в эссе Толкина «О волшебных историях»); постепенное преображение человеческих земель…
Именно по следам Дансени пойдут все авторы, живописавшие в своих хрониках происшествия на эльфийско-человеческом пограничье: Хоуп Миррлиз («Луд-Туманный», 1926), Нил Гейман («Звездная пыль», 1997-1998), Сюзанна Кларк («Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», 2003). Эллен Кашнер, автор «Томаса Рифмача» (1990) – еще одного романа о человеке в Волшебной Стране, – заметила как-то: «Лорд Дансени указал путь всем нам».
Почему же Йейтс и Дансени? Почему ирландцы? (Даром что действие многих «Рассказов сновидца» происходит в Лондоне, а не Дублине…) Почему именно в Ирландии появятся Джеймс Стивенс и Флэнн О`Брайен, игравшие с народным творчеством и эпосом? Наконец, Джеймс Джойс, который свел в дублинские пределы всю мировую историю, накрепко связав ее ирландским же фольклором?
Видимо, прав был Йейтс: местные жители ближе к фейри. А уж потому, что встречали их, слышали о них или читали… так ли это важно? Реальность мифа для них безусловна.
Мир замирает на пороге: уже есть все предпосылки для возникновения нового жанра; почти все его ключевые элементы уже явлены. Не будет преувеличением сказать, что Уильям Моррис, лорд Дансени, даже Вагнер создавали именно фэнтези, однако – не современную.
Кто же сделает последний шаг?
(Окончание следует.)
_________________________