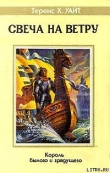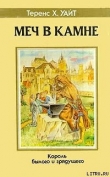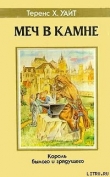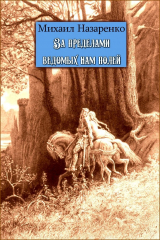
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
5. Конец эпохи
В предыдущих главах этого цикла я уже не раз упоминал о неприязни Толкина почти ко всем его предшественникам – из тех, что жили после XIV века (в отличие от анонимных авторов «Беовульфа» и «Зеленого Рыцаря»). Известно, каким разочарованием стал для юного Толкина финал Макбета, когда на Дунсинанский холм взошел не Бирнамский лес, а всего лишь армия, замаскированная ветками. Поэтому на Изенгард пошел войной самый настоящий лес, растревоженный и разгневанный набегами орков.
Но был и еще один классик английской литературы, чьи творения подталкивали Толкина к полемике – хотя, пожалуй, и не настолько прямой. Это Эдвард Спенсер, автор огромной поэмы «Королева фей» (или, во фрагментарном переводе В. Микушевича, «Королева Духов»). Говоря о нем, мы вынуждены отступить от шекспировской «Бури» на несколько десятилетий назад и вернуться к концу XVI века.
Любая страна – тем более империя – тем более Британия времен Елизаветы I – нуждается не столько в идеологии, сколько в мифе. Парадоксально, что Англия – страна, само имя которой стало синонимом слова «традиция», – столь долго страдала комплексом отсутствия собственной мифологии. С другой стороны, постоянные попытки создания этой мифологии сами по себе создали традицию, в чем мы и убедимся.
Без эльфов, конечно же, не обошлось.
Многие знатоки и ценители народных преданий, жившие в XVI-XVII веках, вспоминали о слышанных в детстве сказках, не делая особого различия между туземными духами и персонажами классической мифологии. Поэт Томас Нэш писал в своей книге «Ужасы ночи»: «Робины Добрые Малые, эльфы, феи, хобгоблины нашего времени, которые в прошлые, языческие времена в фантастическом мире Греции именовались фавнами, сатирами, дриадами, свои проделки осуществляли большей частью ночью».[9]9
См.: Н. Елина. О фольклорной традиции в драматургии Шекспира. // Шекспировские чтения. 1977. – М.: Наука, 1980.
[Закрыть] Это свидетельствует о прочности устной традиции, а равно и о том, что всерьез ее уже никто не принимает. (Никто из так называемых «образованных людей». Те, кто жил на границе ведомых нам полей, смотрели на вещи совсем по-другому. Через три века после Нэша знаменитый ирландский поэт и фольклорист Уильям Батлер Йетс спросил у старика-крестьянина, видел ли тот когда-нибудь эльфа. «Ну не докука ли мне от них», – был ответ.)
Эдмунд Спенсер был одним из тех, кто завершил великую эпоху фей. Не так, как Шекспир, уменьшивший эльфов до размера цветочного бутона, – иначе, по-своему. Шекспировские эльфы живы и, так сказать, весомы (даже если ступают по траве, не приминая ее). Спенсеровские же герои балансируют на грани аллегории, соскальзывая в двумерное пространство рисунка-миниатюры.
Парадокс заключается в том, что Спенсер не любил эльфов (elfs), предпочитая им фей (fairies). В примечании к поэме «Календарь пастуха» (1579) говорится, что «ложное представление об эльфах» должно быть «выкорчевано из людских сердец»; да и сами-то эльфы – выдумка проклятых католиков и чуть ли не искажение итальянского слова «гвельфы» (была, как вы знаете, такая политическая партия в XII-XV веках).[10]10
Цит. по: Том А. Шиппи. Дорога в Средьземелье. – СПб.-М.: Лимбус Пресс, 2003. – С. 115.
[Закрыть]
Как же человек, с такими представлениями об обитателях Волшебной Страны, мог написать один из канонических текстов, о ней повествующих? Причем такой текст, что даже Толкин – пурист из пуристов – вынужден был признать, что «Спенсер не погрешил против традиции» (эссе «О волшебных историях»).
«Королева фей» (1590-96) – одно из великих неоконченных творений. Сорок тысяч строк, составляющие шесть книг поэмы, – только половина замысла. В центре каждой книги – отважный рыцарь владычицы Глорианы, воплощающий одну из добродетелей: Святость, Умеренность, Целомудрие, Дружбу, Справедливость и Вежество. А вот что именно с ними происходит, пересказать не так уж просто. Прибегнем к помощи знатока:
«– «Королева фей» Спенсера? М-мм… – «Одна картина сменяется другой под звуки изменчивой мелодии» – так, по-моему, говаривал доктор Джонсон? Безусловно, прекрасный и интересный мир, и лично я вполне мог бы занять там какое-то место. Однако боюсь, было бы не совсем уютно приземлиться во второй части книги, где рыцарям царицы Глорианы уже приходится довольно туго – словно то ли сам Спенсер охладел тогда к своим героям, то ли сюжет вырвался из-под его опеки и зажил своей собственной жизнью, как сплошь и рядом и случается…»
Так рассуждает профессор психологии Рид Чалмерс, герой повестей Л. Спрэг де Кампа и Флетчера Прэтта о «дипломированном чародее», как раз перед тем, как отправиться в мир, созданный Спенсером. И он прав: события явно не хотели укладываться в математически рассчитанную схему, и, к примеру, целомудренная воительница Бритомарта явно заслоняет и дружных Кэмбела с Теламондом, и своего избранника – справедливого Артегаля. А начинается все с легенды о Рыцаре Красного Креста:
Он странствовал по воле Глорианы,
Он Королеву Духов звал своей;
Он в дальние наведывался страны,
А сам в душе стремился только к ней,
И взгляд её был для него ценней
Всех благ земных; и что ему препона,
Преодолеть которую трудней,
Чем пасть в бою без трепета и стона;
Он был готов сразить свирепого дракона.
И, разумеется, сражает.
Спенсероведы единодушно отмечают, что поэт вдохновлялся поэмой Ариосто «Неистовый Роланд», о которой я вскользь говорил в предыдущей статье. Однако, не уступая своему предшественнику по живости образов, Спенсер явно превосходит его серьезностью намерений. Что касается образов – позволю себе снова процитировать ехидного «Дипломированного чародея»: «Если вы как следует читали Спенсера, то должны знать, что львов тут как собак нерезаных, не считая всяких верблюдов, медведей, волков и зубров, равно как и таких представителей человеческой фауны, как великаны и сарацины. Не говоря уже о Звере-Крикуне, который и сам по себе страшилище, каких свет не видал, да еще и забалтывает людей до смерти». Поэт с удовольствием описывает и «лес, Где все еще звучали птичьи хоры, Бросая вызов бешенству небес», и змееженщину, «чьё существо – разврат»:
Лежала на земле средь комьев грязных,
Чудовищный вытягивая хвост,
Клубившийся в извивах безобразных;
Вокруг неё кишмя кишел подрост:
Змеёныши; они, как на помост,
На тулово влезали, где угодье –
Для них сосцы, отравно-сладкий грозд…
Не будем забывать, что Спенсер жил в одну из тех эпох, когда, говоря словами Гоголя, «всё не то, чем кажется»; когда испытания и искусы подстерегали человека на каждом шагу. Не случайно Фрэнсис Бэкон – младший современник Спенсера – будет утверждать, что в самой природе человека, в самом языке, на котором тот говорит, коренится немалая часть его заблуждений. В такие времена необходимо быть начеку – и иметь твердую опору.
Вот почему на первых же страницах «Королевы фей» Рыцарь Красного Креста побеждает жуткое чудовище – символ обмана; но встреченный им отшельник оказывается зловещим архимагом по имени Архимаго, который насылает видения и на самого рыцаря, и на его даму. Вот почему увиденный героями сад, столь схожий с Раем Земным, на самом деле – очередное искушение.
Постоянный выбор, постоянные ошибки и всё-таки – победа.
Спенсер более целенаправлен, чем Мэлори, который иногда (часто) позволял себе отвлечься от рыцарских и христианских добродетелей. Автор «Королевы фей» напоминает мне сразу двух своих современников – Дон Кихота и Самсона Карраско (того самого рационально мыслящего бакалавра, который победил Рыцаря печального Образа). Каждая ветряная мельница у Спенсера – это замаскированный великан, но путь автора и героев строго определен – недаром каждой песне предшествует ее краткое содержание («Вступает в битву тот, кто свят, / Нечестие поправ; / Но совратить его хотят, / И враг его лукав»). А то вдруг читатель сам не разберется. Нет, «в этом безумии есть своя система», как говорил Полоний.
Да и спенсеровская «Дульсинея» – отнюдь не абстрактный образ.
Хотя поэма и не окончена, мы знаем, каким должен быть финал: король Артур странствует со своими рыцарями в поисках королевы Глорианы, некогда явившейся ему во сне, – находит ее и вступает с нею в брак. Сюжет, безусловно, «идейно крепкий», поскольку – как было очевидно для современников – подразумевается священный союз девственной королевы Елизаветы и Британии; преемственность традиции. Каждая положительная героиня поэмы – не только воплощение очередной добродетели, но – конкретнее – добродетели именно королевы английской. (Злой колдунье Друэссе в нашем мире соответствует королева Мария Стюарт, казненная за три года до появления первых книг «Королевы фей».)
Впрочем, для читателей это не имеет особого значения – так же, как и королевский заказ на «Макбета», о котором я говорил в прошлый раз.
А вот фантасты пройти мимо Глорианы-Елизаветы не могли. Едва ли не самый известный роман Майкла Муркока (у нас еще не изданный) так и называется – «Глориана» (1978): в нем поэма Спенсера скрещена с «Горменгастом» Мервина Пика, и результат, по слухам, впечатляет. Но что Муркок! Задолго до него куда более значительный английский писатель перенес королеву Елизавету в мир фей: в цикле Редьярда Киплинга «Награды и феи» (1910) древний и мудрый дух Пак знакомит современных детей с людьми, обитавшими в Англии с древнейших времен – и вот является дама, «закутанная в плащ, скрывавший всё, кроме туфель на высоких красных каблуках. Лицо ее было полуприкрыто черной шелковой бахромчатой маской». Дама рассказывает о той, кого нынешние школьники непочтительно зовут «королевой Бесс», о ее мудрости, жестокости, сожалениях и Империи. Рассказывает в третьем лице, но мы-то понимаем, кто перед нами. Кто называет себя Глорианой…
Спенсера, конечно, не растащили на мелкие кусочки, как Шекспира, – но тот же Шекспир, между прочим, воспользовался именно той версией предания о короле Лире, который изложен в «Королеве фей». А пророчество Мерлина о грядущем возрождении Британии («Искра огня, что давно таилась среди золы, заново возродится…») явно перекликается с пророчеством о Возвращении некоего Короля на престол Гондора («Зола обратится огнем опять, в сумраке луч сверкнет…»).
Исследователи, которые занимаются историей фэнтези, называют «Королеву фей» первым истинно фэнтезийным произведением английской литературы. Сомневаюсь. Спенсер завершает традицию рыцарского романа, после него – провал. Мэлори был итогом, Спенсер стал эпилогом. Его образы и сюжеты пригодятся – в Волшебном Котле Историй ничего не пропадает, – но будет это гораздо позднее.
Но с чем и в самом деле не поспоришь – так это с утверждением о том, что Спенсер едва ли не первым поставил (и решил!) проблему языка фэнтезийного романа. Поэма написана хорошим елизаветинским английским – напомню, что именно с конца XVI века английский язык и становится «современным», – однако с некоторыми изменениями. Спенсер насытил свои строки архаизмами, зачастую искаженными, стилизованными неологизмами, а кроме того, по сути, изобрел собственную орфографию, также стилизованную под старину. (Для сравнения: Терри Пратчетт, изобретая анк-морпоркский вариант английского языка, пошел по тому же пути, только усилил комический эффект, Спенсером, конечно, не предусмотренный.)
Спенсер остался единственным – в том смысле, что последователей у него практически не нашлось. Шекспир не писал эпических поэм, а «Нимфидия» (1627) Майкла Драйтона (известная у нас преимущественно потому, что Толкин и на нее обрушил свой гнев) изображает совсем иных эльфов – скорее, выходцев из дворцовых залов, чем из Волшебной Страны.
В XVII веке сказочные аллегории нашли свою экологическую нишу: волшебства, феи, боги и прочая перешли в так называемые «маски» – развлекательные представления, какие разыгрывались при королевском дворе или в замках вельмож. Мы уже сталкивались с «масками» – вставными эпизодами «Сна в летнюю ночь» и «Бури»; да и сами эти пьесы тесно связаны с «масочным» жанром.
Для нас особенно интересен «Комос» (1637) Джона Мильтона, и отнюдь не только потому, что автор этой пьесы – один из величайших и наиболее влиятельных английских поэтов. И не только потому, что Роджер Желязны сделал одну из ремарок «маски» («Входит Комос, в одной руке у него волшебный жезл, в другой – кубок…») эпиграфом к роману «Создания Света и Тьмы», заимствовав у Мильтона не тему, а стилистический ключ. Гораздо важнее, что «Комос» облек в аллегорические одеяния древнюю легенду о юных рыцарях, которые пришли к Темной Башне, чтобы спасти свою сестру, похищенную эльфами. Легенду эту почти не узнать, да и сама Башня превратилась в зачарованный лес, – но всё же Мильтон был первым. (Строго говоря, строка «Чайлд Роланд к Башне Темной подошел» встречается уже в «Короле Лире», но там она – всего лишь обрывок песенки Тома из Бедлама.)
Фэнтези начинается там, где заканчивается аллегория, и «Комос» интересен именно потому, что не сводится к истории о том, как «невинность, вера и терпенье / Не побудили их [героев] под власть / Соблазнов чувственных попасть» (пер. Ю.Корнеева). И Дух-хранитель, как выясняется, может отвлечься от своих прямых обязанностей («В приятные раздумья погруженный, / Беседой со своею сельской музой / Увлекся я…»), и Дева, о которой забыл ангел, попадает в плен к Комосу, который отнюдь не только воплощение Сладострастия: у него есть своя философия, которой не погнушались бы и шекспировские злодеи («Лишь днем зовется грех грехом: / Что незаметно, то безгрешно»). Да и проникнуть взором сквозь колдовские обманы (вновь тема, так заботившая Спенсера!) можно не так благодаря собственным добродетелям, как с помощью волшебной травы. Да, приносит это зелье проштрафившийся Дух, но к аллегории Добродетели траву никак не приравняешь!.. И еще одна любопытная деталь: конечно, образ земной жизни как густого леса в высшей степени традиционен, вспомним хотя бы начало «Божественной Комедии». Но, как предположил Том Шиппи,[11]11
Том А. Шиппи. Дорога в Средьземелье. – С. 334.
[Закрыть] именно к строке «Комоса» – «В темнице из бесчисленных ветвей…» – восходит образ «переплетенных ветвей» Средиземья, под которыми эльфы поют о Владычице Звезд, Элберет Гилтониэль… Эльфы, кстати, пляшут и на отмелях «Комоса».
Однако не эта театральная сказка стала главной книгой Мильтона. «Творение, которому суждено было определить на несколько веков развитие английской поэзии» (по определению А. Аникста) – поэма «Потерянный Рай», которая, на первый взгляд, к фэнтези имеет весьма опосредованное отношение. Всё же история грехопадения Адама и Евы проходит, говоря словами Воланда, «по другому ведомству». Тем не менее, связь между шедевром Мильтона и нашим жанром самая прямая.
Мильтоновский Люцифер, полагающий, что «лучше быть Владыкой Ада, чем слугою Неба»,[12]12
Здесь и далее – пер. Арк. Штейнберга.
[Закрыть] не просто нарушил давнюю традицию изображения нечистой силы в английской литературе, но и создал новую. Сатана у Мильтона – не только отрицатель, но и мыслитель. Монологи его по-своему убедительны – а для многих читателей и куда более убедительны, нежели того хотел сам поэт. Полтора века спустя поэт, художник и мистик Уильям Блейк скажет: Мильтон «был прирожденным Поэтом и, сам не зная того, сторонником Дьявола». Так это или нет, вопрос спорный, но то, что именно «Потерянный Рай» положил начало весьма сомнительной переоценке образа сатаны в европейской литературе – несомненно, хотя многие исследователи (в том числе К.С.Льюис, не последняя фигура в современной фантастике) и пытались доказать, что Блейк ошибался. Мильтон, как это обычно и бывает с великими писателями, сказал больше, чем намеревался. А точнее, читатели увидели в его книге то, что были готовы (или хотели) увидеть: власть как нечто, изначально порочное, и бунт как единственно достойный путь. Слова Люцифера –«О, горе мне! Они / Не знают, сколь я каюсь в похвальбе / Кичливой, что за пытки я терплю…» – слова эти предпочли не заметить.
Неудивительно, что в изобретательном «Восстании ангелов» (1914) Анатоля Франса Люцифер (уже в ХХ веке) отказывается поднимать новое восстание против Бога, имеющее все шансы на успех: он знает, что в случае победы станет ничем не лучше Иеговы. Этой и всем подобным попыткам «реабилитациям» Сатаны, по словам С.Аверинцева, «противостоит попытка возродить традиционный образ страшного, унылого и внутренне мертвого космического властолюбца как Саурона в сказочном эпосе Толкиена «Властелин колец»».[13]13
Мифы народов мира. – М.: Советская энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 414. Добавлю, что и сверхпопулярная трилогия Филипа Пулмана «Темные начала» (1996-2000) основана на «люциферианской» мифологии Мильтона и Блейка – разумеется, донельзя упрощенной.
[Закрыть] Так что именно Мильтон стоит у истока двух полярных тенденций современной фэнтези – да и, разумеется, не только этого жанра.
Любопытны также ортодоксальные «поправки» к поэме Мильтона, предложенные Честертоном в статье с дерзким названием: «Хорошие сюжеты, испорченные великими писателями». О Люцифере там речи нет: Честертон пишет о более тонком и поэтому сравнительно менее заметном моменте. У Мильтона «Адам… вкушает от плода сознательно. Он не обманут, он просто хочет разделить несчастье Евы… Библейская мысль – все скорби и грехи породила буйная гордыня, неспособная радоваться, если ей не дано право власти, – гораздо глубже и точнее, чем предположение Мильтона, что благородный человек попал в беду из рыцарственной преданности даме. После грехопадения Адам на удивление быстро и полно утратил всякое рыцарство».[14]14
Г. К. Честертон. Писатель в газете. – М.: Прогресс, 1984. – С. 283.
[Закрыть] Честертон, по обыкновению, несколько упрощает мильтоновскую посылку, но не искажает ее. Слова его – с заменой библейских имен на фэнтезийные – можно отнести и к немалому числу современных книг.
Но Мильтон, по счастью, в первую очередь поэт, а не идеолог; именно как поэт он и повлиял на фантастику в наибольшей мере. «Восстание против Небес, – отмечает «Энциклопедия фэнтези», – изображено со множеством деталей в описании военных столкновений и работы «дьявольских орудий»… Толкин явно писал «Властелина Колец», помня о поэме Мильтона… Нынешний читатель, знакомясь с «Потерянным Раем», не может отделаться от ощущения, что некоторые эпизоды воспринимаются как современная фэнтези».[15]15
The Encyclopedia of Fantasy. / Ed. by John Clute and John Grant. – N.Y.: St.Martin’s Griffin, 1999. – P. 648 (автор статьи о Мильтоне – Грегори Фили).
[Закрыть] В самом деле: картины осады Небесного Града наполнены блистанием молний и ревом пушек, каковые суть диавольское изобретение: ангелов можно убить, только разорвав их на мельчайшие кусочки… но пушки, вместе с пушкарями, можно обезвредить, сбросив на них горы (благо ангелы, как известно, способны поражать противника с воздуха).
…битва завязалась вмиг,
Подобно буре бешеной, и вопль,
Неслыханный доселе, огласил
Все Небо; ударяя о броню,
Оружье издавало звон и лязг,
Нестройный, оглушающий раскат;
Скрипели оси медных колесниц
Неистово, и в трепет приводил
Побоища невыносимый гул.
Пронзительно свистя над головой,
Летели тучи раскаленных стрел,
Над полем битвы свод образовав
Горящий, и под куполом огня,
С напором разрушительным, войска
Сражались, друг на друга устремясь,
Неистощимой злобою кипя.
От грома содрогались Небеса;
Была б Земля уже сотворена,
Она б до центра сотряслась! Не диво!..
Вероятно, самый знаменитый образ во всей поэме, да и во всем творчестве Мильтона, – адский огонь, который пылал, «но не светил, и видимою тьмой / Вернее был, мерцавший лишь затем, / Дабы явить глазам кромешный мрак». Строки эти в свое время одобрил Пушкин: подобные выражения «мы находим… смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические» («Отрывки из писем, мысли и замечания»). Мог ли он предположить, что «зримая тьма» ХХ века настолько сгустится и будет пылать настолько черным огнем, что сказать о ней всю правду можно будет только двумя путями: не отклоняться ни на шаг от фактов, какими бы страшными они ни были, или рассказывать сказки, басни, притчи. Показывать «банальность Зла» (Х. Арендт) или истинный лик – вернее, морду – «Повелителя Мух» (У. Голдинг).
Впрочем, это – в будущем, а пока что мы вступаем в просвещенный XVIII век, когда… Но это уже совсем другая история.
_________________________
6. Strawberry Hill Forever
Когда-то мир был совсем другим, и с тех пор он успел перемениться.
Некогда все было устроено совсем не так, как сейчас; у мира была другая история и другое будущее. Даже плоть и остов его – физические законы, управлявшие им, – были не те, что нам ведомы теперь.
Джон Краули. «Эгипет»
Когда-то мир был совсем другим…
Меняется мир, и вместе с ним меняются представления о возможном, а следом – и представления о возможном в литературе.
Фантазия подчинена строгим законам, и в каждую эпоху найдется знаток, готовый указать, какие именно выдумки дозволены, соответствуют хорошему вкусу и здравому смыслу. Помните, у Эдгара По султан казнил Шахерезаду на 1002ю ночь, после того, как она поведала ему о совершенно невероятном путешествии Синдбада: о встрече с чудесами техники XIX века, в которые невозможно поверить повелителю правоверных… За что и поплатилась. «Правда всякой выдумки странней» – таков многозначительный эпиграф к рассказу По.
Но вымысел есть вымысел, а в нашей с вами реальности Белинский критиковал Гоголя и Достоевского за их фантастические повести («Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов»). Достоевский, в свою очередь, был одним из первых пропагандистов Эдгара По в России, однако отмечал, что американский мастер, несмотря на безусловную оригинальность своих арабесок, всё же уступает Гофману – тому самому Гофману, которого Вальтер Скотт упрекал за ложное понимание фантастического в литературе… Не важно, кто из них был прав и в чем именно; важно, что каждый отразил не только собственные представления, но взгляды своей эпохи на то, какой должна или не должна быть фантастика.
Особенно любопытно наблюдать за эпохами, когда резко меняются законы восприятия. Когда жанровые ожидания читателей, как северные реки в давнем скетче, «резко поворачиваются». Так произошло, к примеру, полтора десятка лет назад, когда «прорыв в фантастике», столь многими ожидавшийся (Б. Н. Стругацким в том числе), наконец произошел. Но то, что прорывом оказалось явление жанра фэнтези, порадовало не многих. «Как всегда, история повернула не туда, куда нам хочется», – заметил Б. Н. Стругацкий в интервью. Он, конечно же, прав.
В середине XVII века (а в прошлой статье мы добрались именно до этого периода) произошло нечто подобное – вернее, нечто прямо противоположное. Читатель захотел правды – или, по крайней мере, правдоподобия. Причин тому было много, и не последняя среди них – утверждение позитивной науки. Великие маги – Джон Ди, Джордано Бруно – остались в XVI столетии, их сменили Фрэнсис Бэкон, Галилей, Декарт, Ньютон. Волшебные страны оказались в небрежении – к чему они, если планета Земля безмерно распахнулась? Для Шекспира Бермуды еще были сказочным краем, для его преемников – только точкой на карте.
Начался этот процесс, разумеется, подспудно и задолго до XVII века. Уже «Утопия» (1516) Томаса Мора была не просто связана с преданиями о чудесных островах в Атлантике, – она рационализировала эти легенды, являя идеально-разумный град там, где прежде моряки и святые дивились небывалым видениям. Полтора века спустя (1650) Сирано де Бержерак с легкостью отправит повествователя на Луну, причем не на крылатом коне, как Ариосто – неистового Роланда, а на многоступенчатой ракете (это общеизвестно, а вот то, что Сирано открыл тему прогрессорства, почему-то не отмечают…). Отсюда недалеко и до «Путешествий Гулливера» (1726): сказочные образы – карлики, великаны, бессмертные старцы, говорящие животные – воссозданы со скрупулезностью прирожденного естествоиспытателя. Излишне говорить, что к Волшебной стране они отношения не имеют, хотя сто лет назад адаптированные главы свифтовской сатиры и включали в сборники волшебных сказок. Как заметил Толкин, элои и морлоки (из уэллсовской «Машины времени», если кто запамятовал) с гораздо большим правом могут войти в подобные антологии: благодаря «чарам расстояния» они по-своему чудесны.
На добрых девяносто лет волшебство исчезает из европейской литературы, – а если и присутствует, то лишь как легкая условность. Короли и цари могли одеваться на празднествах языческими богами, но даже самый упрямый фэн не назовет эти представления фэнтезийными. Последними, хотя и ненадежными оплотами чуда остаются плутовской роман, наподобие «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена (1669), и опера, где возможно всё, в том числе и воплощение шекспировских сюжетов: «Королева фей» Генри Пёрселла (1692), вопреки названию, представляет события «Сна в летнюю ночь», а не поэмы Спенсера.[16]16
Если же покинуть западную Европу и обратиться к традициям славянского мира, можно вспомнить так называемую «школьную драму», которая практиковалась и в Киево-Могилянской академии. Последний всплеск этой драматической формы – трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» (1705), в которой действуют, в числе прочих, и языческие боги. Судьба пьесы также вполне фантастична: сначала она была посвящена Ивану Мазепе, а потом – Петру I…
[Закрыть] Во Франции создавались, конечно, легкие «сказки» (contes), повлиявшие, к примеру, на ранние сказочные поэмы Пушкина. Существовала и такая специфическая литературная форма, как «алхимический роман», восходящий к мистическим манифестам розенкрейцеров: фантастика в них подчинена символике, и путешествие к центру Земли в романе Шарля де Муи «Ламекис» (1735-36) есть не что иное, как понятные для посвященных описания мистерий и Великого Деяния, сиречь производства золота. Тем не менее, и это – периферия литературы.
Дух Просвещения победил – и принес с собою, помимо разума, свободы, равенства и братства, еще и унификацию, и забвение того, что не укладывалось в рамки.
«Мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения… Эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, – всех фей гнать!.. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корм в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением».
Это издевается Гофман, которому приходилось доказывать право на свое искусство – но не на фантазию вообще. Как-никак, «Крошка Цахес» написан уже в романтическом XIX веке.
И не случайно, совсем не случайно, что в конце XVIII столетия возникла жутковатая легенда о «пророчестве Казота»: Жак Казот, один из тех, кто вернул фантастику в европейскую литературу, в 1788 году якобы предсказал и революцию, и ее кровавые деяния – но разве могли ему поверить те, кто жил для того, чтобы приблизить эпоху Разума?! (Самое же поразительное то, что пророчество это, не утратившее своей актуальности, было напечатано по-русски в сборнике готических повестей 1967 года – как раз к 50-й годовщине иной революции.)
Слово произнесено: готика. Именно под сводами готических замков родилась после долгого перерыва новая фантастика, которой суждено было повлиять на всю западную литературу последних веков. [17]17
Подробнее см.: В. Жирмунский и Н. Сигал. У истоков европейского романтизма. // Г. Уолпол, Ж. Казот, У. Бекфорд. Фантастические повести. – Л.: Наука, 1967 (сер. «Литературные памятники»); В. Вацуро. Готический роман в России. – М.: НЛО, 2002. Рекомендую также антологии: «Комната с гобеленами» (М.: Правда, 1991) и «Комната с призраком» (Н. Новгород: Деком; М.: ИМА-Пресс, 1993). Серия «Готический роман» изд-ва «Терра» содержит много интересных текстов, но чересчур эклектична.
[Закрыть]
Вот он – человек, которому мы столь многим обязаны. Знакомьтесь: Гораций Уолпол, джентльмен, не стесненный в средствах, антиквар, историк (один из первых защитников памяти оболганного Ричарда III), даровитый архитектор, мастер эпистолярного жанра, посредственный поэт и, помимо прочего, прозаик.
Неподалеку от Лондона Уолпол выстроил по собственному проекту готический замок Строберри Хилл, сиречь Земляничный Холм, причем не поленился издать его описание, причем представил свое обиталище так, что люди съезжались поглядеть на такое диво – а потом пытались его скопировать, и псевдоготические замки расплодились чрезвычайно.
Конечно же, Уолпол был не первым. Не он завел разговор об «уродливой» готике как о настоящем, высоком и своеобразном искусстве; не он поставил средневековые предания выше античных (впрочем, не по недостатку смелости: Уолпол, вопреки предостережениям друзей, защищал Шекспира и бросил вызов вкусам самого Вольтера!).[18]18
Не случайно, что в это же время в России переводные лубочные книги о Бове-королевиче и английском милорде Георге породили первые книги «славянской фэнтези» – романы М. Чулкова, В. Левшина, М. Попова.
[Закрыть]
Но Уолпол первым определил саму сущность современной фантастики.
«Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия; иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах».
Естественные поступки людей в необычных обстоятельствах. Наблюдение банальное – сейчас, но не сто сорок лет назад, когда была опубликована «готическая повесть» «Замок Отранто», предисловие к которой я процитировал.
Уолпол поясняет свою мысль: средневековый роман был насквозь неправдоподобен; роман же современный, сковав фантазию рамками обыденной жизни, стремится точно воспроизводить Природу. Но почему бы не совместить оба вида повествований – так, например, как это сделано… как это сделано в Библии! Даже «когда небо жалует людей чудесами», они всё равно остаются обычными людьми…
Современный читатель вряд ли поверит в удивительные события «Замка Отранто»: уже Вальтер Скотт, горячий поклонник Уолпола, полагал, что в повести наблюдается некоторый переизбыток фантастических происшествий. В самом деле: история начинается с того, что в день свадьбы Конрада, сына князя Манфреда Отрантского, на юношу падает невесть откуда взявшийся рыцарский шлем громадных размеров и расшибает несчастного в лепешку. «Манфред, не отрывая глаз, пристально смотрел на шлем, словно надеясь, что он окажется только видением, и был, казалось, не столько поглощен своей утратой, сколько размышлениями о том поразительном предмете, который явился ее причиной». Зловеще? Безусловно. Слегка комично? Пожалуй. Можно ли в такое поверить – даже «внутри» мира повести? Очень сомневаюсь. Но это, повторяю, взгляд пра-пра-…-внука. Первые читатели воспринимали повесть с чарующей непосредственностью, и сам автор полагал, что в «Замке Отранто» нет напыщенности, «каждый эпизод толкает повествование к развязке» и «внимание читателя непрерывно держится в напряжении».
Так оно и было. Книгой упивались; иные плакали над ней, и решительно все, по свидетельству современника, боялись по окончании чтения ложиться спать. Единственным, что мешало людям XVIII века поверить в совершенную подлинность изложенных событий, было то, что читателям прежних веков показалось бы единственной достоверной деталью, – явление св. Николая. Век Просвещения породил веру в привидения – но не в святых…
Пересказывать фабулу «Замка Отранто» долго и хлопотно: все перипетии не передашь, да и настроение повести важнее событий.
Злодей-узурпатор Манфред, его добродетельные жена и дочь, молодой крестьянин Теодор, оказавшийся законным владетелем замка, оживший портрет, и железная рука гигантской статуи рыцаря, подземелья, в которые заточают героев, и потайные ходы, которыми они (герои) убегают, припадки ярости злодеев, милосердие людей добродетельных и прочие страсти, тайны рождения, давние преступления, и новейшее детоубийство, призрак того самого железного рыцаря, дона Альфонсо, встающий над развалинами замка, и, наконец, находка старинной рукописи, в которой описаны сии страшные события, – всё это стало настолько привычным в прозе последующих времен, что читателю приходится постоянно напоминать себе: это не копия, это оригинал!