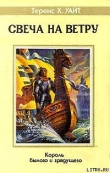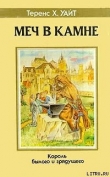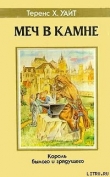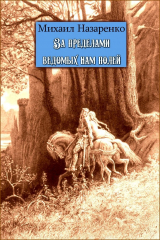
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Так сто лет спустя работал и Толкин, который отрицал какое-либо сходство «Властелина» с «Нибелунгом». «Оба кольца круглые, вот и все», – это раздраженное замечание Толкина его почитатели приняли настолько всерьез, что в новейшем 800-страничном комментарии к «Властелину Колец» Вагнер не упоминается вовсе! Между тем, истовые вагнерианцы, с Толкином знакомые слабо, обвиняют Профессора чуть ли не в плагиате. «Комбинация Вагнера и Винни-Пуха», – так высказался о «Властелине Колец» один злобный критик.
Сходство и вправду значительное, которое не объяснить тем, что оба творца опирались на одни и те же образы. Кольцо возвращается к месту своего «рождения», и заканчивается эпоха мифа, и уходят бессмертные, и приходит время людей – это Вагнер, а вовсе не северная мифология. Пагубное стремление защитить магией существующий порядок вещей – общее стремление и Вотана, и эльфов.
Но вряд ли можно найти больший контраст, чем между истинным арийцем Зигфридом и домовитыми хоббитами. У Вагнера действует Рок, у Толкина – Провидение; финал «Кольца Нибелунгов» – космическая катастрофа, финал «Властелина Колец» – «эвкатастрофа», благое завершение, по определению Толкина. Понятно, почему современным интеллектуалам ближе философия Вагнера; понятно, почему для католика Толкина она неприемлема.
К сожалению, объем статьи не позволяет мне рассмотреть другие великие мифологии Вагнера – «Тристана и Изольду» и «Парцифаля». Скажу только, что одну и ту же задачу – воплощение сложной философской концепции – композитор решил в этих операх двумя принципиально различными способами. В «Тристане» он выбрал минимальные, ключевые эпизоды легенды и сделал главным событием действа изменение чувств героев: отказ от воли, стремление к смерти (в этом Вагнер следует одновременно версии Готфрида Страсбургского и философии Шопенгауэра). В «Парцифале» же Вагнер, напротив, нарастил на основу, восходящую к Вольфраму фон Эшенбаху, совершенно новые сюжетные повороты и новых персонажей. «Тристан и Изольда» – предельная сложность при внешней бедности сюжета; «Парцифаль» – многозначность и таинственность, не вполне разгаданная.[82]82
Об отношении «Парцифаля» к легендам о Граале см.: Р. Барбер. Святой Грааль: Во власти священной тайны. – М.: Эксмо, 2006. – С. 459-478.
[Закрыть]
Воистину произошло рождение фэнтези из духа музыки: древний миф и авторская воля, актуальная метафора и чувство причастности к глубинам праистории – таков путь, открытый Вагнером. Путь, по которому мало кто осмеливается идти.
_________________________
14. Простые рассказы с волшебных холмов
Кто знает, чьи боги могущественнее – твои или мои?
Индийская пословица.
Эпиграф к рассказу Редьярда Киплинга
«Клеймо зверя» (пер. Ю. Жуковой).
В Англии прерафаэлиты работали над оксфордскими фресками, а в Индии этот год позднее прозвали Черным.
1857-й, когда вся область к югу от Дели была залита кровью, Джон Николсон пал у врат Дели («Пики Севера, мстите за Никал-Сейна!»), от Агры до Этаваха и широких вод близ Аллахабада по рекам плыли трупы, так что даже крокодилы устрашились, и от Аллахабада до Кайпура каждое дерево стало виселицей. Род Великих Моголов прервался, когда капитан Ходсон застрелил двух сыновей и внука Багадур-Шаха; в том же году сожгли счетные книги ростовщика Пуран Даса и ранили его в ногу, так что после телесной смерти злобная ростовщичья душа переселилась в хромого тигра, некоего Шер-Хана. Впрочем, Маугли в это не верил.
Можно назвать множество причин восстания сипаев (наемных солдат); историки до сих пор спорят, было ли оно подлинно народным или и вправду Мятежом, как его называли англичане, – мятежом, который не может кончиться удачей. Несомненно одно: поводом к нему стало введение новых патронов для винтовки «энфилд». Бумажный патрон, верхнюю часть которого солдаты должны откусывать, пропитали смазкой, – прошел слух, что смесью свиного и коровьего жиров. Для мусульман это было отвратительно, для индуистов к тому же грозило потерей касты.«Пожертвовать кастой дело серьезное в Индии, принести в жертву жизнь не значит ничего», – говорил знаменитый путешественник мистер Мертуэт, «который, рискуя жизнью, пробрался, переодевшись, туда, где никогда еще не ступала нога ни одного европейца». Не ищите его имя на страницах истории: это персонаж литературный, герой романа Уилки Коллинза «Лунный камень».
Восстание было подавлено в 1859 г., но помнили о нем долго; в его разгаре даже незлобивый Диккенс призывал истребить «расу, запятнавшую себя жестокостями», – и не англичан он при этом подразумевал. Исчадиями ада объявил индусов искусствовед Джон Рескин; подвиги англичан воспел Теннисон. В 1858 году британская корона, доселе действовавшая через своих представителей, официально включила Индию в состав своих владений, и вице-губернатор стал именоваться вице-королем. Девятнадцать лет спустя, в 1877 году, королева Виктория (проявившая в Черный год куда больше благоразумия, чем многие из ее подданных) была провозглашена Императрицей Индии, Кайсар-э-Хинд.
Занимательная штука – даты, особенно в романах. Английские литературоведы обратили внимание на то, когда именно происходит действие «Лунного камня», опубликованного в 1868 году[83]83
Philip V. Allingham. The Moonstone and British India (1857, 1868, and 1876).
[Закрыть]. Пролог – 1799-й, штурм Серингапатама, одно из важнейших событий в истории Ост-Индской компании. Основные события – 1848-1849, время войны с сикхами, упрочившей положение британцев в Пенджабе. Эпилог (возвращение камня в храм бога луны после восьмивекового отсутствия) – 1850, когда изгнанный правитель Пенджаба подарил королеве прославленный алмаз Кох-и-нор в честь 250-летия Ост-Индской компании. А Кох-и-Нор, по легенде, на которую Коллинз ссылается в предисловии к одному из позднейших изданий, приносит несчастье тем, кто использует его не в тех целях, для которых он был изначально предназначен.
Прекрасная симметрия – и важная мысль, должно быть, внятная современникам. Индия – не просто иная страна, но и страна непобедимая: «алмаз британской короны», который всё равно вернется на пути своя.
И, вероятно, страна магическая, даром что герои романа отрицают эти суеверия. Но всё-таки…
«Мальчуган неохотно протянул руку. Индус вынул из-за пазухи бутылку и полил из нее что-то черное, похожее на чернила, на ладонь мальчика. Потом, дотронувшись до головы мальчика и сделав над нею в воздухе какие-то знаки, сказал:
– Гляди.
Мальчик замер на месте и стоял как статуя, глядя на чернила, налитые на его ладонь…» (пер. М. Шагинян).
Мальчик глядит – и видит будущее.
Нет, не Коллинз открыл такую Индию английским читателям. Но произошло это открытие незадолго до него. Напомню: образ реального-но-магического Востока лишь постепенно проступал в культуре Нового времени[84]84
Благодарю всех, кто обсуждал со мной происхождение «колониальной литературы», как в сетевом, так и в личном общении. Среди научных трудов, на которые я опирался, назову прежде всего монографию: Dr Alex Aronson. Europe looks at India (1946).
[Закрыть].
Началось всё со сказочной Персии, которая явилась в Европу благодаря французскому переводу «1001 ночи» (издание Галлана, 1704-1717). Известно, что в оригинальных рукописях нет ни «Аладдина», ни «Али-Бабы»: эти «прибавления» переводчика (выполненные, впрочем, на основе подлинных арабских сказок) стали неотъемлемой частью целого. Случай, показательный для всей истории взаимоотношений Востока и Запада.
Благодаря Галлану Персия и близлежащие страны стали в XVIII веке излюбленными землями волшебства, местом действия и политических аллегорий («Персидские письма» Монтескье, 1721), и готических романов («Ватек» Бекфорда, 1786). Вспомним и Джиннистан из гофмановского «Крошки Цахеса» – страну, куда эмигрируют феи, спасаясь от европейского Просвещения. Но еще в «Ватеке» Индия находится за пределами картины: чародей, прибывший в Вавилонию, – «Индиец, но из страны, неведомой никому» (пер. Б. Зайцева).
В 1800-1806 годах увидел свет монументальный труд библиотекаря Британского музея Томаса Мориса «Индийские древности», из которого черпали свои познания о субконтиненте едва ли не все писатели начала XIX века – и Роберт Саути (поэма «Проклятие Кехамы», 1810), и Чарльз Роберт Метьюрин (роман «Мельмот Скиталец», 1820). «Повесть об индийских островитянах» – вставной текст из «Мельмота» – описывает чрезвычайно условный мир, но – насыщенный новыми именами и реалиями, подчас совершенно искаженными («храм черной богини Шивы…»). Роберту Саути форма романтической поэмы дала немалую свободу; он хоть и заклеймил в предисловии нечестивые языческие суеверия (что вызвало новый наплыв в Индию миссионеров), но и подарил английской литературе один из любимых сюжетов колониальной прозы[85]85
В строгом смысле слова «колониальная проза» – та, что написана жителями колоний. Но более удобный термин мне найти не удалось.
[Закрыть]: проклятие и избавление от него. В данном случае – раджа Кехама проклинает крестьянина Ладурлада, который убил сына раджи, чтобы защитить честь дочери. Примечательно, что в поэме появляется и Шива (на этот раз словоупотребление верно); описание же индуистского рая стало классическим. Но и у Саути Индия – еще одна далекая полусказочная страна, поэма же его представляет собой не столько нравоописание, сколько аллегорию: прототипом Кехамы стал… Наполеон Бонапарт, стремившийся, как Александр Македонский, покорить и Индию.
Что же потом? К середине XIX века, рост Империи вызвал уже не количественные, но качественные изменения. Те загадочные края («Здесь водятся драконы!», как писали на старых картах), которые раньше находились за пределами Ойкумены, теперь стали ее частью[86]86
Не случайно англичане, которые вернулись на родину, нажив состояние в восточных колониях (зачастую бесчестным путем), становятся персонажами сатирических произведений уже в последние десятилетия XVIII века.
[Закрыть]. Империи был брошен вызов: сможет ли она сделать эти дикие края собой («Бремя Белого Человека») и найти в искусстве такие формы, которые позволили бы осмыслить Иное, ставшее частью Своего. (Здесь и далее под «Империей» понимается не реальность, а культурный конструкт – миф, если угодно.)
На протяжении XVIII-XIX веков в британской колониальной политике боролись и переплетались два течения. «Ориенталисты» полагали необходимым сохранять культуру Индии, более того – в управлении страной учитывать местную правовую традицию. «Утилитаристы» же – истинные сыны Века Разума – полагали очевидным единство человечества и необходимость того, что сегодня мы называем глобализацией.
Генерал-губернатор Индии и, по совместительству, переводчик древнеиндийских сочинений Уоррен Гастингс полагал, что европейская система ценностей «никоим образом не приложима к языку, обычаям, настроениям и нравственным принципам, определяющим устройство общества, о котором мы ничего не знали в течение многих веков и которое уходит корнями в глубокую древность – в те времена, когда в нашей части земного шара цивилизация не сделала и первых шагов». Политика Гастингса в конце концов привела его на скамью подсудимых (1788), и обвинитель Филип Фрэнсис заявил, что в Индии необходимо «насильственное внедрение принципов политической экономии, созданных европейскими просветителями».
Подобные теоретические споры определяли судьбу империи; литература не могла не задать вопросы: что же такое Англия (по отношению к колониям)? кто такие англичане (по сравнению с не-англичанами)? Есть доля правды в утверждениях современных культурологов: Европа определяла себя, создавая образ Востока.
Конечно, сама ситуация «англичанин в чужих и чудесных краях» – не нова. В «Гулливере» Лилипутия располагалась на юго-западе от Суматры, Бробдингнег – на побережье Северной Америки, а из Лаггнегга за две недели можно добраться до Японии. Но это свидетельствует лишь о том, что Суматра и Япония в мире «Гулливера» столь же сказочны, – вовсе не о том, что Лапута и Глаббдобдриб столь же реальны. Зыбкую границу между реальными и мнимыми странами пересекает один Гулливер: ни великаны, ни гуигнгнмы в Европу не попадут, да и ни один европеец больше с ними не встретится. Разве что лилипутские овцы бродят по английским пастбищам, на благо суконной промышленности.
Теперь же и рядовой англичанин может столкнуться с чужаком, и не только экзотичным аристократом, наподобие туристов из Богемии – принца Флоризеля («Новая “Тысяча и одна ночь”» Стивенсона, 1878) или самого короля фон Ормштейна («Скандал в Богемии» Дойла, 1891). Первыми ласточками оказались всё те же брамины из «Лунного камня» – к ужасу и изумлению дворецкого Габриэля Беттереджа, англичанина из англичан: «Слыхано ли что-нибудь подобное – в девятнадцатом столетии, заметьте, в век прогресса, в стране, пользующейся благами британской конституции! Никто никогда не слыхал ничего подобного, а следовательно, никто не может этому поверить».
А затем – не менее загадочные, но еще более опасные Билли Бонс («Остров сокровищ», 1881-82: «..Посетители боялись его, но через день их снова тянуло к нему. В тихую, захолустную жизнь он внес какую-то приятную тревогу»), Дракула (1897), джинн Факраш-эль-Аамаш из «Медного кувшина» Ф. Энсти (1900), ставший очевидным прототипом куда более мирного Хоттабыча или, вернее, его брата Омара. Наконец, Уэллс сделал этот сюжетный прием основой творческого метода, основой современной фантастики: какой будет реакция человека и общества на подобное вторжение? И не так уж важно, высадились ли на Хорселлской пустоши инопланетяне или на лондонской улочке обнаружилась волшебная лавка. Напомню, кстати, что безжалостное завоевание Земли марсианами повествователь «Войны миров» прямо соотносит с колониальной политикой Великобритании.
Фантастика оказывается частью сложной системы жанров в той ветви литературы, которую можно очень условно назвать «литературой колонизаторов». Или «ориентализмом», как уже в ХХ веке было названо конструирование образа Востока в западной культуре. (Не путать с упомянутым выше политическим направлением!)
Если «Дракула» Брэма Стокера оказался, безусловно, самым влиятельным из текстов о загадочных иностранцах в Англии (марсиан иностранцами назвать все же затруднительно), то самый глубокий из них – это, вероятно, рассказ Редьярда Киплинга «Один из взглядов на вопрос» (1890). Шафиз Улла Хан, готовящий свержение британского владычества в Индии, описывает Лондон примерно так же, как лилипуты – карманы Гулливера. Или, точнее: воспринимает Лондон, как великаны – рассказы Гулливера об Англии. Рассказ очень злой – по-киплинговски; причем злость направлена против родной империи, которая стоит на грани распада. Как не вспомнить, что, по распространенному толкованию, Бандар-Логи – карикатура на британских парламентариев. «Один из взглядов на вопрос» – ключевой текст колониальной прозы. Киплинг должен был принять – и с совершенной точностью выразить – чуждую ему точку зрения, чтобы найти в ней подтверждение собственных мыслей[88]88
Отметим, что Киплинг воспользовался формой, уже существовавшей в английской литературе: еще в 1796 был опубликован роман Элизабет Гамильтон «Переводы писем индийского раджи». Сравните с образом, созданным в иной культуре: зловеще-романтичным, но отнюдь не всецело отрицательным принцем Даккаром – капитаном Немо. Любопытно, что в рукописи «Двадцати тысяч лье под водой» Немо был не индусом, а поляком, который мстил Российской империи за гибель семьи. По требованию издателя, опасавшегося осложнений с переводами Жюля Верна на русский, писатель сделал национальность и мотивы героя неопределенными.
[Закрыть].
Но самый страшный чужак в колониальной прозе – это англичанин, отказавшийся от Англии.
…Из комнаты колледжа доносится страшный крик – такой, что кровь стынет в жилах и по спине бегут мурашки; это уж как водится. Что более всего волнует в такую минуту молодого человека, услышавшего вопль? «Броситься вниз или подождать? Как истый англичанин, Смит терпеть не мог оказываться в глупом положении…» Очень характерные слова из рассказа А. К. Дойла «Номер 249» (1892, пер. Н. Высоцкой). Студент Беллингем – тот самый, что кричал, – оживляет мумию и натравливает ее на своих неприятелей.«Я не ханжа, – говорит другой персонаж, – но я всё-таки сын священника, и я считаю, что есть пределы, переступать которые нельзя». Беллингем, выдающийся знаток Древнего Египта, пределы пересек. И, в общем-то, неважно – некромантия ли подразумевается или выставление себя на посмешище. Как сказано в романе Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (2004), действие которого происходит в Англии начала XIX века, волшебник может убить человека с помощью магии, но джентльмен не станет. Напомню, кстати, что капитан Крюк (о котором мы поговорим в следующей статье) учился в Итоне: джентльмен, ставший пиратом. И он-то прекрасно понимает, насколько его нынешнее поведение недостойно выпускника Старой Школы!
Вот и контраст, важнейший контраст. С одной стороны – английский джентльмен, способный принять любое обличье, вобрать в себя любую культуру, но всегда остающийся самим собой, англичанином. Это мистер Мертуэт у Коллинза, Шерлок Холмс, киплинговский Стрикленд. С другой же стороны – злодей, который приносит зловещие черты Иного в размеренный британский быт. Полковник Гернкастль («Лунный камень»), Гримсби Ройлотт («Пестрая лента»), полковник Себастьян Моран («Пустой дом») – все они прежде всего чужаки, отщепенцы, а уж потом уроженцы Британии. Ройлотт ничем принципиально не отличается от морского хищника «львиная грива» из одноименного рассказа Дойла (где даже Холмс не сразу понял, что убийца – не человек). Не случайно Стэплтон и сэр Генри Баскервиль прибыли в Англию из западного полушария: и убийца, и жертва не здешние, с такими всё, что угодно, может случиться.
В современных постколониальных исследованиях появление персонажей, подобных названным злодеям, объясняется просто: писатели испытывали «страх и неприятие межкультурного опыта»[89]89
Nicholas Stewart. A post-colonial canonical and cultural revision of Conan Doyle’s Holmes narratives.
[Закрыть]. Это не вполне верно. Империя по определению – «межкультурный опыт», но при этом – требующий сохранения собственной идентичности. Поэтому понятие нормы так важно в текстах самых разных жанров. У дворецкого Беттереджа даже молодой мистер Фрэнклин Блэк, человек европейского воспитания, вызывает критические замечания. В классической сказке Кеннета Грэма «Ветер в ивах» (1908) стремление в чужие края – разновидность безумия. Романтичного, но безумия; естественного для Корабельной Крысы, старого моряка, но не для обитателей английской глубинки. Шерлок Холмс, разумеется, норму нарушает: потому и необходим честный служака Уотсон.
Где же проходит граница, перейти которую нельзя? Самые недальновидные из персонажей Киплинга с презрением говорят о тех, кто «отуземился» (gone native all-together), не различая следование обычаям страны и коренное, необратимое изменение сущности. В английской литературе возникает новый типаж – англо-индиец, строитель Империи. Сержант, строитель, врач – будущий герой Килпинга. Романы, изображающие его жизнь, появляются уже в 1780-90-е годы – интересно, что авторами многих заметных текстов были женщины; даже Вальтер Скотт покинул ради Индии свои любимые земли в «Дочери врача» (1827), одном из поздних романов.
Чтобы уотсоны, люди среднего звена, всерьез заявили в себе в литературе, их должно было стать много. Их и было много: количество людей на колониальной службе значительно превосходило количество вакансий на руководящих постах. Если Киплинг делит англо-индийцев прежде всего на эффективных и неэффективных работников (а в произведениях о Большой Игре разведок вводит еще один критерий оценки: «спортивность» поведения), то идеологические противники «Железного Редьярда» изобразили имперца, который работает вполне эффективно и при этом – бесчеловечно. Прямая полемика с Киплингом – рассказ Уэллса «Бог Динамо» (1894). Механик Холройд «сомневался в существовании Верховного божества, но верил в цикл Карно, читывал Шекспира и считал, что тот слабо разбирается в химии». Вполне закономерно, что он стал жертвой своего подчиненного, Азума-зи («родом откуда-то с Востока»), который уверовал в Бога Динамо. И еще более знаменитый пример – безумный мистер Куртц из «Сердца тьмы» Джозефа Конрада (1899), адепт «власти неограниченной и благотворной» для туземцев, – его дом окружен головами, насаженными на колья. Это Конго, а не Индия, но различия не принципиальны.
Самым главным вопросом задается уже Аллан Квотермейн в «Копях царя Соломона» Г. Райдера Хаггарда (1885): «Что такое джентльмен? Мне это не совсем ясно. В своей жизни я имел дело не с одним ниггером. Нет, я зачеркну это слово, оно мне совсем не по душе! Я знал туземцев, которые были джентльменами, с чем ты согласишься, Гарри, мой мальчик, прежде чем прочтешь эту книгу до конца. Знавал я также очень скверных и подлых белых, которые, однако, джентльменами не были, хоть денег у них было очень много».
Хаггард считал сохранение кодекса джентльмена необходимым, насколько возможно. Киплинг понимал, что«божий закон и людской закон – не северней сороковых» («Стихи о трех котиколовах»), «там, к востоку от Суэца, злу с добром – цена одна» («Мандалай»), «человек оказывается во власти божеств и демонов Азии, и бог Англиканской Церкви проявляет к нему весьма поверхностный интерес» («Клеймо зверя»). Тем не менее, кодекс поведения – писанный и неписанный – существует, и очевидно, какую грань перейти можно, а какую нет, какие заповеди нерушимы, а какие оказываются всего лишь общими рекомендациями. Особая этика, тесно связанная с ритуалами англо-индийского общества, но часто действующая вопреки им: ситуация, чреватая трагедиями, которые Киплинг и описывает с (якобы) холодным любопытством журналиста.
Конрад же, будучи модернистом (и иностранцем – бердичевским поляком, если кто не знает), не впитал в детстве британские кодексы, как другие викторианцы, и не проникся к ним отвращением, как поколение Первой мировой. Для его героев сохранение джентльменского поведения в «сердце тьмы» представлялось попросту невозможным. «Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества – полного одиночества, без полисмена, – на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении?» Но это уже – излет колониальной темы.
Автор «Копей царя Соломона» «с чувством глубокой симпатии посвящает [свою книгу] всем прочитавшим ее мальчикам – большим и маленьким». О «мальчишеском» пафосе колониальной литературы – да и самой Британской Империи – сказано немало; может быть, убедительнее всего – в повести Джона Краули «Вечный порядок» (1989), где тяга к приключениям и стремление к порядку порождают сюрреалистическую антиутопию вечной Империи.
Для английской литературы колониальный опыт оказался тесно связан с новым открытием Романтики. Не случайно влиятельное направление, к которому принадлежали все упомянутые выше викторианцы, так и определяется литературоведами: неоромантизм. Дойл открывает рассказ «De profundis» («Из глубины», 1892) обширным рассуждением – к сожалению, не могу привести его здесь полностью: «Покуда океаны связывают воедино огромную, широко раскинувшуюся по всему свету Британскую империю, наши сердца будут овеяны романтикой… По мере того, как раздвигались рубежи Британии, раздвигались и горизонты ее сознания… Но ничто не дается даром, и горька цена, которую нам приходится платить». А двумя годами позже Киплинг опубликует стихотворение «Королева» – парадокс о романтике технического прогресса:
И возмущался капитан:
«С углем исчезла красота;
Когда идем мы в океан,
Рассчитан каждый взмах винта.
Мы, как паром, из края в край
Идем. Романтика, прощай!»
И злился дачник, возмущен:
«Мы ловим поезд, чуть дыша.
Бывало, ездил почтальон,
Опаздывая, не спеша.
О, черт!» Романтика меж тем
Водила поезд девять-семь.
(Пер. А. Оношкович-Яцына)
В «Песне мертвых» (1893) Киплинг повторит – конечно же, по-своему, – и слова Дойла о цене, которую приходится платить.
А еще через сорок лет Набоков, выросший на Дойле и Киплинге, задумает роман о современности под заглавием «Романтический век» (опубликован как «Подвиг»).
Найдется ли магии место в эпоху технической романтики? Как ни странно, да. Соединилось несколько влияний и традиций: возрождение готических мотивов, успехи исторического языкознания и этнографии, породившие поиски индийской прародины человечества (вспомните трактат Вагнера «Вибелунги», о котором речь шла в предыдущей статье), мистическое шарлатанство Сент-Ива д’Альвейдра и Блаватской. Не менее важно и то, что авторы колониальной прозы знали, о чем пишут: чиновник Хаггард, журналист Киплинг, доктор Дойл, капитан Конрад были прежде всего честными профессионалами. Если Дойл, как он рассказал в книге «Воспоминания и приключения» (1924), бывал в местах, где людей приносили в жертву акулам и крокодилам; если он видел ихтиозавра близ острова Эгина – как же он мог не допустить удивительное в свои рассказы?
А первым, кажется, был Филип Медоуз Тейлор, рассказывавший только о реальном и возможном, но правда, как известно, всякой выдумки странней. Его роман «Признания душителя» (1839) некоторые критики называют первой художественной книгой об Индии, написанной без чувства европейского превосходства над низшей расой. Тейлор – типичный киплинговский герой (родившийся более чем за полвека до самого Киплинга!): клерк, военный полицейский, судья, инженер, художник, геолог; прекрасный знаток Южной Индии, женатый на англо-индийке в третьем поколении… Да, и писатель. Собрав по долгу службы сведения о тугах-душителях, служащих богине Смерти, он создал образ Амира Али, убийцы примерно 750 человек, который искренне считает себя невиновным посланцем судьбы. Никакой фантастики, повторяю, – но без Тейлора не было бы не только индийских глав романа Жюля Верна «За 80 дней вокруг света» (1872) и «Жрицы тугов» Дойла (1887), но и «Князя Света» Роджера Желязны (1967), и «Песни Кали» Дэна Симмонса (1985).
Книга Тейлора – лишнее доказательство того, что естественное и сверхъестественное в колониальной прозе переплелись неразрывно: и то, и другое – лишь формынеобыкновенного. Одна и та же сюжетная ситуация – старый отставник, вернувшийся в Англию, в ужасе ждет преследователей, которые должны вот-вот прибыть с Востока: Дойл использовал ее и в «Тайне Клумбера» (1883, опубл. 1888), и в «Знаке четырех» (1890). Только во втором романе Немезидой оказывается одноногий каторжник Джонатан Смолл, а в первом – ученики «Гхулаб-шаха, высшего адепта», которые едва не довели своего врага до безумия звоном «астрального колокольчика» и наконец силой внушения загнали несчастного в пропасть. Вот вам и магия – если, конечно, это можно назвать магией; но вне зависимости от антуража история – та же самая.
То, что непонятно, но познаваемо разумом, – постепенно вытесняется в литературе за пределы цивилизации, которые та постепенно переходит: на чем и основаны сюжеты. Пройдем по текстам того же Дойла: «Затерянный мир» (1912) – динозавры в амазонской сельве; «Ужас поднебесья» (1913) – чудовищные небесные твари, чьими жертвами становятся авиаторы; «Когда Земля вскрикнула» (1928) – сама планета оказывается живым существом, в чем можно убедиться, пробурив толщу ее коры; а «Ужас расселины Голубого Джона» (1910) – это подземное же доисторическое существо, обитающее в самой что ни на есть Англии, в Дербишире. А уж морские-то глубины и вовсе скрывают всё, что угодно: о том свидетельствуют и Дойл, и Уэллс, и Киплинг. Небесная высь, морская бездна, чужая страна и собственное далекое прошлое – всё страшит, привлекает и неожиданно оказывается совсем рядом. Классический ряд завершает, вероятно, повесть Уэллса «Игрок в крокет» (1936). О духе первобытного человека, который пробудился после археологических раскопок на Каиновом болоте, мог написать кто угодно в предшествующие полвека; но только Уэллс уничтожил грань времен: нет никакой разницы между древним духом злобы и ненависти – и современным нацизмом. «Чужое» оказывается своим, слишком своим; сверхъестественное возвращается к своим истокам и становится метафорой[90]90
А задолго до «Игрока» Брэм Стокер соединил все мыслимые штампы колониальной прозы в «Логове Белого Червя» (1911): тут и подземное чудовище, и древняя магия в сердце Англии, и отвратительный сластолюбивый негр…
[Закрыть].
Век разума позволил познать многое, и наука сняла завесу многих тайн. Тем интереснее примеры – их не так много, но есть, – когда наука не разрушает чудо, но создает его. «Фиаско в Лос-Амигосе» Дойла (1892): двенадцать тысяч вольт на электрическом стуле не убивают преступника, но делают его неуязвимым и бессмертным. Печальный рассказ Киплинга «Беспроволочный телеграф» (1902): во время испытания радиоприемника в умирающего аптекаря вселяется – через радиоволны? – душа умирающего аптекаря и великого поэта Джона Китса, который пишет одно из самых проникновенных своих стихотворений.
Следующая ступенька: в одном и том же тексте могут сочетаться чудеса мнимые и подлинные. «Чудо», сотворенное европейцами в «Копях царя Соломона»– лунное затмение – четыре года спустя (1889) аукнется в романе Марка Твена: «янки из Коннектикута при дворе короля Артура» спасется только благодаря столь же своевременному затмению Солнца. Я бы счел это простым совпадением, но то, что в обоих книгах есть колдуны подлинные, «туземные» (Гагула и Мерлин), чья деятельность едва не приводит к гибели героев, – это уж случайностью никак не назовешь, только влиянием[91]91
Сравните «Похитителей бриллиантов» Луи Буссенара – роман, опубликованный за год до «Копей»: у рационалистичного француза сверхъестественное отсутствует в принципе, пусть даже туземцы считают считают волю богов причиной гибели сокровищ кафрских королей. А Чарльз Годдард и Джек Лондон в «Сердцах трех» (1916, опубл. 1918), образце изящного эпигонства, возвращаются к хаггардовской схеме: мнимые чудеса и подлинные пророчества.
[Закрыть]. Для скептика Твена важно, что победа в конце концов остается за средневековой Церковью и магией Мерлина: прогрессорская деятельность Хэнка Моргана обречена с самого начала, несмотря на временные успехи.
И, наконец, чудо как таковое: рассказчик уэллсовской «Правды о Пайкрафте» (1903) делится с толстяком омерзительным рецептом прабабушки-индуски, и Пайкрафт вправду теряет вес – взлетает к потолку…
Снова Индия; но не она одна. В конце XIX века не менее часто встречается магия Египта, знакомого куда лучше (во всяком случае, дольше) и служащего перевалочным пунктом от легендарной Атлантиды к цивилизациям античности. Надо ли напоминать, что Атлантиду снова начинают активно искать именно в эти десятилетия?..
От разумно устроенного, хотя и очень странного мира – к чуду, не объяснимому ничем: вот диапазон колониальной прозы, полностью отразившийся в современной фантастике. Что же касается фэнтези, то на нее более прочих повлияли Хаггард и Киплинг – и если из романов Хаггарда вырос целый поджанр, то книги Киплинга… Однако не будем забегать вперед.
Хаггард не первым перенес действие приключенческих романов в Южную Африку, а то и в еще более экзотические земли Черного Континента. Здесь побывали герои Верна, Майн Рида, Буссенара. Однако для Хаггарда Африка была не «еще одной темой» – но частью жизни. Как личный секретарь губернатора Наталя, а впоследствии председатель суда, он был свидетелем событий, значение которых выходило далеко за пределы региона. Война с зулусами, аннексия Трансвааля – это были отнюдь не второстепенные события на краю света: падение кабинета Дизраэли и крах партии бонапартистов – вот лишь два заметных последствия. Хаггард наблюдал всё это не просто вблизи, но изнутри – тем обиднее оказался неуспех первых книг, в которых он рассказал «о недавних событиях в Зулуленде, Натале и Трансваале». «Копи царя Соломона» были написаны едва ли не из спортивного азарта: только что вышедший «Остров сокровищ» принес славу Стивенсону, и Хаггард взялся за перо в полной уверенности, что сможет не хуже.
Конечно, он себе льстил, но без такой великолепной самоуверенности не стал бы Хаггардом. Прибавим к этому прекрасное знание предмета, талант рассказчика, богатую фантазию и умение создавать яркие, запоминающиеся картины. Неудивительно, что романы об Аллане Квотермейне оказались чрезвычайно популярны; Хаггард длил серию до конца дней своих, на протяжении сорока лет.
Вопреки тому, что я выше говорил о «мальчишеской» сути британского колониального проекта, Хаггардом увлекались не только мальчишки. Согласно опросу 1906 года, девушки по всей империи предпочитали его романы книгам Киплинга и даже Дойла. А совсем недавно Майкл Муркок – отнюдь не викторианец и совсем не девушка – признал, что мистер Квотермейн повлиял на образ(ы) Вечного Героя в его книгах.